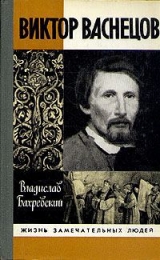
Текст книги "Виктор Васнецов"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
– Да не один, вот знакомься – Тоша Серов. Не смотри, что у него на губе пушок едва пробивается, в рисунке меня побивает. Честное слово! Ну что, сыгранем? Ахтырка на Яншин дом!
«Народ» запротестовал, играть всем хотелось. Стали делиться на две команды. В одной – Васнецовы, в другой Репин и Савва Иванович, а дети «сговорились».
Городошное сражение шло до темноты.
Потом отправились в дом пить вечерний чай, и тут затеялись, как вспоминает В. С. Мамонтов, «Литературные городки». «Каждая партия громила своего противника стихами, тут же иллюстрируемыми Васнецовым и Репиным».
Домой идти было поздно, и братья Васнецовы пошли ночевать к Репиным, в Яшкин дом. Савва Иванович их провожал.
Свет из окон выхватывал обвисшие, как тряпки, листья.
– Погибла зелень! Теперь уж не отойдет, – сокрушался Виктор Михайлович. – Ох, господи! Крестьянам-то какая беда!
– Умный хозяин – пересеет, пересадит, а тот, что на авось надеется да на бога, молебен отслужит, а зимой по миру пойдет! – Репин говорил сердито. Он писал «Крестный ход» и нагляделся всяческих святош.
– Ты не трогал бы, Илья, бога, – сказал серьезно Васнецов-старший.
– Религия, Виктор, – дурман!
– А может быть, спасение?
– Дурман, Виктор!
– Спасенье! От безверья – спасенье. От нигилизма. Нигилизм – это яловая корова, отрицание ничего еще не создало, создает – вера.
– Может, вера и создает, но только не та, что – в бога.
– Нет, в бога! Бог – это добро, а то, что против бога, то на стороне зла.
Аполлинарий, друг Степана Халтурина, слушал брата, улыбаясь, но в разговор не вмешивался.
– Вы действительно верите в бога? – спросил Виктора Михайловича Мамонтов.
– Верую.
– Это в тебе попович сидит и твоя убогая семинария! – хмыкнул Репин.
– Нет, Илья. Во мне сидит иное. Во мне сидит уважение к моим предкам. Я не думаю, что мы умнее Ярослава Мудрого, святого князя Владимира, святой княгини Ольги, что отечество наше мы любим сильнее Ильи Муромца. Это мы нынче далеко от них, а пройдет тысчонка-другая лет, и для потомков наших мы будем с Петром Первым и с Ярославом Мудрым – самыми близкими современниками.
– А ведь в этом вы правы, – согласился Савва Иванович.
– Ура! – закричали вдруг мальчики, увязавшиеся с отцом проводить гостей.
– Вы что, тоже сторонники православия? – удивился Савва Иванович.
– Нет, – сказал Сережа. – Мы сторонники господина Васнецова.
– Да когда же это вы успели покорить моих детей? – изумился Мамонтов.
– Ну, коли дети за него, так я сдаюсь, – сказал Репин. – Признаю – Ярослава Мудрого я не мудрее, а с моим тезкой Ильей мне, замухрышке, силой тоже не мериться.
– Э, нет! – не согласился Мамонтов. – Вы и есть наши три богатыря: Репин – Васнецов – Поленов.
– А Серов у нас будет Садко – Богатый Гость, – принял своего юного друга в богатыри щедрый Илья Ефимович. – Ты знаешь, что это за чудо-мальчик, Виктор?! Я сказал тебе, что он рисует, как я, а он рисует лучше меня. Не веришь?
– Не верю.
– А, понимаю! Думаешь, очередной репинский восторг. Нет, брат, этот мальчик – будущий гений. Помяни мое слово. Да ты завтра сам в этом убедишься.
Рисовали Соню, племянницу Саввы Ивановича.
Репин красками, Антон – карандашом. (Речь идет не о каком-то другом Серове, о Валентине Александровиче. Для своих Валентин Серов с детства был Антоном. Сначала называли Валентошей, потом короче – Тошей. Тоша вскоре превратился в Антона.)
Соня была удивительно хороша. Илья Ефимович, вновь влюбленный в свою милую Украину, уже грезил «Запорожцами», а потому и Соню одел в украинский костюм. На Соне мониста, она среди цветов, а в прекрасных глазах ее молодость, жизнь, по и скорбь. Она совсем недавно потеряла отца и приехала в Абрамцево к любимому дяде, чтобы побыть на людях.
Людей же в доме Мамонтовых было множество, и все такие умные, веселые, такие придумщики. Савва Мамонтов был в те годы на волне делового успеха. Дела его имели значение общерусское, общегосударственное – он построил железную дорогу сначала на юг, соединив заводы центра с каменным углем Донбасса, а потом принялся строить дорогу на Север, к потаенным за тремя печатями богатствам. К удачливым тянутся, да ведь и родственников было много.
Мамонтовы, Третьяковы, Якунчиковы, Сапожниковы, Боткины, Хлудовы, Коншины, Алексеевы – все эти купеческие роды связаны кровными узами.
Павел Михайлович Третьяков был женат на Вере Николаевне Мамонтовой. Сестра и самая близкая подруга Веры – Зинаида Николаевна в замужестве Якунчикова. Савва Мамонтов женат на Лизе Сапожниковой, отец которой был купцом первой гильдии. Брат Третьякова Сергей первым браком сочетался с Елизаветой Мазуриной. Одна из ее сестер вышла за Дмитрия Петровича Боткина, богатея и собирателя картин, другая стала женой директора Трехгорной мануфактуры, третья в замужестве носила фамилию Алексеева.
Старшее поколение деловых людей было еще и влюбленным в искусство, и неудивительно, что их отпрыски связывали свою судьбу с людьми искусства. Дочь Третьякова Вера вышла замуж за пианиста Зилотти, дочь Варвары Сергеевны Мазуриной была за ректором Академии художеств Беклемишевым, Коншины породнились с Чайковскими, их дочь Параша была замужем за Анатолием Ильчом. Кузина Елизаветы Григорьевны Мамонтовой Наталья Якунчикова – жена Поленова. Зинаида Николаевна Якунчикова (Мамонтова) была пианисткой. Одного из Алексеевых мы знаем как Станиславского, и список этот можно продолжить.
Талант зажигается от таланта. А в Абрамцеве огоньки в то неласковое лето разгорелись в пламя, которое светило многим, да и теперь еще светит удивительной памятью по себе.
– Вот! – Репин выстилал перед Васнецовым пол рисунками, своими и серовскими. – Вот! Ну, кто кого превзошел? Здесь – равны, и здесь – равны. «Яблоки и листья» – у меня все-таки лучше.
– Да нет, пожалуй, – возразил Васнецов. – У тебя – горизонтально, у Антона – квадрат, вся разница.
– Я это нарочно сказал. Молодец, мальчик! Быть ему мужем! Вот, Виктор, что такое – хороший учитель. Антон рисует все, что я рисую. Мастер от мастера перенимает, мастер у мастера научается… Мы были бы с тобой на голову выше, будь у нас в юности хорошие учителя. Нам еще с Чистяковым повезло. Антон!
В комнату вошел, помедлив, Антон. Серьезными глазами посмотрел на учителя, на Васнецова.
– Вот что, Антон, – сказал Репин. – Тебе пора к Чистякову в учебу. Мы с Васнецовым – практики, по земле ходим. А тебе надо и в сферах повитать. Чистяков – идеалист, а идеализм юной душе полезен. Не надолго, но полезен. Осенью поедешь к Чистякову.
• Но до осени еще было далеко. Вернулась из Киева Елизавета Григорьевна. В доме стало еще радостнее. Все рисовали, выдумывали, музицировали.
Разгорелся творческий огонек и в Аполлинарии. За осень и зиму он написал всего три небольших работы: «Вятский пейзаж», «Подсеку» и «Старую дорогу». Теперь же работал много, жадно. Для уединения сбегал из Ахтырки в Москву, ходил писать этюды на Воробьевы горы, в Нескучный сад… Брат достал ему работу в петербургских журналах, появились небольшие, но свои, заработанные рисованием деньги.
Такой легкой, умной, деятельной жизни не бывало еще и у Васнецова-старшего. Утро – творчеству и заботам о Саше, вечером беседы у Мамонтовых, а среди дня – хождения в природу.
Виктор Михайлович окупался в пейзажи Ахтырки с таким восторгом, словно через годы пути попал наконец в тридевятое царство.
– Саша! – признавался он жене. – Я влюблен!
– Боже мой, пропала!
– О нет, Саша! Я влюблен в тебя, в твое материнство, в абрамцевские дубы, в тощие осинки па низинах Ахтырки.
Начатые картины сил забирали много: и «Побоище», и «Ковер-самолет», и «Три царевны». Последняя картина, оставленная на потом, вдруг за последние дни двинулась, да так скоро, что хоть все отложи, а ее кончай. Удача – самый скорый работник. Ладно да складно написалась младшая царевна. И лицо, и зыбкий голубой самоцвет в ее черной простоволосой головке. У сестер короны, кокошники, а у младшей – один камешек, но как горит! И как она мила, и как печально прекрасна! Главное, живая. Она не подавляет в себе чувств. Старшие, матерые красавицы царевны все в себе, холодны, недоступны. По их лицам не поймешь, что у них в груди. А младшая рученьки заломила, страдает. Любовь к человеку изведала, самой человечьей любви…
Кое-где еще тронуть – и картина будет совсем готова. Тут бы, коли разумным быть, и поторопиться. Ведь заказная… Сбыл – и свободен для иных, высоких замыслов.
Не тут-то было. Душа не желала расставаться с картинами. Душе виднее: дитё, может, и вызрело, а все ж не родилось еще.
Доделывать, дотягивать – терпение нужно, а новые неясные, неведомые образы одолевают, теснят грудь, ворочаются в душе огромно, захватывая дух. Что они такое – ум не знает, а на сердце то радость буйная, то тоска и томление – и тоже мятущиеся.
Встал затемно. На далеком пруду у него сыскался этюд – удивительное место, с которого подглядел, кажется, саму Тишину. Он так и называл про себя этот свой этюд: «Затишье». Сосны, гладь воды, плес, лес. У природы, как у человека, тоже есть свои потаенные уголки, где она благодатно отдыхает, ничего нового не затевая. Тихая вода, неподвижный воздух, молчащий лес. Так все просто и так вечно.
Виктор Михайлович не торопился. Поставил мольберт, выдавил краски на палитру, тщательно смешал их. Потом пошел к воде, умылся, вытер лицо и руки платком. Было еще темновато, и Виктор Михайлович уже в нетерпении поглядывал на небо, которое сегодня тоже не торопилось начать увертюру…
Он пошел поглядеть, что тут, за зеленой стеной бересклета, и опять очутился у воды. Но здесь была иная вода. Черная, старая, а может быть, и древняя. По берегам росла не осока – тучный таинственный аир. Сгнившее на корню дерево, может, век тому назад ухнулось вершиною в омут, и уж не понять, что это было за дерево: черное, осклизлое – приют подводных каракатиц.
Возле корневища из-под воды что-то светилось. Похоже и на луну, и на человеческое лицо. Васнецов вздрогнул, шагнул ближе – и перевел дух: камень! Обыкновенный камень.
«Аленушкино место», – подумал он.
И удивился: с чего бы сказка припомнилась, да не больно-то любимая… В детстве ему всегда становилось страшно, когда их милая стряпуха рассказывала об Аленушке, которая с камнем на шее со дна братцу-козленку советы дает, не о себе печалуясь, о нем, о братике. Более горькой сказки не было в его детстве.
Он глянул на небо и кинулся бегом к мольберту: драгоценные полчаса обмиравшей по красоте природы истекали.
Возвращаясь домой, он не сделал крюка, чтоб постоять еще раз над старицей, но он думал… об Аленушке. Только не надо, чтобы зрители испытывали страх, который с детства поселился в нем. Нужно иное! Нужно Аленушкино сердце, которому цены нет.
И перепугался. А где жe ее взять, Аленушку? Ведь тут хорошеньким личиком не обойдешься. Здесь иная красота должна торжествовать. Красота боли и печали по всем болям и печалям. Русская исконная красота. Небось скажут, сказка, а это – жизнь. Маленький-то человек, дитя, страдает за весь белый свет куда горше взрослых – ко всему привыкших. И за отца с матерью страдают: отец мать побил, и за нищету свою, и за то, что хам да мерзавец и богат, и миром правит. Все ведь видят детские глаза, все понимают. И правду, и неправду. Для правды – радость, для неправды – опять-таки сердечко. Журавлик без крылышек.
Васнецов вышел к ржаному полю. Поле струилось под ветерком. Хорошее поле. Летний мороз, кажется, ни одного стебелька не задел. На высоком месте. Счастливый хозяин.
Васнецов повернул на тропинку, ведущую через молоденькие елочки на проезжую дорогу. Нагнулся, чтоб сорвать василек для Саши. Сорвал, а когда распрямился, увидел в пяти шагах от себя – Аленушку!
В нем так и замерло все, как перед прыжком вниз. Это была она! Она – русская душенька, на веселых, на быстрых, на девичьих ногах.
– Постой, девочка! – крикнул он ей вослед, взмахивая беспомощно руками, как перед чудо-бабочкой, прилетевшей неведомо откуда. – Я нарисую тебя!
Девочка остановилась, но решительно замотала головой.
– Да чья ты? Откуда?
Она указала рукой на деревушку, выглядывающую из-за леса, и, поскакивая то на одной, то на другой ноге, умчалась.
Уже листва на осинах обрадовалась скорой осени, уже бурьяны на пустырях свалялись, как шерсть на паршивой собаке, а в Абрамцеве готовились к самому праздничному празднику.
1 сентября – день рождения Елизаветы Григорьевны. Тут не только приготовлялись подарки, но и сами люди преображались, собирали всю свою радость, всю фантазию, призывая на помощь детство. Взрослые ведь тоже могут играть! Да как еще хорошо! Но для этого надо быть счастливым.
М. И. Копшицер в своей книге «Мамонтов» пересказывает репинскую картину, под которой подпись: «1 сентября 1879 года».
«…Детский праздник в лесу. Видна со спины фигура Елизаветы Григорьевны, исполненная какого-то вдохновенного изящества. В поднятой ее руке – горящий факел, свет которого вырывает из тьмы несколько стволов, нижние ветви деревьев, группу ребятишек, идущих следом за Елизаветой Григорьевной. Лишь один мальчик в матросском костюме (судя по возрасту – Сережа Мамонтов) забежал вперед, обернулся, и пламя освещает его лицо, глаза его блестят, он весь – воплощение чистой детской радости. Необычайная картина!.. Это какое-то „нерепинское“ полотно – это похоже на сказку».
Это и есть сказка. Взрослые, собравшиеся в Абрамцеве, чувствовали себя волшебниками. Они знать не знали, что так оно и было на самом деле: они были волшебниками.
Абрамцево роднило души.
Отведавшие общества Мамонтовых уже не могли не тянуться к их дому. А это был именно дом, неразъемное существо из Саввы Ивановича, Елизаветы Григорьевны, их детей, их друзей.
Кончался добрый 1879 год, принесший Васнецову друзей, картины, замыслы и – девочку! Самую прекрасную на белом свете девочку, потому что она была дочкой.
Под Новый год, 29 декабря у Мамонтовых на Садово-Спасской было представление.
Спектакль ставил Поленов. Взяли последний акт драматической поэмы Аполлона Майкова «Два мира». Поленов играл трагическую роль патриция Деция. Он же сочинил и музыку – песни первых христиан. Роль Лиды исполняла Елизавета Григорьевна. А душою всего предприятия был, как всегда, Савва Иванович. Он и главный декоратор, и осветитель, и гример, режиссер и сценарист, и самый восторженный ценитель актерских дарований! Он восхищался – и все играли прекрасно, на зависть профессионалам.
Распахнув крылья, принимал Виктор Михайлович новый, 1880 год. На Восьмую выставку передвижников он отправил свои самые дорогие картины. Не из тех, о которых говорят: не хуже, чем у корифеев, но свои! Совсем иные песни. Похвалы Мамонтова, Поленова, Репина кружили голову, и Васнецов ждал признания. Его иными песнями были «Ковер-самолет» и «После побоища Игоря Святославича с половцами» на сюжет из «Слова о полку Игореве».
– Снять, убрать, закопать! – острые умные глаза Мясоедова поблескивали по-мышиному.
– Что снять, Григорий Григорьевич? – спросили патриарха передвижничества.
– Маляра снять! Мертвечину!
– Васнецова? «После побоища»?
– И ковер с ушами тоже. Мы – серьезное общество, а нам сказочки для штанишек с помочами предлагают.
– Вы несправедливы, Григорий Григорьевич!
– Я?! Да я одолжение художнику делаю. Разве Мясоедов возражал против «Преферанса»? Я отнюдь не против господина Васнецова. Увольте! Я против направления. Против уничтожения самой идеи нашего Товарищества!
Мясоедов гремел, метал молнии. И у него имелись сторонники. По счастию, Крамской снова был избран в Правление. Он вместе с молодыми членами Товарищества защитил картины Васнецова.
В те годы почта из Петербурга в Москву ходила скорее, чем в наш космический век. Васнецов тоже был порох. Он тотчас отправил в Петербург заявление о выходе из Товарищества.
Год назад вздорно его покинул Куинджи, требовал вывести не только из кандидатов в Правление, но и из самого общества М. П. Клодта. С Куинджи не согласились. Теперь не согласились с Мясоедовым, да еще и потребовали от него письменного извинения перед Васнецовым.
Григорий Григорьевич извинился не без сарказма, Васнецов чуть было не подтвердил своего решения о выходе, но к нему со словами приветствия и поддержки обратились Савицкий, Репин, Максимов, Поленов…
Назревал раскол Товарищества, и Виктор Михайлович, смирив гордыню, забрал заявление назад.
О победах сладко читателям читать, победителям их победы даются такой изнурительной борьбой, что у них и сил иногда не остается для торжества. А уж когда эта победа поздняя, на краю самой жизни…
И вот тут какой вопрос возникает! Отчего же это люди всякий раз умудряются проглядеть гения? Да ладно проглядеть, они умудряются оплевать сегодня то, что завтра сами же и вознесут.
Не странно ли? Где разгадка слепоты и прямой озлобленности против нового? Может, в генах наших? Ведь стремимся от неведомо когда погибшего Золотого века к Золотому же?
Кажется, вот оно – прекрасное мгновение. С восторгом поклонились «Последнему дню Помпеи» – и довольно бы. Но приходят новые мастера, ниспровергают каноны, и вот уже ужасы Помпеи неестественны и попросту фальшивы. То, что казалось недостижимо прекрасным, вызывает снисходительную улыбку, а то и гримасу отвращения.
Зыбок наш духовный мир. Он податлив на веянья и отзывчив на бури. Но ведь и сама земля нет-нет да и содрогнется под нашими ногами.
Искусство Васнецова, как и все действительно новое и действительно прекрасное, испытано на вечность прежде всего поношением.
Первый булыжник бросил собрат по искусству, град камней – посыпался от газетной братии. Эти не только били, но били, поучая.
«Каким образом могло укрыться от художественной фантазии Васнецова, – вопрошал обозреватель „Московских ведомостей“, – что его персидский ковер не может лететь сам по воздуху? Как не пришло ему на мысль заставить нести его какого-нибудь духа, повинующегося велению волшебного слова? Перенося явления реального мира на свое полотно, художники не должны забывать, что только дух животворит и что именно этот „дух“ составляет черту, отличающую искусство от грубой действительности».
Какой дурак, не правда ли? А ведь это мнение государыни Москвы устами одного из ее велеречивых критиков. Не оставили «Московские ведомости» без внимания и «После побоища».
«Отчего же картина Васнецова производит с первого раза отталкивающее впечатление? – вопрошает критик и тотчас задает еще более утонченный вопрос: – Отчего зрителю нужно преодолеть себя, чтобы путем рассудка и анализа открыть картине некоторый доступ к чувству? – Оттого, – поясняет всепонимающий ценитель и судья, – что в картине отведено слишком много места „кадаверизму“ (трупности. – В. Б.). Оттого, что художник, избрав сюжет более или менее фантастический, поэтический, отвлеченный, не воспользовался теми средствами, которыми обладает живопись для передачи таких сюжетов. Картина Васнецова напоминает стихи, переданные прозой».
И все-таки у критика не поднимается рука совершенно изничтожить это странное произведение, где все действующие лица, кроме птиц, мертвы. Он оговаривается: «Картина эта лучше, нежели первое ее впечатление. Во всяком случае, она заслуживает внимания для характеристики г. Васнецова. В ней начинает уже звучать то, что немцы называют „Stimmung“ – „настроение“».
«Современные известия» высказывались не лукавя: «Ни лица убитых, ни позы их, ни раны, наконец, ничто не свидетельствует здесь ни о ярости боя, ни об исходе его. Искренне уважая талант почтенного художника, мы крайне удивлены, зачем это он потратил такую массу времени и красок на эту невыразительную вещь».
«Молва» была еще более категорична: «Мы прямо скажем Васнецову, что из внутреннего содержания летописи ни духа ее, ни смысла не попало в его картину. Васнецов художник талантливый, но молодой, ему много надо трудиться, в особенности много надо мыслить и чувствовать».
Но та же «Молва» к «Ковру-самолету» относилась вполне терпимо: «Полет ковра выполнен весьма удачно, – констатировал критик и тотчас оговаривался, – но на фигуре стоящего на нем витязя и вокруг нее не ощущается ни малейшего движения воздуха».
«Новое время» соглашалось с «Молвой»: «Более, чем „Битва с половцами“, нам на этот раз понравился у г. Васнецова его „Ковер-самолет“, который действительно летит, и если впечатление, оставляемое им, не совсем удовлетворительно, то причину следует искать в воздухе и пейзаже, которые действительно сильно прихрамывают в картине: нет прозрачности, нет воздушной перспективы, но замысел очень удачен».
Из вполне положительных можно привести, пожалуй, только отзыв «Всемирной иллюстрации», критик которой писал о «Побоище»: «Картина исполнена превосходно. В техническом отношении В. Васнецов сделал громадный шаг вперед. Это-то, собственно, и подкупает некоторых специалистов-техников в пользу картины. Но, кроме техники, художник обнаружил в этой картине много вкуса и известную фантазию, известное представление, которое, если и не доведено до поэтической силы, до полной гармонии с текстом, то, во всяком случае, навевает нечто из сказаний о богатырском эпосе и о тех битвах, какие относятся к сказочной старине». А что же Стасов?
Молчал, ибо не признал за существенное. Даже не выругал: сказки – не реализм, тут пи борьбы, ни идейности. Серьезная критика, как всегда, до детского жанра не снисходила.
И ведь не впервой! Белинский по сказкам Пушкина определил, что это закат таланта!
Стасов не только не приметил новаторской сущности живописи Васнецова – по своей тенденциозности он, видимо, был близкая родня Мясоедову, но после долгого молчания еще и разнес все скопом и не без злорадства.
«Все „богатыри“ на полях сражения, на распутье, в волшебном полете, в раздумье и т. д., – объяснил он своим читателям, – уже вовсе ничего не стоили у русских живописцев. Талант даровитый, хороший художник, как Васнецов, становился неузнаваемым, когда принимался за русскую седую древность и, вместо чудных витязей из „Слова о полку Игореве“ или из русских былин и сказок, представлял только каких-то неуклюжих, ровно ничего нам не говорящих топорных натурщиков, нагруженных кольчугами и шлемами».
Все это Владимир Васильевич позабыл во времена великой славы Васнецова. В своей большой статье о нем непонимание новых сказочных сюжетов было переложено на… Крамского! Процитировав письмо Крамского Репину о «Витязе» – «какой мотив испорчен», – Стасов драматически восклицает: «Не странность ли это изумительная? Такому верному, такому глубокому, такому меткому художнику-критику, как Крамской, и вдруг так страшно ошибиться!.. В этом случае (а этот случай был довольно редкий и необычайный) мы с Крамским не сходились и спорили… Я стоял именно за „Витязя“… Радуюсь тому, что судьба дала мне не ошибиться в оценке Васнецова при самом начале нового его поприща…»
Да, Крамской не одобрил «Витязя», но то был первый вариант картины, второй, всем нам известный и любимый нами, был написан через пять лет, в 1882 году. Что же касается картин, выставленных на VIII выставке, Иван Николаевич писал Репину: «Трудно Васнецову пробить кору рутинных художественных вкусов. Его картина не скоро будет понята. Она то правится, то нет, а между тем вещь удивительная». Это сказано о «После побоища», которую Стасов и через двадцать лет не понял. В той самой статье 1898 года он еще раз отрецензировал картину, а вот что мы читаем в этой уже устоявшейся стасовской оценке: «Мне и до сих пор кажется, что нельзя эту картину признать „капитальной“: она не выполняет вполне своей задачи, всей ее ширины и глубины, и главным образом представляет лишь собрание интересных, изящных и художественных подробностей древнерусского и древнеазиатского мира. Сами люди, их характеры, натуры, типы всего менее играют тут роли. Сильного, характерного выражения злобы, ярости, остервенения, мрачности, горячности, энергии – ничего подобного ни на одном лице и ни в одной позе русского или половчанина не нарисовалось. Ни один из бывших сражающихся ни с кем другим не сцепился и не переплелся, как это непременно должно было случиться в свирепой рукопашной схватке дикарей…»
Не понял Стасов замысла картины, ее былинного стиля, ее духовной мощи, ее настроения. Он, видимо, по природе своей не понимал драматизма покоя, величия покоя, его особой страсти. Как тут не вспомнить оценок Стасова репинской «Софьи», Репин и попенял критику за новую его слепоту.
20 марта 1880 года Илья Ефимович писал Владимиру Васильевичу:
«Поразило меня Ваше молчание о картине Васнецова „После побоища“ – слона-то Вы и не приметили, говоря „ничего тузового, капитального“ нет, я вижу теперь, что совершенно расхожусь с Вами во вкусах; для меня это необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь, таких еще не бывало в русской школе; если наша критика такие действительно художественные вещи проходит молчанием, я скажу ей – она варвар, мнение которого для меня более неинтересно; и не стоит художнику слушать, что о нем пишут и говорят, а надобно работать в себе запершись; даже и выставлять не стоит…»
Ну а что же публика? Мы зачастую наблюдаем картину: критика ругает – публика в восторге, критика льет елей – публика отворачивается. Устроители выставки, после скандала с Мясоедовым, отнеслись к картинам Васнецова с почтением и выделили им отдельный зал. Зрители могли побыть наедине с картинами, проникнуться их настроением. Обратимся к самому пристрастному, но и к самому внимательному свидетелю. Вот что писал о московской выставке И. Н. Крамскому П. М. Третьяков: «Публика вообще осталась очень недовольна нынешней выставкой, и только исключительно одна Ваша картина („Лунная ночь“. – В. Б.) пользовалась симпатией ее. К картине Маковского („Толкучий рынок в Москве“. – В. Б.) полнейшее равнодушие. Ге весьма не одобряют („Милосердие“ – картину автор уничтожил. – В. Б.), Васнецова „Поле“ менее образованные не понимают; образованные говорят, что не вышло; над „Ковром“ смеются, т. е. насмехаются и те и другие. Репин („Проводы новобранца“. – В. Б.) положительно всем без исключения более нравится „Софьи“, но и только; сюжет одобряют. О Куинджи, т. е. о его отсутствии, и те горюют, которые осуждали его „Щель“ (не мое название, а той же публики) и „Березовый лунный день“…»
Речь идет о «Закате солнца в лесу» и о «Березовой роще». Куинджи, выйдя из Товарищества, в 1880 году в помещении Общества поощрения художников выставил одну свою картину «Лунная ночь на Днепре». И Петербург впервые в истории отечественной живописи встал в очередь, чтоб поглядеть на небывалое диво, па сказку наяву.
Вот так был встречен зрителем и критикой богатырский эпос Виктора Михайловича Васнецова.
Публичное поношение художника не смутило Павла Михайловича Третьякова. Картину «После побоища» он купил еще в Петербурге за пять тысяч, кстати, картину собирался приобрести великий князь Владимир, но Васнецов предпочел, чтобы его детище было у Третьякова.
А что же «Ковер-самолет»? Ведь это одна из трех картин для кабинета Правления Донбасской железной дороги.
Возможно, под впечатлением всеобщего неодобрения главные пайщики дороги решили вообще не украшать кабинета.
Савва Иванович Мамонтов, хоть и был заказчиком и аванс давал, ссориться с членами правления не стал.
Дело вскоре уладилось. «Трех сестер подземного царства» приобрел его брат Анатолий Иванович, «Ковер-самолет» купил М. С. Рукавишников (перед революцией он подарил картину Нижнему Новгороду), а Савва Иванович стал «владельцем» «Битвы русских с половцами», последней части триптиха, которую Виктор Михайлович закончил в 1881 году.
Картину эту очень ценили в доме Мамонтовых, и особенно дети. «Вспоминается… старый швейцар нашего дома, Леон Захарович, – писал в своей книге о русских художниках Всеволод Саввич, – который любил, выпроваживая нас из столовой, ворчать: „Ну, чего вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителями – русские или татары“».
Это особая тема: Васнецов и дети. Мы к ней еще вернемся.
Заканчивая же разговор о первых эпических картинах Васнецова, приведем еще одно высказывание, относящееся к 1896 году. В журнале «Живописное обозрение» была помещена гравюра с картины «Поле битвы». (Как ее только не называли!)
«В этой картине, – объяснял критик читателям, – художник вдохновлен певцом „Слова о полку Игореве“… Вот на переднем плане молодой герой, красавец юноша, с восторгом бившийся и павший за святую Русь, – встретивший горькую чашу смерти с прекрасною улыбкою. А вот налево от него и старый, матерый богатырь, могучий и ростом и силою. Горделиво и осанисто раскинулся он во всем величии своей падшей славы на груде вражеских тел».
Сироп о староотечественных богатырях и густ, и чрезмерно сладок, но зато полностью отвечал официальным настроениям.
– Не читай ты газет! – вырвалось у исстрадавшейся Александры Владимировны. – Павел Михайлович да Савва Иванович лучше знают, что хорошо, что плохо.
Васнецов сидел в деревянном, жестком кресле, согнувшись, подперев щеку рукою, которую он упирал в колено.
Газеты аккуратной стопкою лежали на закрытом ящике с красками.
– Да я и рад бы не читать, но… Саша! Ну, как же так! Где глаза-то у людей?
– Если б такие картины из Парижа привезли, не проахались бы, а тут – свое. Да еще и не петербургское.
– В Петербурге меня никогда не поймут! Петербург – немец. Но у меня и на москвичей надежды нет после писаний!
Позвонил колокольчик.
– Почтальон! – озаботилась Александра Владимировна. – Письмо тебе, Витя! Ты к сердцу-то не принимай близко. Нынче ругают, завтра хвалить будут. Ты же сам говоришь.
– От Чистякова! – сказал он, положил письмо на газеты, спохватился, взял, переложил на стол. – Веришь ли, Саша, – страшно. Чистяков ни хитрить не станет, ни жалеть.
– Может, погуляем? – предложила Александра Владимировна. – А письмо подождет.
Васнецов засмеялся.
– Выдюжим, Владимировна! Все выдюжим. Вскрыл конверт, развернул письмо, читать начал вслух.
– «В прошлое воскресенье собрался я побывать на выставке В. В. Верещагина, на Передвижной и, кстати, на Вашей, но почему-то попал прямо на Вашу, и уже на верещагинскую не попал, как ни старался. Вы, благо-род… – голос прервался, – благороднейший, Виктор Михайлович, поэт-художник…»
Теперь он читал про себя, не веря глазам, бумаге, солнцу!
«Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня…»
– Виктор, что же ты замолчал? – воскликнула Александра Владимировна.
Он протянул ей письмо:
– Читай, что-то глаза застилает.
– «Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня», – прочитала Александра Владимировна и… расплакалась.








