Стихотворения
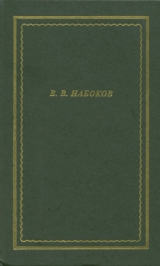
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS» {*}
243. К СВОБОДЕ {*}
Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
и заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит всё та же ночь.
3(16) декабря 1917; Крым
244. НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ {*}
Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим – я и тень моя.
Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.
Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.
8 апреля 1919; Севастополь
245. ГЕРБ {*}
Лишь отошла земля родная,
в соленой тьме дохнул норд-ост,
как меч алмазный, обнажая
средь облаков стремнину звезд.
Мою тоску, воспоминанья
клянусь я царственно беречь
с тех пор, как принял герб изгнанья:
на черном поле звездный меч.
24 января 1925; Берлин
246. ВЕРШИНА {*}
Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.
Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.
Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней
приметы, с детства дорогие,
равнины северной моей.
Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
всё то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?
31 августа 1925; Фельдберг (Шварцвальд)
247. ЛИЛИТ {*}
Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.
Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».
От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы – и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула – и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.
В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда», – промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. «Впусти», —
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти», – и козлоногий, рыжий
народ всё множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
1928; Берлин
248. СНЕГ {*}
О, этот звук! По снегу —
скрип, скрип, скрип —
в валенках кто-то идет.
Толстый крученый лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)
Салазки сзади не тащатся —
сами бегут, в пятки бьют.
Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.
Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.
<7 февраля> 1930; Берлин
249. ФОРМУЛА {*}
Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.
Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.
Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,
мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец
в хрустальнейшем застое,
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.
<5 апреля> 1931; Берлин
250. НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК {*}
Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости.
Он говорит, что жизнь земная —
слова на поднятой в пути —
откуда вырванной? – странице
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенный птицы
чрез светлый зал из ночи в ночь.
Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах и честь
осмеливаюсь предпочесть.
1 июля 1931; Берлин
251. БЕЗУМЕЦ {*}
В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:
«Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.
Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.
Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, Соседу непослушной.
И счастие так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.
Но иногда – другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще – фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».
<29 января> 1933; Берлин
252. ОКО {*}
К одному исполинскому оку
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведен человек.
И, на землю без ужаса глянув
(совершенно не схожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),
он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;
и, конечно, не угол столовой
и свинцовые лица родных —
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.
Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом,
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?
1939; Париж
253. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ {*}
В последний раз лиясь листами
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой
до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,
если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.
<5 октября 1952>; Итака, Нью-Йорк
254. КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО {*}
Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.
О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.
28 декабря 1959; Сан-Ремо
255. С СЕРОГО СЕВЕРА {*}
С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.
Всё, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово —
зеленоватого,
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рожествено.
20 декабря 1967; Монтрё

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ
256. ПРОГУЛКА С J.-J. ROUSSEAU [11]11
Ж.-Ж. Руссо (фр.). – Ред.
[Закрыть] {*}Посв<ящается> Александру Николаевичу Бенуа
Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах —
отраженья дельфинов и статуй:
он идет по аллее стрельчатой
с маргариткой и книгой в руках;
и, мечтая о новом «Emile»,
он любуется стройностью сада.
Средь притворств витьеватых – отрада —
этот строгий, размерный стиль.
У фонтана – прямые партеры.
Чуть насмешливо смотрит Rousseau,
как жеманно играют в cerceau [12]12
Серсо (фр.). – Ред.
[Закрыть]
две маркизы и два кавалера.
Январь 1917
257. ЗИМНЯЯ НОЧЬ {*}
1
Зимнею лунною ночью молчанье
Кажется ровным дыханьем небес…
В воздухе – бледных лучей обаянье…
Благословенные лунным сияньем,
Дремлют аллея, и поле, и лес…
2
Лыжи упругие сладко скрипят;
Длинная синяя тень провожает…
Липы, как призраки черные в ряд,
Странные, грустные, в инее спят…
Мягко сугробы луна освещает.
3
Царственно круглое белое пламя
Смотрит на поле, на снежную гладь…
Зайца спугну за нагими кустами;
Гладь нарушая тройными следами,
Он пропадет… и безмолвно опять.
4
Нивой пойду… Беспредельна она…
Воздух хрустально-морозный целую…
Небо – сиянье, земля – тишина…
В этом безмолвии смерти и сна
Ясной душой я бессмертие чую.
<Март 1917>
258. РЕВОЛЮЦИЯ {*}
Я слово длинное с нерусским окончаньем
нашел нечаянно в рассказе для детей,
и отвернулся я со странным содроганьем.
В том слове был извив неведомых страстей:
рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
стеклянные глаза убитых лошадей,
кривые улицы, зловещие строенья,
кровавый человек, лежащий на земле,
и чьих-то жадных рук звериные движенья…
А некогда читать так сладко было мне
о зайчиках смешных со свинками морскими,
танцующих на пнях весною, при луне!
Но слово грозное над сказками моими
как пронеслось! Нет прежней простоты:
и мысли страшные ночами роковыми
шуршат, как старые газетные листы!
<1917>
259. «Вечер тих. Я жду ответа…» {*}
Вечер тих. Я жду ответа.
Светит око Магомета.
Светит вышка минарета
На оранжевой черте.
Безрассудно жду ответа,
К огневой стремясь мечте.
Муэдзина песнь допета.
Розы дымки, розы света
Увядают в высоте.
Я взываю. Нет ответа…
2 августа 1918
260. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН {*}
(Памяти Пушкина)
Он здесь однажды был. Вода едва журчит.
На камне свет лежит белеющим квадратом.
Шныряют ласточки под сводом полосатым.
Я чую прошлое: но сердца не пленит
Фонтана вечный плач; ни страшные виденья,
Ни тени томных жен, скользящих меж цветов,
Ни роскошь темная тех сказочных веков,
Мне ныне чудятся и будят вдохновенье.
О нет! Иных времен я слышу тайный зов.
Я вижу здесь его в косой полоске света, —
Густые волосы и резкие черты
И на руке кольцо, не спасшее поэта.
И на челе его – тень творческой мечты.
В святом предчувствии своих грядущих песен
Он – тихий – здесь стоял, и – как теперь, – тогда
Носились ласточки, и зеленела плесень
На камнях вековых, и капала вода.
18 августа 1918; Бахчисарайский дворец
261. РОССИЯ {*}
Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье…
Я дивно одинок. Ни звука, ни луча…
Ночь за оконницей безмолвна, как изгнанье,
черна, как совесть палача.
Мой рай уже давно и срублен, и распродан…
Я рос таинственно в таинственном краю,
но Бог у юного, небрежного народа
Россию выхолил мою.
Рабу стыдливую, поющую про зори
свои дрожащие, увел он в темноту
и в ужасе ее, терзаньях и позоре
познал восторга полноту.
Он груди вырвал ей, глаза святые выжег,
и что ей пользы в том, что в тишь ее равнин
польется ныне смрад от угольных изрыжек
Европой пущенных машин?
Напрасно ткут они, напрасно жнут и веют,
развозят по Руси и сукна, и зерно:
она давно мертва, и тленом ветры веют,
и всё, что пело, сожжено.
Он душу в ней убил. Хватил с размаху о пол
младенца теплого. Вдавил пятою в грязь
живые лепестки и, скорчившись, захлопал
в ладоши, мерзостно смеясь.
Он душу в ней убил – всё то, что распевало,
тянулось к синеве, плясало по лесам,
всё то, что при луне над водами всплывало,
всё, что прочувствовал я сам.
Всё это умерло. Христу ли, Немезиде
молиться нам теперь? Дождемся ли чудес?
Кто скажет наконец лукавому: изыди?
Кого послушается бес?
Всё это умерло, и всё же вдохновенье
волнуется во мне, – сгораю, но пою.
Родная, мертвая, я чаю воскресенья
и жизнь грядущую твою!
5 (18) марта 1919
262. АКРОПОЛЬ {*}
Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.
Я рад всему. Струясь в Эректеон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след – от солнца синий.
Во мглу, во глубь хочу на миг сойти,
там, чудится: по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый
в певучем сне таинственно летишь…
О, как свежа, благоговейна тишь…
в святилище, где дышит тень оливы!
7 июня 1919; Англия
263. ПАНИХИДА {*}
Сколько могил,
Сколько могил,
Ты – жестока, Россия!
Родина, родина, мы с упованьем,
Сирые, верные, греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные.
Хватит ли сил?
Хватит ли сил?
Ты давно ведь ослепла…
В сумрачной церкви поют и рыдают.
Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют
Облаком черного пепла.
Капает воск,
Капает воск
И на пальцах твердеет.
Стонет старик пред иконою смуглой.
Глухо молитву поют; звук тяжелый и круглый
Катится, медлит, немеет…
Капает воск,
Капает воск,
Как слеза за слезою.
Плещет кадило пред мертвым, пред гробом.
Родина, родина! Ты исполинским сугробом
Встала во мгле надо мною.
Мрак обступил,
Мрак обступил…
Неужели возможно
Верить еще? Да, мы верим, мы верим
И оскорбленной мечтою грядущее мерим…
Верим, но сердце – тревожно.
Сколько могил,
Сколько могил,
Ты – жестока, Россия!
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем,
Сирые, верные, – греем последним дыханьем
Ноги твои ледяные.
<1919>
264. У КАМИНА {*}
Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.
И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.
Серафимом незримым согреты,
оживают слова как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;
воскрешаю я всё, что, бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня…
13 марта 1920
265. БЕЖЕНЦЫ {*}
Я объездил, о Боже, Твой мир,
оглядел, облизал, – он, положим,
горьковат… Помню пыльный Каир:
там сапожки я чистил прохожим…
Также помню и бойкий Бостон,
где плясал на кабацких подмостках…
Скучно, Господи! Вижу я сон,
белый сон о каких-то березках…
Ах, когда-нибудь райскую весть
я примечу в газетке раскрытой,
и рванусь, и без шапки, как есть,
возвращусь я в мой город забытый!
Но, увы, приглянувшись к нему,
не узнаю… и скорчусь от боли;
даже вывесок я не пойму:
по-болгарски написано, что ли…
Поброжу по садам, площадям,
большеглазый, в поношенном фраке…
«Извините, какой это храм?»
И мне встречный ответит: «Исакий».
И друзьям он расскажет потом:
«Иностранец пристал, всё дивился…»
Буду новое чуять во всем
и томиться, как вчуже томился…
13 мая 1920
266. ПОЭТ {*}
Являюсь в черный день родной моей земли,
поблекшие сердца в пыли поникли долу…
Но, с детства преданный глубокому глаголу,
нам данному затем, чтоб мыслить мы могли,
как мыслят яркие клубящиеся воды, —
я всё же, в этот век поветренных скорбей,
молюсь величию и нежности природы,
в земную верю жизнь, угадывая в ней
дыханье Божие, лазурные просветы,
и славлю радостно творенье и Творца,
да будут злобные, пустынные сердца
моими песнями лучистыми согреты…
Начало 1920-х гг.
267. РОССИИ {*}
Не предаюсь пустому гневу,
не проклинаю, не молю;
как изменившую мне деву,
отчизну прежнюю люблю.
Но как я одинок, Россия!
Как далеко ты отошла!
А были дни ведь и другие:
ты сострадательной была.
Какою нежностью щемящей;
какою страстью молодой
звенел в светло-зеленой чаще
смех пробуждающийся твой!
Я целовал фиалки мая —
глаза невинные твои, —
и лепестки, всё понимая,
чуть искрились росой любви…
И потому, моя Россия,
не смею гневаться, грустить…
Я говорю: глаза такие
у грешницы не могут быть!
Начало 1920-х гг.
268. ТИХАЯ ОСЕНЬ {*}
У самого крыльца обрызгала мне плечи
Протянутая ветвь. Белеет небосклон,
И солнце на луну похоже, и далече,
Далече, как дымок, восходит тонкий звон,
Вон там, за нежно пожелтевшим
Сквозным березняком, за темною рекой…
И сердце мягкою сжимается тоской,
И, сетуя, поет, и вторит пролетевшим
Чудно-унылым журавлям,
За облаками умолкая…
А солнце круглое чуть тлеет; и такая
Печаль воздушная блуждает по полям,
Так расширяется, и скорбно, и прекрасно,
Полей бледнеющая даль,
Что сердцу кажется притворною, напрасной
Людская шумная печаль.
<20 февраля 1921>
269. «Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей…» {*}
Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей.
Уж полдень. Рощицы березовой опушка
И солнце мокрое.
Задумчиво кукушка
Считает золото, что капает с ветвей,
И рада сырости пятнистая лягушка,
И тонет в капельке уродик-муравей,
И скромно гриб стоит, как толстый человечек,
Под красным зонтиком, и зыблется везде
Под плачущей листвой сеть огненных колечек,
А в плачущей траве – серебряной звезде
Ромашки – молится неистово кузнечик,
И, по небу скользя, как будто по воде,
Блистает облако…
<20 февраля 1921>
270. РОДИНА {*}
Как весною мой север призывен!
О, мятежная свежесть его!
Золотой, распевающий ливень,
А потом – торжество… торжество…
Облака восклицают невнятно.
Вся черемуха в звонких шмелях.
Тают бледно-лиловые пятна
На березовых светлых стволах.
Над шумливой рекою – тяжелой
От лазури влекомых небес —
Раскачнулся и замер веселый,
Но еще не уверенный лес.
В глубине изумрудной есть место,
Где мне пальцы трава леденит,
Где, как в сумерках храма невеста, —
Первый ландыш, сияя, стоит…
Неподвижен, задумчиво-дивен
Ослепительный, тонкий цветок…
Как весною мой север призывен!
Как весною мой север далек!
<27 марта 1921>
271. МОЯ ВЕСНА {*}
Всё загудело, всё блеснуло,
так стало шумно и светло!
В лазури облако блеснуло,
как лебединое крыло.
И ло́снится, и пахнет пряно
стволов березовых кора,
и вся в подснежниках поляна,
и роща солнечно-пестра.
Вот серые, сырые сучья,
вот блестки свернутых листков…
Как спутываются созвучья
гремящих птичьих голосов!
И, многозвучный, пьяный, вольный,
гуляет ветер, сам не свой.
И ухает звон колокольный
над темно-синею рекой!
Ах, припади к земле дрожащей,
губами крепко припади
к ее взволнованно звенящей,
благоухающей груди!
И, над тобою пролетая,
божественно озарена,
пусть остановится родная,
неизъяснимая весна!
<1 мая 1921>
272. ПЕТЕРБУРГ {*}
Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, —
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падший властелин,
он умер, скорбен и один…
О город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне…
О город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?
Дома скосились, почернели,
прохожих мало, и они
при встрече смотрят друг на друга
глазами, полными испуга,
в какой-то жалобной тоске,
и все потухли, исхудали:
кто в бабьем выцветшем платке,
кто просто в ветхом одеяле,
а кто в тулупе, но босой.
Повсюду выросла и сгнила
трава. Средь улицы пустой
зияет яма, как могила;
в могиле этой – Петербург…
Столица нищих молчалива.
В ней жизнь угрюма и пуглива,
как по ночам мышиный шурк
в пустынном доме, где недавно
смеялись дети, пел рояль
и ясный день кружился плавно —
а ныне пыльная печаль
стоит во мгле бледно-лиловой;
вдовец завесил зеркала,
чуть пахнет ладаном в столовой,
и, тихо плача, жизнь ушла.
Пора мне помнится иная:
живое утро, свет, размах.
Окошки искрятся в домах,
блестит карниз, как меловая
черта на грифельной доске.
Собора купол вдалеке
мерцает в синем и молочном
весеннем небе. А крутом —
числа нет вывескам лубочным:
кривая прачка с утюгом,
две накрест сложенные трубки
сукна малинового, ряд
смазных сапог, – иль виноград
и ананас в охряном кубке,
или, над лавкой мелочной, —
рог изобилья полустертый…
О, сколько прелести родной
в их смехе, красочности мертвой,
в округлых знаках, в букве ять,
подобной церковке старинной!
Как, на чужбине, в час пустынный,
всё это больно вспоминать!
*
Брожу в мечтах, где брел когда-то.
Моя синеющая тень
струится рядом, угловато
перегибаясь. Теплый день
горит и ясно и неясно.
Посередине мостовой,
седой в усах, городовой
столбом стоит, и дворник красный
шуршит метлою. Не горя,
цветок жемчужный фонаря,
закрывшись сонно, повисает
на тонком, выгнутом стебле.
(Он в час вечерний воскресает,
и свет сиреневый во мгле
жужжит, втекая в шар сетистый,
и мошки ластятся к стеклу.)
Торчит из будки, на углу,
зеленовато-водянистый
юмористический журнал.
Три воробья неутомимо
клюют навоз. Проходят мимо
посыльный с бляхой, генерал;
в носочках лунных франт дебелый;
худая барышня в очках;
другая, в шляпе нежно-белой
и с завитками на щеках,
чуть отуманенных румянцем;
газетчик; праздный молодец;
в галошах мальчик с пегим ранцем;
шаров воздушных продавец
(знакомы с детства гроздь цветная,
передник, ножницы его).
Гляжу я, всё запоминая,
не презирая ничего…
Морская улица. Под аркой,
на красной внутренней стене
бочком торчат, как гриб на пне,
часы большие. Синью жаркой,
перед дворцом, на мостовой
сияют лужи, и ограда
в них отразилась. Там, вдоль сада,
над обольстительной Невой,
в весенний день пройдешь, бывало:
дворцы как призраки легки,
весна гранит околдовала,
и риза синяя реки
вся в мутно-розовых заплатах.
Два смуглых столбика крылатых
за ней, у биржи, различишь.
Идет навстречу оборванец:
под мышкой клетка, в клетке чиж;
повеет Вербой… Влажный глянец
на листьях липовых дрожит;
со скрипом жмется баржа к барже;
по круглым камням дребезжит
пролетка грязная, – и стар же
убогий ванька, день-деньской
на облучке сидящий криво,
как кукла мягкая… Тоской
туманной, ласковой, стыдливой,
тоскою северной весны
цвета и звуки смягчены.
Да, были дни, – но беззаконно
сменила буря тишину.
Я помню, город погребенный,
твою последнюю весну,
когда на площади Дворцовой,
махая тряпкою пунцовой,
вприсядку лихо смерть пошла!
Уже зима тускнела, мокла,
фиалка первая цвела,
но сквозь простреленные стекла
цветочных выставок протек
иных, болезненных растений
слащавый дух, подобный тени
блудницы пьяной, и цветок
бумажный, яростный и жалкий,
заместо мартовской фиалки,
весной искусственной дыша,
алел у каждого в петлице.
В своей таинственной темнице
Невы крамольная душа
очнулась; буйная свобода
ее окликнула, – но звон
могучий, вольный ледохода
иным был гулом заглушен…
Неискупимая година!
Слепая жизнь над бездной шла:
за ночью ночь, за мглою мгла,
за льдиной тающая льдина…
Пьянел неистовый народ.
Безумец, каторжник, мечтатель,
поклонник радужных свобод,
картавый плут, чревовещатель, —
сбежались все; и там и тут,
на площадях, на перекрестках,
перед народом на подмостках
захлебывался бритый шут…
Не надо, жизнь моя, не надо!
К чему их вопли вспоминать?
Есть чудно-грустная отрада:
уйти, не слушать, отстранять
день настоящий, как глухую
завесу, видеть пред собой
не взмах пожаров в ночь лихую,
а купол в дымке голубой,
да цепь домов, веселых, хмурых,
оливковых, лимонных, бурых,
и кирку, будто паровоз
в начале улицы, над Мойкой.
О, как стремительно, как бойко
катился поезд, полный грез, —
мои сверкающие годы!
Крушенье было. Брошен я
в иные, чуждые края,
гляжу на зори через воды,
среди волнующейся тьмы…
Таких, как я, немало. Мы
блуждаем по миру бессонно
и знаем: город погребенный
воскреснет вновь; всё будет в нем
прекрасно, радостно и ново, —
а только прежнего, родного,
мы никогда уж не найдем…
<17 июля 1921>
273. «Давно ль – по набережной снежной…» {*}
Давно ль – по набережной снежной,
в пыли морозно-голубой,
шутя и нежно, и небрежно, —
мы звонко реяли с тобой?
Конь вороной под сеткой синей,
метели плеск, метели зов,
глаза, горящие сквозь иней,
и влажность облачных мехов,
и огонек бледно-лиловый,
скользящий по мосту шурша,
и смех любви, и цок подковы,
и наша вольная душа, —
всё это в памяти хрустальной,
как лунный луч, заключено…
«Давно ль?» – и вторит мне печально
лишь эхо давнее: «Давно…»
<1921>
274. ХРАМ {*}
Стоял костел незрублены,
а в том костеле три оконечки…
(Стих калик перехожих)
Тучи ходят над горами,
Путник бродит по горам,
На утесе видит храм:
Три оконца в этом храме
Небольшом, да расписном;
В первом светится оконце
Ослепительное солнце;
Белый месяц – во втором;
В третьем звездочки… Прохожий!
Здесь начало всех дорог…
Солнце пламенное – Бог;
Месяц ласковый – сын Божий;
Звезды малые во мгле —
Божьи дети на земле.
<4 декабря 1921>
275. «В переулке на скрипке играет слепой…» {*}
В переулке на скрипке играет слепой,
Здравствуй, осень!
Пляшут листья, летят золотою толпой.
Здравствуй, осень!
Медяки из окна покатились, звеня.
Славься, осень!
Ветер легкими листьями бросил в меня.
Славься, осень!
<7 декабря 1921>
276. НОЧЬ {*}
Уж догорел лучистый край
летучей тучки, и, вздыхая,
ночь подошла… О, голубая,
о, величавая, сияй,
сияй мне бесконечно: всюду,
где б ни застала ты меня, —
у кочевого ли огня,
иль в гордом городе, – я буду,
о, звездная, как ныне, рад
твоей улыбке непостижной…
Я выпрямлюсь и взор недвижный
скрещу с твоим! О, как горят,
ночь ясная, твои запястья,
да, ослепи, да, опьяни…
Я лучшего не знаю счастья!
Ночь, ты развертываешь рай
над темным миром и, вздыхая,
на нас глядишь… О, голубая,
о, величавая, сияй!
<22 декабря 1921>
277. ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ {*}
Стою я на крыльце. Напротив обитает
ценитель древностей; в окошке пастушок
точеный выставлен. В лазури тучка тает,
как розовый пушок.
Гляди, фарфоровый, блестящий человечек:
чернеют близ меня два голых деревца,
и сколько золотых рассыпленных сердечек
на ступенях крыльца.
8 ноября 1921; Кембридж
278. «Мне снится: карлик я. Меня скрывают травы…» {*}
Мне снится: карлик я. Меня скрывают травы;
Так страшно: крот – медведь, оса – крылатый тигр.
Вот жук, огромный жук, лоснящийся, лукавый;
Вот лягушат семья; боюсь их сонных игр…
Кто примет странника, кто сердце успокоит?
Там, где вчера упал березовый листок,
Там в келье молится мохнатый червячок;
Я постучусь к нему: он добрый, он откроет…
<1922>
279. «Мы вернемся, весна обещала…» {*}
Мы вернемся, весна обещала,
о, мой тихий, тоскующий друг!
Поцелуем мы землю сначала,
а потом оглядимся вокруг.
Позабудем о пляске и плаче
бесновато уродливых дней…
Мы вернемся. Всё будет иначе,
где горячий был некогда луг.
Мы дороги иные отыщем,
мы построим иные дома…
Зреет нива на кладбище нищем,
где гроздилась зеленая тьма.
Млеет зелень младенческой рощи,
где горячий был некогда луг.
Всё иначе, отраднее, проще,
чем мы думали, милый мой друг!
<Январь 1922>
280. «Уста земли великой и прекрасной…» {*}
Уста земли великой и прекрасной
в уста целуют жизнь мою.
Я брежу радугами страстно
и млечный свет из лунной чаши пью.
И я храним надеждой беззаветной:
я верю – Бог позволит мне
хоть луг один земли стоцветной
запечатлеть на тленном полотне.
<Январь 1922>
281. «Ночь бродит по полям и каждую былинку…» {*}
Ночь бродит по полям и каждую былинку
обводит узкою жемчужною каймой,
и точно в крупную, дрожащую росинку
земля заключена, средь вечности немой.
И светится трава, и клевер дышит сладко,
и дымка зыблется над пухом полевым,
и смерть мне кажется не грозною загадкой —
а этим реющим туманом медовым.
<Январь 1922>
282. «Шепчут мне странники ветры…» {*}
Шепчут мне странники ветры:
брат, вспоминаешь ли ты?
Утром, на севере светлом,
выше и тоньше цветы.
Дымчато влажное поле,
воздух – как детство Христа…
Это ль не лучшая доля?
Это ли не красота?
Стелется розовый шелест
чистой зари по лесам…
В небе ли солнце, в душе ли —
ты и не ведаешь сам…
<Январь 1922>
283. ЗНАЕШЬ ВЕРУ МОЮ? {*}
Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?
Голубою весной облака я люблю,
райский сахар на блюдце блестящем;
и люблю я, как льются под осень дожди,
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.
Есть такие закаты, что хочется плакать,
а иному шепнешь: подожди.
Если ветер ты любишь и ветки сырые,
Божьи звезды и Божьих зверьков,
если видишь при сладостном слове «Россия»
только даль, и дожди золотые, косые,
и в колосьях лазурь васильков, —
я тебя полюблю, как люблю я могучий,
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,
и мохнатых цветных червяков;
полюблю я тебя оттого, что заметишь
все пылинки в луче бытия,
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.
Вот вся вера моя.
<22 июня> 1922
284. ПЕТЕРБУРГ {*}
Он на трясине был построен
средь бури творческих времен:
он вырос – холоден и строен,
под вопли нищих похорон.
Он сонным грезам предавался,
но под гранитною пятой
до срока тайного скрывался
мир целый – мстительно-живой.
Дышал он смертною отравой,
весь беззаконных полон сил.
А этот город величавый
главу так гордо возносил.
И, оснеженный, в дымке синей,
однажды спал он – недвижим,
как что-то в сумрачной трясине
внезапно вздрогнуло под ним.
И всё кругом затрепетало,
и стоглагольный грянул зов:
раскрывшись, бездна отдавала
завороженных мертвецов.
И пошатнулся всадник медный,
и помрачился свод небес,
и раздавался крик победный:
«Да здравствует болотный бес».
<Июнь 1922>
285. ВЕСНА {*}
Ты снишься миру снова, снова, —
весна! – я душу распахнул;
в потоках воздуха ночного
я слушал, слушал горний гул!
Блаженный блеск мне веял в очи.
Лазурь торжественная ночи
текла над городом, и там,
как чудо, плавал купол смуглый
и гул тяжелый, гул округлый
всходил к пасхальным высотам!
Клубились бронзовые волны,
и каждый звук, как будто полный
густого меда, оставлял
в лазури звездной след пахучий,
и Дух стоокий, Дух могучий
восторг земли благословлял.
Восторг земли, дрожащей дивно
от бури, бури беспрерывной
еще сокрытых, гулких вод… —
я слушал, в райский блеск влюбленный,
и в душу мне дышал бездонный
золотозвонный небосвод!
И ты с весною мне приснилась,
ты, буйнокудрая любовь,
и в сердце радостном забилась
глубоким колоколом кровь.
Я встал, крылатый и высокий,
и ты, воздушная, со мной…
Весны божественные соки
о солнце бредят под землей!
И будут утром отраженья,
и световая пестрота,
и звон, и тени, и движенье,
и ты, о звучная мечта!
И в день видений, в вихре синем,
когда блеснут все купола, —
мы, обнаженные, раскинем
четыре огненных крыла!
<Июль 1922>
286. СУФЛЕР {*}
С восьми до полночи таюсь я в будке тесной,
за книгой, много раз прочитанной, сижу
и слышу голос ваш… Я знаю – вы прелестны,
но, спутаться боясь, на вас я не гляжу.
Не ведаете вы моих печалей скрытых…
Я слышу голос ваш, надтреснутый слегка,
и в нем – да, только в нем, а не в словах избитых —
звучат пленительно блаженство и тоска.
Всё так недалеко, всё так недостижимо.
Смеетесь, плачете, стучите каблучком,
вблизи проходите, и платье, вея мимо,
вдруг обдает меня воздушным холодком.
А я – исполненный и страсти и страданья,
глазами странствуя по пляшущим строкам, —
я кукольной любви притворные признанья
бесстрастным шепотом подсказываю вам…
<Октябрь 1922>
287. РОССИЯ {*}
Под окном моим, ночью, на улице, —
да на улице города чуждого, —
под окном, и в углу, в каждой комнате, —
в каждой комнате, – да неприветливой, —
наяву и во сне, – словно в зеркале
отраженье свечей многоликое, —
передо мною, за мною, – повсюду ты,
ах, повсюду стоишь, незабвенная!
Все мы – странники, нищие, гордые:
и цари-то и голь перекатная… —
заклинаем тебя, заклинаем мы:
где ты, лютая, где ты, любовная?
Отзовись! – Но молчишь ты, далекая, —
и глаза твои странникам чудятся, —
то лучистые, то затемненные,
как вода в полдень солнечно-ветряный…
А теперь ты печально потупилась,
одинокая ты, одинокая!
Скоро ль сын твой вернется из сумрака,
и возьмет тебя ласково за плечи,
и, безмолвно, глаза твои бедные
поцелуем откроет таинственным?
Ты потупилась, жалкая, чудная, —
и душа твоя – нива несжатая:
наклоняйтесь, колосья незримые, —
думы кроткие, думы великие!
Где же серп? Он – в забытой часовенке;
на иконе, туманной как облако, —
он белеет над ликом Спасителя…
Где же серп? Он в неведомом озере
в новолунье сияет, закинутый…
Ты потупилась, милая, милая!
Холодеешь в тумане мучительном;
твои руки бессильные светятся,
словно снежные ветви, недвижные…
Ах, летите, звените, весенники!
Да заплещут в лазури заплаканной
ветви яблони, яблони белые!..
Под окном моим, ночью, на улице, —
в моем сердце певучем и жалобном, —
за горами, за тучами, за морем, —
ты стоишь, о моя несравненная!..
Опечалена вестью пылающей,
расклубившейся мглою обвеяна,
одинока, поругана многими, —
но родимая, но неизменная!..
<Ноябрь 1922>
288. СНЕЖНАЯ НОЧЬ {*}
Как призрак я иду, и реет в тишине
такая тающая нега —
что словно спишь в раю и чувствуешь во сне
порханье ангельского снега.
Как поцелуи губ незримых и немых,
снежинки на ресницах тают.
Иду, и фонари в провалах кружевных
слезами смутными блистают.
Ночь легкая, целуй, ночь медленная, лей
сладчайший снег зимы Господней, —
да светится душа во мраке всё белей,
и чем белей – тем превосходней.
Так, ночью, в вышине воздушной бытия,
сквозь некий трепет слепо-нежный,
навстречу призракам встает душа моя,
проникшись благодати снежной.
<3 декабря 1922>
289. НЕВЕСТА РЫЦАРЯ {*}
Жду рыцаря, жду юного Ивэйна,
и с башни вдаль гляжу я ввечеру.
Мои шелка вздыхают легковейно,
и огневеет сердце на ветру.
Твой светлый конь и звон его крылатый
в пыли цветной мне снится с вышины.
Твои ли там поблескивают латы
иль блеска слез глаза мои полны?
Я о тебе слыхала от трувэра,
о странствиях, о приступах святых.
Я ведаю, что истинная вера
душистей роз и сумерек моих.
Ты нежен был, – а нежность так жестока!
Одна, горю в вечерней вышине.
В блистанье битв, у белых стен Востока,
таишь любовь учтивую ко мне.
Но возвратись… Пускай твоя кольчуга
сомнет мою девическую грудь…
Я жду, Ивэйн, не призрачного друга, —
я жду того, с кем сладостно уснуть.
<3 декабря 1922>
290. ПЕГАС {*}
Гляди: вон там, на той скале, – Пегас!
Да, это он, сияющий и бурный!
Приветствуй эти горы. День погас,
а ночи нет… Приветствуй час пурпурный.
Над крутизной огромный белый конь,
как лебедь, плещет белыми крылами, —
и вот взвился, и в тучи, над скалами,
плеснул копыт серебряный огонь.
Ударил в них, прожег одну, другую
и в исступленном пурпуре исчез.
Настала ночь. Нет мира, нет небес, —
всё – только ночь. Приветствуй ночь нагую.
Вглядись в нее: копыта след крутой
узнай в звезде, упавшей молчаливо.
И Млечный Путь плывет над темнотой
воздушною распущенною гривой.
<6 декабря 1922>
291. ВОЛЧОНОК {*}
Один, в рождественскую ночь, скулит
и ежится волчонок желтоглазый.
В седом лесу лиловый свет разлит,
на пухлых елочках алмазы.
Мерцают звезды на ковре небес,
мерцая, ангелам щекочут пятки.
Взъерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.
Но ангелы в обителях своих
все ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.
И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.
Волчонку, елкам, звездным небесам —
всем было в эту ночь отрадно.
8 декабря 1922
292. ЖУК {*}
В саду, где по ночам лучится и дрожит
луна сквозь локоны мимозы, —
ты видел ли, поэт? – живой сапфир лежит
меж лепестков блаженной розы.
Я тронул выпуклый, алеющий огонь,
огонь цветка, и жук священный,
тяжелый, гладкий жук мне выпал на ладонь, —
казалось: камень драгоценный.
В саду, где кипарис, как черный звездочет,
стоит над лунною поляной,
где соловьиный звон всю ночь течет, течет, —
кто, кто любезен розе рдяной?
Не мудрый кипарис, не льстивый соловей,
а бог сапфирный, жук точеный;
с ним роза счастлива… Поэт, нужны ли ей
твои влюбленные пэоны?
<17 декабря 1922>
293. ЛЕГЕНДА О СТАРУХЕ, ИСКАВШЕЙ ПЛОТНИКА {*}
Домик мой, на склоне, в Назарете,
почернел и трескается в зной.
Дождик ли стрекочет на рассвете, —
мокну я под крышею сквозной.
Крыс-то в нем, пушистых мухоловок,
скорпионов сколько… как тут быть?
Плотник есть: не молод и не ловок,
да, пожалуй, может подсобить.
День лиловый гладок был и светел.
Я к седому плотнику пошла;
но на стук никто мне не ответил,
постучала громче, пождала.
А затем – толкнула дверь тугую, —
и, склонив горящий гребешок,
с улицы в пустую мастерскую
шмыг за мной какой-то петушок.
Тишина. У стенки дремлют доски,
прислонясь друг к дружке, и в углу
дремлет блеск зазубренный и плоский
там, где солнце тронуло пилу.
Петушок, скажи мне, где Иосиф?
Петушок, ушел он, – как же так? —
все рассыпав гвоздики и бросив
кожаный передник на верстак.
Потопталась смутно на пороге,
восвояси в гору поплелась.
Камешки сверкали на дороге.
Разомлела, грезить принялась.
Всё-то мне, старухе бестолковой,
вспоминалась плотника жена;
поглядит, бывало, молвит слово,
улыбнется, пристально-ясна, —
и пройдет, осленка понукая,
лепестки, колючки в волосах, —
легкая, лучистая такая, —
а была, голубка, на сносях.
И куда ж они бежали ныне?
Грезя так, я, сгорбленная, шла.
Вот мой дом на каменной вершине, —
глянула – и в блеске замерла…
Предо мной – обделанный на диво,
новенький и белый, как яйцо,
домик мой, с оливою радивой,
серебром купающей крыльцо!
Я вхожу… Уж в облаке лучистом
разметалось солнце за бугром.
Умиляюсь, плачу я над чистым,
синим и малиновым ковром.
Умер день. Я видела осленка,
петушка и гвоздики во сне.
День воскрес. Дивясь, толкуя звонко,
две соседки юркнули ко мне.
Милые! Сама помолодею
за сухой, за новою стеной!
Говорят: ушел он в Иудею,
старый плотник с юною женой.
Говорят: пришедшие оттуда
пастухи рассказывают всем,
что в ночи сияющее чудо
пролилось на дальний Вифлеем…
<24 декабря 1922>
294. ГРИБЫ {*}
У входа в парк, в узорах летних дней,
скамейка светит, ждет кого-то…
На столике железном перед ней
грибы разложены для счета.
Малютки русого боровика —
что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
из темных люлек вдоль дорожки.
И красные грибы: иголки, слизь —
на шляпках выгнутых, дырявых.
Они во мраке влажном вознеслись
под хвоей елочек, в канавах.
И бурых подберезовиков ряд,
таких родных, пахучих, мшистых;
и слезы леса летнего горят
на корешочках их пятнистых.
А на скамейке белой – посмотри —
плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана снутри
черничным лиловатым соком.
13 ноября 1922
295. ПЕТЕРБУРГ {*}
Мне чудится в Рождественское утро
мой легкий, мой воздушный Петербург…
Я странствую по набережной… солнце
взошло туманной розой. Пухлым слоем
снег тянется по выпуклым перилам.
И рысаки под сетками цветными
проносятся, как сказочные птицы;
а вдалеке, за ширью снежной, тают
в лазури сизой розовые струи
над кровлями; как призрак золотистый,
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка:
сперва дымок, потом раскат звенящий);
и на снегу зеленой бирюзою
горят квадраты вырезанных льдин.
Приземистый вагончик темно-синий,
пером скользя по проволоке тонкой,
через Неву пушистую по рельсам
игрушечным бежит себе; а рядом
расчищенная искрится дорожка
меж елочек, повоткнутых в сугробы:
бывало, сядешь в кресло на сосновых
полозьях, – парень в желтых рукавицах
за спинку хвать, – и вот по голубому
гудящему ледку толкает, крепко
отбрасывая ноги, косо ставя
ножи коньков, веревкой кое-как
прикрученные к валенкам, тупые,
такие же, как в пушкинские зимы…
Я странствую по городу родному,
по улицам таинственно-широким,
гляжу с мостов на белые каналы,
на пристани и рыбные садки.
Катки, катки – на Мойке, на Фонтанке,
в Юсуповском серебряном раю:
кто учится, смешно раскинув руки,
кто плавные описывает дуги,
и бегуны в рейтузах шерстяных
гоняются по кругу, перегнувшись,
сжав за спиной футляр от этих длинных
коньков своих, сверкающих, как бритвы,
по звучному лоснящемуся льду.
А в городском саду – моем любимом, —
между Невой и дымчатым собором,
сияющие, легкие виденья
сквозных ветвей склоняются под снегом,
над будками, над каменным верблюдом
Пржевальского, над скованным бассейном, —
и дети с гор катаются, гремят,
ложась ничком на бархатные санки.
Я помню всё: Сенат охряный, тумбы
и цепи их чугунные вокруг
седой скалы, откуда рвется в небо
крутой восторг зеленоватой бронзы.
А там, вдали, над сетью серебристой,
над кружевами дивными деревьев, —
там величаво плавает в лазури
морозом очарованный Исакий:
воздушный луч – на куполе туманном,
подернутые инеем колонны…
Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки
в душе моей, как чудо, сохранится
твой легкий лик, твой воздух несравненный,
твои сады, и дали, и каналы,
твоя зима, высокая, как сон
о стройности нездешней…
Ты растаял,
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях – на площадях зеркальных,
на палубах скользящих… Трудно мне…
Но иногда во сне я слышу звуки
далекие, я слышу, как в раю
о Петербурге Пушкин ясноглазый
беседует с другим поэтом, поздно
пришедшим в мир и скорбно отошедшим,
любившим город свой непостижимый
рыдающей и реющей любовью…
И слышу я, как Пушкин вспоминает
все мелочи крылатые, оттенки
и отзвуки: «Я помню, – говорит, —
летучий снег, и Летний сад, и лепет
Олениной… Я помню, как, женатый,
я возвращался с медленных балов
в карете дребезжащей по Мильонной,
и радуги по стеклам проходили;
но, веришь ли, всего живее помню
тот легкий мост, где встретил я Данзаса
в январский день, пред самою дуэлью…»
<14 января 1923>
296. РАЗМЕРЫ {*}
Глебу Струве
Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,
повествовал? Вот мерный амфибрахий…
А хочешь петь – в эоловом размахе
анапеста – звон лютен и ветрил.
Люби тройные отсветы лазури
эгейской – в гулком дактиле; отметь
гекзаметра медлительного медь
и мрамор – и виденье на цезуре.
Затем: двусложных волн не презирай;
есть бубенцы и ласточки в хорее:
он искрится, всё звонче, всё острее,
торопится… А вот – созвучий рай —
резная чаша: ярче в ней, и слаще,
и крепче мысль; играет по краям
блеск, блеск живой! Испей же: это ямб,
ликующий, поющий, говорящий…
<Январь 1923>
297–300. ГЕКСАМЕТРЫ {*}
1. ЧУДО
В жизни чудес не ищи; есть мелочи – родинки жизни;
мелочь такую заметь – чудо возникнет само.
Так мореход, при луне увидавший моржа на утесе,
внуков своих опьянит сказкой о деве морской.
<6 мая 1923>
2. ОЧКИ ИОСИФА
Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом
мальчик вбежал в мастерскую; замер; заметил; подкрался;
тронул легкие стекла, и только он тронул – мгновенно
по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл по далеким
пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.
<6 мая 1923>
3
Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.
7 марта 1923
4. ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА {*}
Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин
19 марта 1923
301. ГЕКЗАМЕТРЫ {*}
Памяти В. Д. Набокова
Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
ты, погруженный в могилу, ты, пробужденный, свободный,
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока спящими…
О, наклонись надо мной, сон мой подслушай —
снятся мне слезы, снятся напевы, снятся молитвы…
Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам:
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то прозрачны
даже и скорби мои…
Я чую: ты ходишь так близко,
смотришь на спящих: ветер твой нежный целует мне веки,
что-то во сне я шепчу: наклонись надо мной и услышишь
смутное имя одно – что звучнее рыданий, и слаще
песен земных, и глубже молитвы, – имя отчизны.
<30 марта> 1923
302. БАРС {*}
Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.
И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит и пьянит меня.
Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.
И в липком сумраке зеленом,
пожаром гибким и слепым,
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим…
Но не уйдешь ты! В полнолунье
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя.
13 апреля 1923
303. НА ОЗЕРЕ {*}
В глазах рябило от резьбы
оранжевой и черной зыби,
и плыл к огню – к библейской глыбе
заката – сумрак из трубы.
И, черный жар и дым мохнатый
следя торжественно с кормы,
следя прибрежный бор зубчатый, —
в очарованье плыли мы.
И Сердце было так прозрачно,
так пел прожженный Богом свод,
что бор, и озеро, и дачный,
дымящий глухо пароход, —
приобретали незаметно
значенье чуда в этот час, —
и в темной зыби женских глаз
плыл и дышал огонь стоцветный.
<22 апреля 1923>
304. «Живи, звучи, не поминай о чуде…» {*}
Живи, звучи, не поминай о чуде, —
но будет день, войду в твой скромный дом,
твой смех замрет, ты встанешь: стены, люди —
всё поплывет, – и будем мы вдвоем…
Прозреешь ты в тот миг невыразимый,
спадут с тебя, рассыплются, звеня,
стеклом поблескивая дутым, зимы
и весны, прожитые без меня…
Я пламенем моих бессонниц, хладом
моих смятений творческих прильну,
взгляну в тебя – и ты ответишь взглядом
покорным и крылатым в вышину.
Твои плеча закутав в плащ шумящий,
я по небу, сквозь звездную росу,
как через луг некошеный, дымящий,
тебя в свое бессмертье унесу…
<Июнь 1923>
305. РОДИНА {*}
Когда из родины звенит нам
сладчайший, но лукавый слух, —
не празднословью, не молитвам
мой предается скорбный дух.
Нет, – не из сердца, вот отсюда,
где боль неукротима, вот —
крылом, окровавленной грудой,
обрубком костяным – встает
мой клекот, клокотанье: Боже,
Ты, отдыхающий в раю, —
на смертном, на проклятом ложе
тронь, воскреси – ее… мою!..
<23 сентября 1923>
306. «И в Божий рай пришедшие с земли…» {*}
И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли…
Летают на качелях серафимы
под яблонями белыми. Скрипят
веревки золотые, Серафимы
кричат взволнованно…
А в доме спят, —
в большом, совсем обыкновенном доме,
где Бог живет, где солнечная лень
лежит на всем; и пахнет в этом доме,
как, знаешь ли, на даче – в первый день…
Потом проснутся; в радостной истоме
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —
давным-давно знакомый и любимый…
О, как воздушно яблони цветут!..
О, как кричат, качаясь, серафимы!
<Ноябрь 1923>
307. ЖЕМЧУГ {*}
Посланный мудрейшим властелином
страстных мук изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.
Там, исполнен сумрачного гула,
средь морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней, лоснящийся нарост.
И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.
Я сошел в свою глухую муку,
я на дне. Но снизу, сквозь струи,
всё же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи.
14 января 1923
308. СОН {*}
Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.
Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.
А вверху – часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.
Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой…
15 января 1923
309. «В каком раю впервые прожурчали…» {*}
В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?
Неслись века. При Августе из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, но ты неуловима
и сказочной осталась до конца.
И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты – за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.
Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдорадо
был генуэзским гением гоним.
Ты знаешь, калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,
вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.
И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом,
ты в Кобленце так весело жила…
И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии – к невесте,
все вальсы ей коварные простив.
А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыта локтем, целился в кого-то
и не успел тугой курок пригнуть.
Вставали за разлуками разлуки,
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты…
16 января 1923
310. «Я где-то за городом, в поле…» {*}
Я где-то за́ городом, в поле,
и звезды гулом неземным
плывут, и сердце вздулось к ним,
как темный купол гулкой боли.
И в некий напряженный свод —
и всё труднее, всё суровей —
в моих бессонных жилах бьет
глухое всхлипыванье крови.
Но в этой пустоте ночной,
при этом голом звездном гуле,
вложу ли в барабан резной
тугой и тусклый жемчуг пули.
И, дула кисловатый лед
прижав о высохшее нёбо,
в бесплотный ринусь ли полет
из разорвавшегося гроба?
Или достойно дар приму,
великолепный и тяжелый, —
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?
20 января 1923
311. «День за днем, цветущий и летучий…» {*}
День за днем, цветущий и летучий,
мчится в ночь, и вот уже мертво
царство исполинское, дремучий
папоротник счастья моего.
Но хранится под землей беспечной,
в сердце сокровенного пласта,
отпечаток веерный и вечный,
призрак стрекозы, узор листа.
24 января 1923
312. «Ты всё глядишь из тучи темно-сизой…» {*}
Ты всё глядишь из тучи темно-сизой,
и лилия – в светящейся руке;
а я сквозь сон молю о лепестке
и всё ищу в изгибах смутной ризы
изгиб живой колена иль плеча.
Мне твоего не выразить подобья
ни в музыке, ни в камне… Исподлобья
глядят в мой сон два горестных луча.
27 января 1923
313. «И утро будет: песни, песни…» {*}
И утро будет: песни, песни,
каких не слышно и в раю,
и огненный промчится вестник,
взвив тонкую трубу свою!
Распахивая двери наши,
он пронесется, протрубит,
дыханьем расплавляя чаши
неупиваемых обид.
Весь мир, извилистый и гулкий,
неслыханные острова,
немыслимые закоулки, —
как пламя, облетит молва!
Тогда-то с плавностью блаженной,
как ясновидящие, все
поднимемся – и в путь священный
по первой утренней росе!..
30 января 1923
314. РОДИНЕ {*}
Посвящается моей сестре Елене
Воркующею теплотой шестая —
чужая – наливается весна.
Всё ждет тебя душа моя простая,
гадая у восточного окна.
Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух – как дрожащая вода.
Позволь мне жить, искать Творца в творенье,
звать изумленье рифмы и любви.
Не укоряй в час трудного горенья,
что вот я вспомнил ландыши твои.
Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.
Взволнованно душа тебя зовет,
текучий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.
Твой будет взлет неизъяснимо-ярок,
а наша встреча – творчески-тиха:
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.
31 марта 1923
315. РЕКА {*}
Каждый помнит какую-то русскую реку,
но бессильно запнется, едва
говорить о ней станет: даны человеку
лишь одни человечьи слова.
А ведь реки, как души, все разные… нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река.
Для странников верных
качнул я дыханьем души
эти качели слогов равномерных
в бессонной тиши.
Повсюду —
в мороз и на зное —
встретишь
странников этих
несущих, как чудо,
как бремя страстное,
родину.
Сам я, бездомный,
как-то ночью стоял на мосту
в городе мглистом,
огромном,
и глядел в маслянистую
темноту
рядом с тенью случайно любимой,
стройной, как черное пламя,
да только с глазами
безнадежно чужими.
Я молчал, и спросила она на своем языке:
«Ты меня уж забыл?» —
и не в силах я был
объяснить,
что я там, далеко, на реке
илистой, тинистой, с именем милым,
с именем, что камышовая тишь…
Это словно из ямочки в глине
черно-синий
выстрелит стриж.
И вдоль по сердцу
носится
с криком своим изумленным: вий-вии!
Это было в России,
это было в раю…
Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою,
мимо леса,
полного иволог, солнца, прохлады грибной,
мимо леса,
где березовый ствол чуть сквозит белизной
стройной
в буйном бархате хвойном,
мимо красных крутых берегов
парчевых островков,
мимо плавных полянок сырых, в скабиозах
и лютиках.
Раз! – и тугие уключины
звякают, – раз! – и весло на весу
проливает огнистые слезы
в зеленую тень.
Чу! – в прибрежном лесу
кто-то легко зааукал…
Дремлет цветущая влага, подковы
листьев ползучих, фарфоровый купол
цветка
водяного.
Как мне запомнилась эта река,
узорная, узкая.
Вечереет…
(и как объяснить,
что значило русское
«вечереет»?)
стрекоза, бирюзовая нить,
два крыла слюдяных – замерла
на перилах купальни…
Солнце в черемухах. Колокол дальний.
Тучки румяные, русые.
Червячка из чехла
выжмешь, за усики
вытащишь, и на крючок.
Ждешь. Клюет.
Сладко дрогнет леса, и блеснет,
шлепнет о мокрые доски
голубая плотва, головастый бычок
или хариус жесткий.
А когда мне удить надоест,
на деревянный навес
взберусь
(…Русь!..)
и оттуда беззвучно ныряю
в отраженный закат…
Ослепленный, плыву наугад,
ширяю,
навзничь ложусь – и не ведаю, где я —
в небесах, на воде ли.
Мошкара надо мною качается
вверх и вниз, вверх и вниз – без конца…
Вечер кончается.
Осторожно сдираю с лица
липкую травку.
В щиколку щиплет малявка:
сладок мне рыбий
слепой поцелуй.
В лиловеющей зыби
узел огненных струй —
и плыву я
горю,
глотаю зарю
вечеровую…
А теперь в бесприютном краю,
уж давно не снимая котомки,
качаю – ловлю я, качаю – ловлю
строки о русской речонке,
строки, как отблески солнца, бессвязные…
А ведь реки, как души, все разные,
нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река…
8 апреля 1923; Берлин
316. «Когда я по лестнице алмазной…» {*}
Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубине легко привязан,
будет заплатанный узелок.
Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою —
и остановит, не отопрет.
«Апостол, – скажу я, – пропусти мя!..»
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной…
Он поводит строго бровью седою,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росою
и чешуей иорданских рыб.
И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.
21 апреля 1923
317. «О, как ты рвешься в путь крылатый…» {*}
О, как ты рвешься в путь крылатый,
безумная душа моя,
из самой солнечной палаты
в больнице светлой бытия!
И, бредя о крутом полете,
как топчешься, как бьешься ты
в горячечной рубашке плоти,
в тоске телесной тесноты!
Иль, тихая, в безумье тонком
гудишь-звенишь сама с собой,
вообразив себя ребенком,
сосною, соловьем, совой.
Поверь же соловьям и совам,
терпи, самообман любя, —
смерть громыхнет тугим засовом
и в вечность выпустит тебя.
2 мая 1923
318. ГРОЗА {*}
Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет и сам
шалеет от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.
Клубятся дымы дождевые
по заблиставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено-яблочной листвой.
От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.
Уходят боги, громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая —
лист озаренный серебра.
И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:
твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.
Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц…
7 мая 1923
319. ВСТРЕЧА {*}
И странной близостью закованный…
А. Блок
Тоска, и тайна, и услада…
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.
И ночь текла, и плыли молча
в ее атласные струи
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои.
И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?
Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч
переживал я очерк смутный
других – неповторимых – встреч?
И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?
Я ничего не знаю. Странно
трепещет стих, и в нем – стрела…
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?
Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих – непросиявших – глаз…
Надолго ли? Навек?.. Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей…
И если ты – судьба моя…
Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба…
Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба…
1 июня 1923
320. ПЕСНЯ {*}
Верь: вернутся на родину все —
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга.
Песня спасет нас.
Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему – и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.
Ветер прошел по листам искривленным,
ветер, мой пьяный и горестный брат,
и вдруг затих под окном озаренным:
ночь, ночь – и янтарный квадрат.
Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее под поющим окном.
Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
Как тосковала,
как распевала,
молясь былому в чужих краях,
о полнолунье небывалом,
о небывалых соловьях.
И в темноте пылали звуки —
рыдающая даль любви,
даль – и цыганские разлуки,
ночь, ночь – и в роще соловьи.
Но проносился ветер с моря
дыханьем соли и вина,
и гармонического горя
спадала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна,
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она…
О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,
о полнолунье небывалом,
о небывалом —
ветер! Вернутся на родину все —
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга…
Все.
19 июня 1923; Сольес-Пон
321. «Как жадно, затая дыханье…» {*}
Как жадно, затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напьюсь я хладного сверканья
из придорожного ключа.
И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу в тени
евангелической оливы
сандалий узкие ремни.
Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе,
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.
И, пеньем дум моих влекома,
в лазури лиловатой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.
15 июня 1923
322. ОЛЕНЬ {*}
Слова – мучительные трубы,
гремящие в глухом лесу, —
следят, перекликаясь грубо,
куда я пламя пронесу.
Но что мне лай Дианы жадной,
ловитвы топот и полет?
Моя душа – огонь громадный —
псов обезумевших стряхнет!
Стряхнет – и по стезе горящей
промчится, распахнув рога,
сквозь черные ночные чащи
на огненные берега!
<23 сентября 1923>
323. «Из мира уползли – и ноют на луне…» {*}
Из мира уползли – и ноют на луне
шарманщики воспоминаний…
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.
Полжизни – тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи – души певучий прах, —
и грудью задвигаю ящик…
И вот уходит всё, и я – в тенях ночных,
и прошлое горит неяро,
как в черепе сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок…
И ланнеровский вальс не может заглушить…
Откуда?.. Уходи… Не надо…
Как были хороши… Мне лепестков не сшить,
а тлен цветочный сладок, сладок…
Не говори со мной в такие вечера,
в часы томленья и тумана,
Когда мне чудится невнятная игра
ушедших на луну шарманок…
18 ноября 1923
324. «Я Индией невидимой владею…» {*}
Я Индией невидимой владею:
приди под синеву мою.
Я прикажу нагому чародею
в запястье обратить змею.
Тебе, неописуемой царевне,
отдам за поцелуй Цейлон,
а за любовь – весь мой роскошный, древний,
тяжелозвездный небосклон.
Павлин и барс мой, бархатно-горящий,
тоскуют; и кругом дворца
шумят, как ливни, пальмовые чащи,
все ждем мы твоего лица.
Дам серьги – два стекающих рассвета,
дам сердце – из моей груди.
Я царь, и если ты не веришь в это,
не верь, но всё равно, приди!
7 декабря 1923
325. РОЖДЕСТВО {*}
Свеча прозрачная мигает.
В окно синеет Рождество.
Где ты живешь? Где пробегает
дыханье платья твоего?
И у шарахнувшейся двери
какого гостя средь гостей
встречают бархатные перья
твоих стремительных бровей?
А помнишь – той зимой старинной, —
как жадно ты меня ждала,
как елка выросла в гостиной
и лапой в зеркало вросла.
На лесенке, чуть прикасаясь
рукою к моему плечу,
другую тянешь, зажигая
свечу на ветке об свечу.
Горят под золотистым газом
лучи раскинутых ключиц,
а елка – в дымчатых алмазах,
в дрожанье льющихся зарниц.
И спрыгиваешь со ступени —
как бы вдоль сердца моего, —
и я один… Мигают тени.
В окно синеет Рожество.
Свеча сияющая плачет,
и уменьшенный образ твой
течет жемчужиной горячей,
жемчужиною восковой.
<25 декабря 1923>
326. КУБЫ {*}
Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь – сломанное пламя.
В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.
Ты – в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.
В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.
<9 марта 1924>
327. ЛЕНИНГРАД {*}
Великие, порою,
бывают перемены…
Но, пламенные мужи,
что значит этот сон?
Был Петроград – он хуже,
чем Петербург, – не скрою, —
но не походит он —
как ни верти – на Трою:
зачем же в честь Елены —
так ласково к тому же —
он вами окрещен?
<23 марта 1924>
328. АВТОМОБИЛЬ В ГОРАХ {*}
Сонет
Как сон, летит дорога, и ребром
встает луна за горною вершиной.
С моею черной гоночной машиной
сравню – на волю вырвавшийся гром!
Всё хочется – пока под тем бугром
не стала плоть личинкою мушиной —
слыхать, как прах под бешеною шиной
рыдающим исходит серебром…
Сжимая руль наклонный и упругий,
куда лечу? У альповой лачуги —
почудится отеческий очаг;
и в путь обратный – вдавливая конус
подошвою и боковой рычаг
переставляя по дуге – я тронусь.
<20 апреля 1924>
329. ПОДРУГА БОКСЕРА {*}
Дрожащая, в змеином платье бальном,
и я пришла смотреть на этот бой.
Окружена я черною толпой:
мелькает блеск по вырезам крахмальным,
свет льется, ослепителен и бел,
посередине залы, над подмостком.
И два бойца в сиянье этом жестком
сшибаются… Один уж ослабел.
И ухает толпа. Могуч и молод,
неуязвим, как тень, – противник твой.
Уж ты прижат к веревке круговой
и подставляешь голову под молот.
Всё чаще, всё короче, всё звучней
бьет снизу, бьет и хлещет этот сжатый
кулак в перчатке сально-желтоватой,
под сердце и по челюсти твоей.
Сутулишься и екаешь от боли,
и напряженно лоснится спина.
Кровь на лице, на ребрах так красна,
что я тобой любуюсь поневоле.
Удар – и вот не можешь ты вздохнуть, —
еще удар, два боковых и пятый —
прямой в кадык. Ты падаешь. Распятый,
лежишь в крови, крутую выгнув грудь.
Волненье, гул… Тебя уносят двое
в фуфайках белых. Победитель твой
с улыбкой поднимает руку. Вой
приветственный, – и смех мой в этом вое.
Я вспоминаю, как недавно, там,
в гостинице зеркальной, встав с обеда, —
за взгляд и за ответный взгляд соседа
ты бил меня наотмашь по глазам.
<11 мая 1924>
330. СМЕРТЬ ПУШКИНА {*}
Он первый подошел к барьеру; очи
так пристально горели, что Дантес
нажал курок. И был встревожен лес:
сыпучий снег, пугливый взмах сорочий…
Пробита печень. Мучился две ночи.
На ране – лед. В бреду своем он лез
по книжным полкам, – выше… до небес…
ах, выше!.. Пот блестел на лбу.
Короче, —
он умирал: но долго от земли
уйти не мог. «Приди же, Натали,
да покорми моченою морошкой»…
И верный друг, и жизни пьяный пыл,
и та рука с протянутою ложкой —
отпало всё. И в небо он поплыл.
<8 июня 1924>
331–332. ОБ АНГЕЛАХ {*}
1
Неземной рассвет блеском облил…
Миры прикатили: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.
Вспомни: гиганты промахивают попарно,
торгуют безднами. Алый пар
от крыльев валит. И лучезарно
кипит божественный базар.
И, в этом странствуя сиянье,
там я купил – за песнь одну —
женскую душу и в придачу нанял
самую дорогую весну.
24 апреля 1924
2
Представь: мы его встречаем
вот там, где в лисичках пень,
и был он необычаен,
как радуга в зимний день.
Он хвойную занозу
из пятки босой тащил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.
Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы.
И, он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез.
Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке
и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.
8 июля 1924
333–335. ПЕТЕРБУРГ {*}
Три сонета1
Единый путь – и множество дорог;
тьма горестей – и стон один: «когда же?..»
Что город мой? я забываю даже
названья улиц… Тонет. Изнемог.
Безлюдие. Остались только Бог,
рябь под мостом, да музы в Эрмитаже,
да у ворот луна блестит всё та же
на мраморных ногтях гигантских ног.
И это всё. И это всё на свете…
В зеркальные туманы двух столетий
гляделся ты, мой город, мой Нарцисс…
Там, над каналом, круглыми камнями
взбухал подъем, и – с дребезжаньем – вниз.
Терзаем я утраченными днями…
<24 августа 1924>
2
Терзаем я утраченными днями,
и тленом тянет воздух неродной.
Я сжал в алмаз невыплаканный зной,
я духом стал прозрачный и упрямый.
Но сны меня касаются краями
орлиных крыл, – и снова, в час ночной,
Нева чернеет, вздутая весной,
и дышит маслянистыми огнями.
Гранит шероховат. Внизу вода
чуть хлюпает под баржами, когда
к их мерному прислушаешься тренью.
Вот ветерок возник по волшебству, —
и с островов как будто бы сиренью
повеяло… Прошедшим я живу.
<24 августа 1924>
3
Повеяло прошедшим… Я живу
там… далеко… в какой-то тьме певучей…
Под аркою мелькает луч пловучий, —
плеснув веслом, выходит на Неву.
Гиганты ждут… Один склонил главу,
всё подпирая мраморные тучи.
Их четверо. Изгиб локтей могучий
звездистую пронзает синеву.
Чего им ждать? Что под мостами плещет?
Какая сила в воздухе трепещет,
проносится?.. О чем мне шепчет Бог?
Мы странствуем, – а дух стоит на страже
единый путь – и множество дорог;
тьма горестей – и стон один: когда же?
<24 августа 1924>
336. «Отдалась необычайно…» {*}
Отдалась необычайно
на крыле тупом и плоском
исполинского Бехштайна,
и живая наша тайна
в глубине под черным лоском
глухо струны колебала.
Это было после бала, —
и, подобные полоскам
густо вытканной гуаши,
лунные лучи во мраке
отражались в черном лаке,
и глухие вопли наши
упоительно пронзали
бездны струнные Бехштайна,
нас принявшего случайно
после бала, в темном зале…
<24 сентября 1924>
337–339. ТРИ ШАХМАТНЫХ СОНЕТА {*}
1
В ходах ладьи – ямбический размер,
в ходах слона – анапест. Полутанец,
полурасчет – вот шахматы. От пьяниц
в кофейне шум, от дыма воздух сер.
Там Филидор сражался и Дюсер.
Теперь сидят – бровастый, злой испанец
и гном в очках. Ложится странный глянец
на жилы рук, а взгляд – как у химер.
Вперед ладья прошла стопами ямба.
Потом опять – раздумие. «Карамба,
сдавайтесь же!» Но медлит тихий гном.
И вот толкнул ногтями цвета йода
фигуру. Так! Он жертвует слоном:
волшебный шах и мат в четыре хода.
<30 ноября 1924>
2
Движенья рифм и танцовщиц крылатых
есть в шахматной задаче. Посмотри:
тут белых семь, а черных только три
на световых и сумрачных квадратах.
Чернеет ферзь между коней горбатых,
и пешки в ночь впились, как янтари.
Решенья ждут и слуги, и цари
в резных венцах и высеченных латах.
Звездообразны каверзы ферзя.
Дразнящая, узорная стезя
уводит мысль, – и снова ум во мраке.
Но фея рифм – на шахматной доске
является, отблескивая в лаке,
и – легкая – взлетает на носке.
<30 ноября 1924>
3
Я не писал законного сонета,
хоть в тополях не спали соловьи, —
но, трогая то пешки, то ладьи,
придумывал задачу до рассвета.
И заключил в узор ее ответа
всю нашу ночь, все возгласы твои,
и тень ветвей, и яркие струи
текучих звезд, и мастерство поэта.
Я думаю, испанец мой, и гном,
и Филидор – в порядке кружевном
скупых фигур, играющих согласно, —
увидят все, – что льется лунный свет,
что я люблю восторженно и ясно,
что на доске составил я сонет.
<30 ноября 1924>
340. К РОДИНЕ {*}
Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.
Хорошо… Пошуркивает мышь,
много звезд в окне и много крыш.
Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость – твоя.
Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.
Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.
И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.
Так всё тело – только образ твой,
и душа – как небо над Невой.
Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:
угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.
<25 декабря 1924>
341. ВИДЕНИЕ {*}
В снегах полуночной пустыни
мне снилась матерь всех берез,
и кто-то – движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.
Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб:
и под березой одинокой
в бледно-пылящийся сугроб
склонился в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.
И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.
В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу —
там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.
И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа…
16 января 1924
342. СКИТАЛЬЦЫ {*}
За громадные годы изгнанья,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мирозданья,
о, косматая наша душа.
Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,
от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.
Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.
Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.
И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собою на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.
27 февраля 1924
343. «При луне, когда косую крышу…» {*}
При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастия мне душу обдает;
кем-то ослепительно расколот
лунный мрак; и медленно в полет
собираюсь, вынимаю руки
из карманов, трепещу, лечу,
Но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: «Вы забыли, —
говорит, – летать запрещено».
И, застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.
6 марта 1924; Берлин
344. СТИХИ {*}
Блуждая по запущенному саду,
я видел – в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Всё это помнит
моя душа; всё это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.
9 марта 1924
345. СТАНСЫ {*}
Ничем не смоешь подписи косой
судьбы на человеческой ладони —
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.
Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.
И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильней стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.
Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Мона Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?
О, я рифмую радугу и прах.
Прости, прости, что рай я уничтожил,
в двух бархатных и пристальных мирах
единый миг как бог я прожил.
Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,
с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминучей…
24 марта 1924
346. МОЛИТВА {*}
Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.
Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра… Воскреси!
О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.
3 мая 1924
347. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ {*}
Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.
Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.
Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей – глянь —
какая рыба голубая.
В Петровом бледном небе – штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
всё та же золотая пыль.
26 мая 1924; Берлин
348. СМЕРТЬ {*}
Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.
И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.
И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю, —
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.
О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола…
13 Июня 1924
349. ИСХОД {*}
Муза, возгласом, со вздохом шумным
у меня забилась на руках.
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах
очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека.
Через Млечный Путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту – о, муза, как нежданно! —
явственные невские мосты.
И, задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.
Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник в изумленье неземном.
И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари
таяли в просторах ночи синей,
и, неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.
Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.
И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.
11 сентября 1924; Берлин
350. «Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем…» {*}
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?
И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.
Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой».
Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.
27 сентября 1924; Берлин
351. СТРАНА СТИХОВ {*}
Дай руки, в путь! Найдем среди планет
пленительных такую, где не нужен
житейских труд. От хлеба до жемчужин
всё купит звон особенных монет.
И доступа злым и бескрылым нет
в блаженный край, что музой обнаружен,
где нам дадут за рифму целый ужин
и целый дом за правильный сонет.
Там будем мы свободны и богаты…
Какие дни. Как благостны закаты.
Кипят ключи кастальские во мгле.
И, глядя в ночь на лунные оливы
в стране стихов, где боги справедливы,
как тосковать мы будем о земле!
26 октября 1924
352. КОСТЕР {*}
На сумрачной чужбине, в чаще,
где ужас очертанья стер,
среди прогалины – горящий,
как сердце жаркое, костер.
Вокруг синеющие тени,
и сквозь летающую сеть
теней и рдяных отражений
склоненных лиц не рассмотреть.
Но, отгоняя сумрак жадный,
вот песня вспыхнула в тиши,
гори, гори, костер отрадный,
шинели наши осуши.
И снова всколыхнулись плечи,
и снова полнозвучный взмах,
кипят воинственные речи,
и слезы светятся в глазах.
Зверье, блуждающее в чащах,
ночные духи и ветра
бегут от этих глаз горящих
и от поющего костра.
Зато с каким благоговеньем,
с какою верой в трудный путь,
утешен пламенем и пеньем,
подходит странник отдохнуть.
26 ноября 1924; Берлин
353. ШЕКСПИР {*}
Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки —
всё было как у всех… Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.
Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа – вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий… Ты здесь, ты жив, – но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.
И то сказать: труды твои привык
подписывать – за плату – ростовщик,
тот Билль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну…
Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны. Мне охота
воображать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою – невзначай,
пока меняли лошадей, – и, верно,
был вечер синь. В колодце, за таверной,
ведро звенело чисто… Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след —
каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немыслимый поэт!
Нет! В должный час, когда почуял – гонит
тебя Господь из жизни, – вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие… И вдаль ушел, с улыбкой.
Декабрь 1924
354. В ПЕЩЕРЕ {*}
Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул – и было
виденье между черных скал.
Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.
Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиленье, вся прохлада
линялых синеватых риз.
А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.
И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.
11 декабря 1924; Берлин
355. ВЕЛИКАН {*}
Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему, и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.
Над ним кружились вороны – как мухи
над головою белого быка…
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.
Слепой, как мрамор, – близился он к цели,
шагал, – неотразимый, как зима.
Охотники, плутавшие в метели,
его видали и сошли с ума.
И вот достиг он твоего предела —
и замер вдруг: цвела твоя страна.
Была ты счастлива, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна!
Проста, легка, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине —
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне!
И, перед этим солнцем отступая,
поняв, что с ним соперничать нельзя,
растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя…
13 декабря 1924
356. ПЛЕВИЦКОЙ {*}
Кипит, и пенится, и бродит…
то греет, как румяный день,
то, Богу жалуясь, отходит
как будто в бархатную тень.
Шепнула о тишайшей муке
и снова прянула, спеша, —
Ты, пролетающая в звуки,
росой омытая душа!
Уста отчизны молчаливы:
не смеют жаворонки петь,
молчат незреющие нивы
и неколышимая медь…
Но от навета, от попранья,
от унизительного зла, —
в державу славного изгнанья
ты наши песни унесла!
<3 января 1925>
357. КОНЬКОБЕЖЕЦ {*}
Плясать на льду учился он у музы,
у зимней Терпсихоры… Погляди:
открытый лоб, и черные рейтузы,
и огонек медали на груди.
Он вьется, и под молнией алмазной
его непостижимого конька
ломается, растет звездообразно
узорное подобие цветка.
И вот на льду густом и шелковистом
подсолнух обрисован. Но постой —
не я ли сам, с таким певучим свистом,
коньком стиха блеснул перед тобой.
Оставил я один узор словесный,
мгновенно раскружившийся цветок.
И завтра снег бесшумный и отвесный
запорошит исчерченный каток.
<5 февраля 1925>
358. «Пою. Где ангелы? В разлуке…» {*}
Пою. Где ангелы? В разлуке
я проживаю с ними, ведь:
и еле слышимые звуки…
«И неколышимая медь»…
Прошла. Устало оглянулась.
Ты видишь Блютнера рояль?
К бемолям, сидя, прикоснулась —
и еле слышима педаль.
Домов и кубиков ступени.
Над крышей проволоки сеть.
Волью изысканное пенье
я в неколышимую медь.
<1 апреля 1925>
359. ИЗГНАНЬЕ {*}
Я занят странными мечтами
в часы рассветной полутьмы:
что, если б Пушкин был меж нами —
простой изгнанник, как и мы?
Так, удалясь в края чужие,
он вправду был бы обречен
«вздыхать о сумрачной России»,
как пожелал однажды он.
Быть может, нежностью и гневом —
как бы широким шумом крыл, —
еще неслыханным напевом
он мир бы ныне огласил.
А может быть, и то: в изгнанье
свершая страннический путь,
на жарком сердце плащ молчанья
он предпочел бы запахнуть, —
боясь унизить даже песней,
высокой песнею своей,
тоску, которой нет чудесней,
тоску невозвратимых дней…
Но знал бы он: в усадьбе дальней
одна душа ему верна,
одна лампада тлеет в спальне,
старуха вяжет у окна.
Голубка дряхлая дождется!
Ворота настежь… Шум живой…
вбежит он, глянет, к ней прижмется
и всё расскажет – ей одной…
<14 июня 1925>
360. СОН {*}
Однажды ночью подоконник
дождем был шумно орошен.
Господь открыл свой тайный сонник
и выбрал мне сладчайший сон.
Звуча знакомою тревогой,
рыданье ночи дом трясло.
Мой сон был синею дорогой
через тенистое село.
Под мягкой грудою колеса
скрипели глубоко внизу:
я навзничь ехал с сенокоса
на синем от теней возу.
И снова, тяжело, упрямо,
при каждом повороте сна
скрипела и кренилась рама
дождем дышавшего окна.
И я, в своей дремоте синей,
не знал, что истина, что сон:
та ночь на роковой чужбине,
той рамы беспокойный стон
или ромашка в теплом сене
у самых губ моих, вот тут,
и эти лиственные тени,
что сверху кольцами текут…
<30 июня 1925>
361. РАЙ {*}
Любимы ангелами всеми,
толпой глядящими с небес,
вот люди зажили в Эдеме, —
и был он чудом из чудес.
Как на раскрытой Божьей длани,
я со святою простотой
изображу их на поляне,
прозрачным лаком залитой,
среди павлинов, ланей, тигров,
у живописного ручья…
И к ним я выберу эпиграф
из первой Книги Бытия.
Я тоже изгнан был из рая
лесов родимых и полей,
но жизнь проходит, не стирая
картины в памяти моей.
Бессмертен мир картины этой,
и сладкий дух таится в нем:
так пахнет желтый воск, согретый
живым дыханьем и огнем.
Там, по написанному лесу
тропами смуглыми брожу, —
и сокровенную завесу
опять со вздохом завожу…
<26 июля 1925>
362. ПУТЬ {*}
Великий выход на чужбину,
как дар божественный, ценя,
веселым взглядом мир окину,
отчизной ставший для меня.
Отраду слов скупых и ясных
прошу я Господа мне дать, —
побольше странствий, встреч опасных,
в лесах подальше заплутать.
За поворотом, ненароком,
пускай найду когда-нибудь
наклонный свет в лесу глубоком,
где корни переходят путь, —
то теневое сочетанье
листвы, тропинки и корней,
что носит – для души – названье
России, родины моей.
<13 декабря 1925>
363. БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА {*}
Нищетою необычной
на чужбине дорожу.
Утром в ратуше кирпичной
за конторкой не сижу.
Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней!
И к подруге возвращаюсь
всё позднее и поздней.
В полумраке стул задену
и, нащупывая свет,
так растопаюсь, что в стену
стукнет яростно сосед.
Утром он наполовину
открывать окно привык,
чтобы высунуть перину,
как малиновый язык.
Утром музыкант бродячий
двор наполнит до краев
при участии горячей
суматохи воробьев.
Понимают, слава Богу,
что всему я предпочту
дикую мою дорогу,
золотую нищету.
14 мая 1925
364. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ {*}
Нам, потонувшим мореходам,
похороненным в глубине
под вечно движущимся сводом,
являлся старый порт во сне:
кайма сбегающая пены,
на камне две морских звезды,
из моря выросшие стены
в дрожащих отблесках воды.
Но выплыли и наши души,
когда небесная труба
пропела тонко, и на суше
распались с грохотом гроба.
И к нам туманная подходит
ладья апостольская, в лад
с волною дышит и наводит
огни двенадцати лампад.
Всё, чем пленяла жизнь земная,
всю прелесть, теплоту, красу
в себе божественно вмещая,
горит фонарик на носу.
Луч окунается в морские
им разделенные струи,
и наших душ ловцы благие
берут нас в тишину ладьи.
Плыви, ладья, в туман суровый,
в залив играющий влетай,
где ждет нас городок портовый,
как мы, перенесенный в рай.
19 июля 1925; Франция
365. ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК {*}
Для состязаний быстролетных
на том белеющем холму
вчера был скат на сваях плотных
сколочен. Лыжник по нему
съезжал со свистом; а пониже
скат обрывался: это был
уступ, где становились лыжи
четою ясеневых крыл.
Люблю я встать над бездной снежной,
потуже затянуть ремни…
Бери меня, наклон разбежный,
и в дивной пустоте – распни.
Дай прыгнуть, под гуденье ветра,
под трубы ангельских высот,
не семьдесят четыре метра,
а миль, пожалуй, девятьсот.
И небо звездное качнется,
легко под лыжами скользя,
и над Россией пресечется
моя воздушная стезя.
Увижу инистый Исакий,
огни мохнатые на льду
и, вольно прозвенев во мраке,
как жаворонок, упаду.
Декабрь 1925; Райзенгебирге
366. UT PICTURA POESIS [13]13
Поэзия как живопись (лат.). – Ред.
[Закрыть] {*}М. В. Добужинскому
Воспоминанье, острый луч,
преобрази мое изгнанье,
пронзи меня, воспоминанье
о баржах петербургских туч
в небесных ветреных просторах,
о закоулочных заборах,
о добрых лицах фонарей…
Я помню, над Невой моей
бывали сумерки, как шорох
тушующих карандашей.
Всё это живописец плавный
передо мною развернул,
и, кажется, совсем недавно
в лицо мне этот ветер дул,
изображенный им в летучих
осенних листьях, зыбких тучах,
и плыл по набережной гул,
во мгле колокола гудели —
собора медные качели…
Какой там двор знакомый есть,
какие тумбы! Хорошо бы
туда перешагнуть, пролезть,
там постоять, где спят сугробы
и плотно сложены дрова,
или под аркой, на канале,
где нежно в каменном овале
синеют крепость и Нева.
25 апреля 1926
367. «Пустяк – названье мачты, план – и следом…» {*}
Пустяк – названье мачты, план – и следом
за чайкою взмывает жизнь моя;
и человек на палубе, под пледом,
вдыхающий сиянье, – это я.
Я вижу на открытке глянцевитой
развратную залива синеву,
и белозубый городок со свитой
несметных пальм, и дом, где я живу.
И в этот миг я с криком покажу вам
себя, себя – но в городе другом:
как попутай пощелкивает клювом,
так тереблю с открытками альбом.
Вот это – я и призрак чемодана;
вот это – я, по улице сырой
идущий в вас, как будто бы с экрана,
и расплывающийся слепотой.
Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда,
и сколько стран еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!
И в кресле путешественник из рая
описывает, руки заломив,
дымок из трубки с присвистом вбирая,
свою любовь – тропический залив.
18 июня 1926; Шварцвальд
368. РОДИНА {*}
Бессмертное счастие наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.
Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твое жало,
чужбина, где сила твоя?
Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.
Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных,
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.
Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.
4 июня 1927
369. БИЛЕТ {*}
На фабрике немецкой, вот сейчас, —
дай рассказать мне, муза, без волненья! —
на фабрике немецкой, вот сейчас,
все в честь мою, идут приготовленья.
Уже машина говорит: «Жую;
бумажную выглаживаю кашу;
уже пласты другой передаю».
Та говорит: «Нарежу и подкрашу».
Уже найдя свой правильный размах,
стальное многорукое созданье
печатает на розовых листах
невероятной станции названье.
И человек бесстрастно рассует
те лепестки по ящикам в конторе,
где на стене глазастый пароход,
и роща пальм, и северное море.
И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет.
14 мая 1927
370. ШАХМАТНЫЙ КОНЬ {*}
Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый,
шахматный конь в коробке уснул, —
а давно ли, давно ли в пивной знаменитой
стоял живой человеческий гул?
Гул живописцев, ребят бородатых,
и крики поэтов, и стон скрипачей…
Лампа сияла, а пол под ней
был весь в очень ровных квадратах.
Он сидел с друзьями в любимом углу,
по привычке слегка пригнувшись к столу,
и друзья вспоминали турниры былые,
говорили о тонком его мастерстве…
Бархатный стук в голове:
это ходят фигуры резные.
Старый маэстро пивцо попивал,
слушал друзей, сигару жевал,
кивал головой седовато-кудластой,
и ворот осыпан был перхотью частой —
скорлупками шахматных мыслей.
И друзья вспоминали, как, матом грозя,
Кизерицкому в Вене он отдал ферзя.
Крутом над столами нависли
табачные тучи; а плиточный пол
был в темных и светлых квадратах.
Друзья вспоминали, какой изобрел
он дерзостный гамбит когда-то.
Старый маэстро пивцо попивал,
слушал друзей, сигару жевал
и думал с улыбкою хмурой:
«Кто-то, а кто – я понять не могу,
переставляет в мозгу,
как тяжелую мебель, фигуры,
и пешка одна со вчерашнего дня
черною куклой идет на меня».
Старый маэстро сидел согнувшись,
пепел ронял на пикейный жилет, —
и нападал, пузырями раздувшись,
неудержимый шахматный бред.
Пили друзья за здоровье маэстро,
вспоминали, как с этой сигарой в зубах
управлял он вслепую огромным оркестром
незримых фигур на незримых досках.
Вдруг черный король, подкрепив проходную
пешку свою, подошел вплотную.
Тогда он встал, отстранил друзей,
и смеющихся, и оробелых.
Лампа сияла, а пол под ней
был в квадратах черных и белых.
На лице его старом, растерянном, добром
деревянный отблеск лежал.
Он сгорбился, шею надул, прижал
напряженные локти к ребрам
и прыгать пошел по квадратам большим,
через один, то влево, то вправо, —
и это была не пустая забава,
и недолго смеялись над ним.
И потом, в молчании чистой палаты,
куда черный король его увел,
на шестьдесят четыре квадрата
необъяснимо делился пол.
И эдак, и так – до последнего часа —
в бредовых комбинациях, ночью и днем,
прыгал маэстро, старик седовласый,
белым конем.
<23 октября 1927>
371. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА {*}
1
«Итак, вы русский? Я впервые
встречаю русского…» Живые,
слегка навыкате глаза
меня разглядывают: «К чаю
лимон вы любите, я знаю;
у вас бывают образа
и самовары, знаю тоже!»
Она мила: по нежной коже
румянец Англии разлит.
Смеется, быстро говорит:
«Наш город скучен, между нами, —
но речка – прелесть!.. Вы гребец?»
Крупна, с покатыми плечами,
большие руки без колец.
2
Так у викария за чаем
мы, познакомившись, болтаем,
и я старательно острю,
и не без сладостной тревоги
на эти скрещенные ноги
и губы яркие смотрю,
и снова отвожу поспешно
нескромный взгляд. Она, конечно,
явилась с теткою, но та
социализмом занята, —
и, возражая ей, викарий —
мужчина кроткий, с кадыком —
скосил по-песьи глаз свой карий
и нервным давится смешком.
3
Чай крепче мюнхенского пива.
Туманно в комнате. Лениво
в камине слабый огонек
блестит, как бабочка на камне.
Но засиделся я – пора мне…
Встаю, кивок, еще кивок,
прощаюсь я, руки не тыча, —
так здешний требует обычай, —
сбегаю вниз через ступень
и выхожу. Февральский день,
и с неба вот уж две недели
непрекращающийся ток.
Неужто скучен в самом деле
студентов древний городок?
4
Дома – один другого краше, —
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше —
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезать совсем не просто;
кабак – и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.
5
Там мяса розовые глыбы,
сырая вонь блестящей рыбы,
ножи, кастрюли, пиджаки
из гардеробов безымянных;
отдельно, в положеньях странных,
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тьму алхимических трактатов;
однажды, эту дребедень
перебирая, – в зимний день,
когда, изгнанника печаля,
шел снег, как в русском городке, —
нашел я Пушкина и Даля
на заколдованном лотке.
6
За этой площадью щербатой
кинематограф, и туда-то
по вечерам мы в глубину
туманной дали заходили, —
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебно зрителя волнуя;
где силуэтом поцелуя
всё завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.
7
И снова – улочки кривые,
ворот громады вековые, —
а в самом сердце городка
цирюльня есть, где брился Ньютон,
и древней тайною окутан
трактирчик «Синего Быка».
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.
8
Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща, – и наконец
стихало всё в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру – мудрец
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил, – и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную, —
и все мы топали в ответ.
9
Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого —
тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хорами, всегда
бывало темновато, даром
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скамьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей
и переперченные ели
супы из вялых овощей.
10
А жил я в комнате старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя
красой Италии, тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги —
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть… Но я остыл
к его твореньям… Да простится
неромантичности моей, —
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.
11
Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб, в капельках воды,
сияя, мир явился малый, —
вот это день мой занимало.
Люблю я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день-деньской
в колодец светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа,
тоска неконченых поэм.
12
Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе, – потом
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже
мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.
13
Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила
и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу… Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут,
и, первый, опущу я взор.
14
Не шло ей имя Виолета
(вернее: Вийолет, но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой не было в ней сходства, —
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки…
Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору, —
и доверять не знал я сам
чему – пустому разговору
или значительным глазам…
15
Но знал: предельного расцвета
в тот год достигла Виолета, —
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати…
А сколько тщетных увлечений, —
и все они прошли, как тени, —
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла…
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.
16
Но день приходит неминучий,
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракетка теннисная в раме, —
и вот блестящими замками,
набитый, щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний —
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж – опять фаты венчальной
напрасно призрак снился ей…
Пустая улочка и дальний
звук перебора скоростей…
17
От инфлуэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта,
одна из тех ученых дур,
какими Англия богата, —
была, в отличие от брата,
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтила идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков – русский генерал.
18
С ней Виолета не бранилась, —
порой могла бы, но ленилась, —
в благополучной тишине
жила, о мире мало зная,
отца всё реже вспоминая,
не помня матери (но мне
о ней альбомы рассказали, —
о временах осиных талий,
горизонтальных канотье.
Последний снимок: на скамье
она сидит, по юбке длинной
стекают тени на песок,
скромна горжетка, взор невинный,
в руке крокетный молоток).
19
Я приглашен был раза два-три
в их дом радушный, да в театре
раз очутилась невзначай
со мною рядом Виолета.
(Студены ставили Гамлета,
и в этот день был рай не в рай
великой тени барда.) Чаще
мы с ней встречались на кричащей
вечерней улице, когда
снует газетчиков орда,
гортанно вести выкликая.
Она гуляла в этот час.
Два слова, шуточка пустая,
великолепье темных глаз.
20
Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
соревнованье. Понемногу
росла толпа, – отдавит ногу,
пихнет в плечо, – и всё тесней
многоголовое кишенье.
С самим собою в соглашенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты, —
уж побежали игроки.
21
Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута – рот разинул,
еще – и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:
игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул, —
навстречу двое, – он вильнул,
прорвался, – чистая работа, —
и на бегу издалека
дубленый мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.
22
И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь…
Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать… Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шутливый,
всегдашний голос, легкий смех:
«Вон тот играет хуже всех, —
всё время падает, бедняга…»
Дождь моросил едва-едва;
мы возвращались вдоль оврага,
где прела черная листва.
23
Домой. С гербами на фронтонах
большое здание, в зеленых
просветах внутренних дворов.
Там тихо было. Там в суровой
(уже описанной) столовой
был штат лакеев-стариков.
Там у ворот швейцар был зоркий.
Существовала для уборки
глухой студенческой норы
там с незапамятной поры
старушек мелкая порода;
одна ходила и ко мне
сбивать метелкой пыль с комода
и с этажерок на стене.
24
И с этим образом расстаться
мне трудно. В памяти хранятся
ее мышиные шажки,
смешная траурная шляпка —
в какой, быть может, и прабабака
ее ходила, – волоски
на подбородке… Утром рано
из желтоватого тумана
она беззвучно, в черном вся,
придет и, щепки принеся,
согнется куклою тряпичной
перед холодным очагом,
наложит кокс рукой привычной
и снизу чиркнет огоньком.
25
И этот образ так тревожит,
так бередит меня… Быть может,
в табачной лавочке отца
во дни Виктории, бывало,
она румянцем волновала
в жилетах клетчатых сердца —
сердца студентов долговязых…
Когда играет в темных вязах
звук драгоценный соловья,
ее встречал такой, как я,
и с этой девочкой веселой
сирень персидскую ломал;
к ее склоненной шее голой
в смятенье губы прижимал.
26
Воображенье дальше мчится:
ночь… лампа на столе… не спится
больному старику… застыл,
ночной подслушивает шепот:
отменно важный начат опыт
в лаборатории… нет сил…
Она приходит в час урочный,
поднимет с полу сор полночный —
окурки, ржавое перо,
из спальни вынесет ведро.
Профессор стар. Он очень скоро
умрет, и он давно забыл
душистый табачок, который
во дни Виктории курил.
27
Ушла. Прикрыла дверь без стука…
Пылают угли. Вечер. Скука.
И, оглушенный тишиной,
я с кексом в родинках изюма
пью чай, бездействуя угрюмо.
В камине ласковый, ручной
огонь стоит на задних лапах,
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горящей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим собою в дамки,
читать, писать, – что делать мне?
28
Отставя чайничек кургузый,
родной словарь беру – и с музой,
моею вялой госпожой,
читаю в тягостной истоме
и нахожу в последнем томе
меж «хананыгой» и «ханжой»:
«Хандра: тоска, унынье, скука;
сплин, ипохондрия». А ну-ка
стихотворенье сочиню…
Так час-другой, лицом к огню,
сижу я, рифмы подбирая,
о Виолете позабыв, —
и вот, как музыка из рая,
звучит курантов перелив.
29
Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней,
считает башня, и печальней
вдали другая вторит ей.
На тяжелеющие зданья
по складкам мантия молчанья
спадает. Вслушиваюсь я, —
умолкло всё. Душа моя
уже к безмолвию привыкла, —
как вдруг со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла
по переулкам неживым!
30
С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
В том городке под сенью Башен
был грохот жизни бесшабашен,
и смесь хмельная старины
и настоящего живого
мне впрок пошла: душа готова
всем любоваться под луной —
и стариной и новизной.
Но я в разладе с лунным светом,
я избегаю тосковать…
Не дай мне, Боже, стать поэтом,
земное сдуру прозевать!
31
Нет! Я за книгой в кресле сонном
перед камином озаренным
не пропустил, тоскуя зря,
весны прелестного вступленья.
Довольно угли и поленья
совать в камин – до октября.
Вот настежь небеса открыты,
вот первый крокус глянцевитый,
как гриб, сквозь мураву пророс,
и завтра, без обильных слез,
без сумасшедшего напева,
придет, усядется она —
совсем воспитанная дева,
совсем не русская весна.
32
И вот пришла. Прозрачней, выше
курантов музыка, и в нише
епископ каменный сдает
квартиры ласточкам. И, гулко
дудя в пролете переулка,
машина всякая снует.
Шумит фонтан, цветет ограда.
Лоун-теннис – белая отрада —
сменяет буйственный футбол:
в штанах фланелевых пошел
весь мир играть. В те дни кончался
последний курс – девятый вал,
и с Виолетой я встречался
и Виолету целовал.
33
Как в первый раз она метнулась
в моих объятьях, – ужаснулась,
мне в плечи руки уперев,
и как безумно и уныло
глаза глядели! Это было
не удивленье и не гнев,
не девичий испуг условный…
Но я не понял… Помню ровный,
остриженный по моде сад,
шесть белых мячиков и ряд
больших кустов рододендрона;
я помню, пламенный игрок,
площадку твердого газона
в чертах и с сеткой поперек.
34
Она лениво – значит, скверно —
играла; не летала серной,
как легконогая Ленглен.
Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью сплеча
скользнуть по темени мяча,
и, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать, —
на свете нет забавы слаще…
В раю мы будем в мяч играть.
35
Стоял у речки дом кирпичный:
плющом, глицинией обычной
стена меж окон обвита.
Но кроме плющевой гостиной,
где я запомнил три картины:
одна – Мария у Креста,
другая – ловчий в красном фраке,
и третья – спящие собаки, —
я комнат дома не видал.
Камин и бронзовый шандал
еще, пожалуй, я отмечу,
и пианолу под чехлом,
и ног нечаянную встречу
под чайным чопорным столом.
36
Она смирилась очень скоро…
Уж я не чувствовал укора
в ее послушности. Весну
сменило незаметно лето.
В полях блуждаем с Виолетой:
под черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит, —
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар, —
особенно когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час, – и ноет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.
37
В такие дни, с такою ленью
не до науки. К сожаленью,
экзамен нудит, хошь не хошь.
Мы поработаем, пожалуй…
Но книга – словно хлеб лежалый,
суха, тверда – не разгрызешь.
Мы и не то одолевали…
И вот верчусь средь вакханалий
названий, в оргиях систем
и вспоминаю вместе с тем,
какую лодочник знакомый
мне шлюпку обещал вчера,
и недочитанные томы —
хлоп, и на полочку. Пора!
38
К реке воскресной, многолюдной
местами сходит изумрудный
геометрический газон,
а то нависнет арка: тесен
под нею путь – потемки, плесень.
В густую воду с двух сторон
вросли готические стены.
Как неземные гобелены,
цветут каштаны над мостом,
и плющ на камне вековом
тузами пиковыми жмется, —
и дальше, узкой полосой,
река вдоль стен и башен вьется
с венецианскою ленцой.
39
Плоты, пироги да байдарки;
там граммофон, тут зонтик яркий;
и осыпаются цветы
на зеленеющую воду.
Любовь, дремота, тьма народу,
и под старинные мосты,
сквозь их прохладные овалы,
как сон блестящий и усталый,
всё это медленно течет,
переливается, – и вот
уводит тайная излука
в затон черемухи глухой,
где нет ни отсвета, ни звука,
где двое в лодке под ольхой.
40
Вино, холодные котлеты,
подушки, лепет Виолеты;
легко дышал ленивый стан,
охвачен шелковою вязкой;
лицо, не тронутое краской,
пылало. Розовый каштан
цвел над ольшаником высоко,
и ветерок играл осокой,
по лодке шарил, чуть трепал
юмористический журнал;
и в шею трепетную, в душку
я целовал ее, смеясь.
Смотрю: на яркую подушку
она в раздумье оперлась.
41
Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы…
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз… «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала и небрежно стерла
блистанье той слезы немой,
и тихим смехом вздулось горло:
«Сама не знаю, милый мой…»
42
Текли часы. Туман закатный
спустился. Вдалеке невнятно
пропел на пастбище рожок.
Налетом сумеречно-мглистым
покрылся мир, и я в слоистом,
цветном фонарике зажег
свечу, и тихо мы поплыли
в туман, где плакала не ты ли,
Офелия, иль то была
лишь граммофонная игла?
В тумане звук неизъяснимый
всё ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо,
алела капля огонька.
43
И может быть, не Виолета —
другая, и в другое лето,
в другую ночь плывет со мной…
Ты здесь, и не было разлуки,
ты здесь, и протянула руки,
и в смутной тишине ночной
меня ты полюбила снова,
с тобой средь марева речного
я счастья наконец достиг…
Но, слава Богу, в этот миг
стремленье грезы невозможной
звук речи английской прервал:
«Вот пристань, милый. Осторожно».
Я затабанил и пристал.
44
Там на скамье мы посидели…
«Ах, Виолета, неужели
вам спать пора?» И, заблистав
преувеличенно глазами,
она в ответ: «Судите сами —
одиннадцать часов», – и, встав,
в последний раз мне позволяет
себя обнять. И поправляет
прическу: «Я дойду одна.
Прощайте». Снова холодна,
печальна, чем-то недовольна, —
не разберешь… Но счастлив я:
меня подхватывает вольно
восторг ночного бытия.
45
Я шел домой, пьянея в тесных
объятьях улочек прелестных, —
и так душа была полна,
и слов была такая скудность!
Крутом – безмолвие, безлюдность
и, разумеется, луна.
И, блики на панели гладкой
давя резиновою пяткой,
я шел и пел «Алла верды»,
не чуя близости беды…
Предупредительно и хмуро
из-под невидимых ворот
внезапно выросли фигуры
трех неприятнейших господ.
46
Глава их – ментор наш упорный:
осанка, мантия и черный
квадрат покрышки головной, —
весь вид его – укор мне строгий.
Два молодца – его бульдоги —
с боков стоят, следят за мной.
Они на сыщиков похожи,
но и на факельщиков тоже:
крепки, мордасты, в сюртуках,
в цилиндрах. Если же впотьмах
их жертва в бегство обратится,
спасет едва ли темнота, —
такая злая в них таится
выносливость и быстрота.
47
И тихо помянул я черта…
Увы, я был одет для спорта,
а ночью требуется тут
(смотри такой-то пункт статута)
ходить в плаще. Еще минута,
ко мне все трое подойдут,
и средний взгляд мой взглядом встретит,
и спросит имя, и отметит,
«спасибо» вежливо сказав;
а завтра – выговор и штраф.
Я замер. Свет белесый падал
на их бесстрастные черты.
Надвинулись… И тут я задал,
как говорится, лататы.
48
Луна… Погоня… Сон безумный…
Бегу, шарахаюсь бесшумно:
то на меня из тупика
цилиндра призрак выбегает,
то тьма плащом меня пугает,
то словно тянется рука
в перчатке черной… Мимо, мимо.
И всё луною одержимо,
всё исковеркано кругом…
И вот стремительным прыжком
окончил я побег бесславный,
во двор коллегии пролез,
куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.
49
Я запыхался… Сердце бьется…
И ночь томит, лениво льется…
И в холодок моих простынь
вступаю только в час рассвета,
и ты мне снишься, Виолета,
что просишь будто: «Плащ накинь…
не тот, не тот… он слишком узкий…»
Мне снится, что с тобой по-русски
мы говорим, и я во сне
с тобой на «ты», – и снится мне,
что будто принесла ты щепки,
ломаешь их, в камин кладешь…
Ползи, ползи, огонь нецепкий, —
ужели дымом изойдешь?
50
Я поздно встал, проспал занятья…
Старушка чистила мне платье:
под щеткой – пуговицы стук.
Оделся, покурил немного,
зевая, в клуб Единорога
пошел позавтракать, – и вдруг
встречаю Джонсона у входа!
Мы не видались с ним полгода —
с тех пор, как он экзамен сдал.
«С приездом, вот не ожидал!» —
«Я ненадолго, до субботы,
мне нужно только разный хлам —
мои последние работы —
представить здешним мудрецам».
51
За столик сели мы. Закуски
и разговор о том, что русский
прожить не может без икры;
потом – изгиб форели синей
и разговор о том, кто ныне
стал мастер теннисной игры;
за этим – спор довольно скучный
о стачке и пирог воздушный.
Когда же, мигом разыграв
бутылку дружеского «Грав»,
за обольстительное «Асти»
мы деловито принялись, —
о пустоте сердечной страсти
пустые толки начались.
52
«Любовь… – и он вздохнул протяжно: —
Да, я любил… Кого – не важно;
но только минула весна,
я замечаю – плохо дело;
воображенье охладело,
мне опостылела она».
Со мной он чокнулся уныло
и продолжал: «Ужасно было…
Вы к ней нагнетесь, например,
и глаз, как, скажем, Гулливер,
гуляющий по великанше,
увидит борозды, бугры
на том, что нравилось вам раньше,
что отвращает с той поры…»
53
Он замолчал. Мы вышли вместе
из клуба. Говоря по чести,
я был чуть с мухой, и домой
хотелось. Солнце жгло. Сверкали
деревья. Молча мы шагали, —
как вдруг угрюмый спутник мой —
на улице Святого Духа —
мне локоть сжал и молвил сухо:
«Я вам рассказывал сейчас… —
Смотрите, вот она как раз…»
И шла навстречу Виолета,
великолепна, весела,
в потоке солнечного света,
и улыбнулась, и прошла.
54
В каком-то раздраженье тайном
с моим приятелем случайным
я распрощался. Хмель пропал.
Так: поваландался, и баста!
Я стал работать – как не часто
работал, днями утопал,
ероша волосы, в науке,
и с Виолетою разлуки
не замечал; и, наконец
(как напрягается гребец
у приближающейся цели),
уже я ночи напролет
зубрил учебники в постели,
к вискам прикладывая лед.
55
И началось. Экзамен длился
пять жарких дней. Так накалился
от солнца тягостного зал,
что даже обморока случай
произошел, и вид падучей
сосед мой справа показал
во избежание провала.
И кончилось. Поцеловала
счастливцев Альма Матер в лоб;
убрал я книги, микроскоп —
и вспомнил вдруг о Виолете,
и удивился я тогда:
как бы таинственных столетий
нас разделила череда.
56
И я уже шатун свободный,
душою легкой и голодной
в другие улетал края —
в знакомый порт, и там в конторе
вербует равнодушно море
простых бродяг, таких, как я.
Уже я прожил все богатства:
портрет известного аббатства
всего в двух копиях упас.
И в ночь последнюю – у нас
был на газоне, посредине
венецианского двора,
обычный бал, и в серпантине
мы проскользили до утра.
57
Двор окружает галерея.
Во мраке синем розовея,
горят гирлянды фонарей —
Эола легкие качели.
Вот музыканты загремели —
пять черных яростных теней
в румяной раковине света.
Однако где же Виолета?
Вдруг вижу: вот стоит она,
вся фонарем озарена,
меж двух колонн, как на подмостках.
И что-то подошло к концу…
Ей это платье в черных блестках,
быть может, не было к лицу.
58
Прикосновеньем не волнуем,
я к ней прильнул, и вот танцуем:
она безмолвна и строга,
лицом сверкает недвижимым,
и поддается под нажимом
ноги упругая нога.
Послушны грохоту и стону,
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки,
то восклицание цимбал,
то длинный шаг, то шаг короткий, —
и ночь любуется на бал.
59
Живой душой не правит мода,
но иногда моя свобода
случайно с нею совпадет:
мне мил фокстрот, простой и нежный…
Иной мыслитель неизбежно
симптомы века в нем найдет —
разврат под музыку бедлама;
иная пишущая дама
или копеечный пиит
о прежних танцах возопит;
но для меня, скажу открыто,
особой прелести в том нет,
что грубоватый и немытый
маркиз танцует менуэт.
60
Оркестр умолк. Под колоннаду
мы с ней прошли, и лимонаду
она глотнула, лепеча.
Потом мы сели на ступени.
Смотрю: смешные наши тени
плечом касаются плеча.
«Я завтра еду, Виолета».
И было выговорить это
так просто… Бровь подняв, она
мне улыбнулась, и ясна
была улыбка: «После бала
легко все поезда проспать».
И снова музыка стонала,
и танцевали мы опять.
61
Прервись, прервись, мой бал прощальный!
Пока роняет ветр бальный
цветные ленты на газон
и апельсиновые корки, —
должно быть, где-нибудь в каморке
старушка спит, и мирен сон.
К ней пятна лунные прильнули;
чернеет платьице на стуле,
чернеет шляпка на крюке,
будильник с искрой в куполке
прилежно тикает, под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь,
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.
62
Моя старушка в полдень ровно
меня проводит. Я любовно
ракету в раму завинтил,
нажал на чемодан коленом,
захлопнул. По углам, по стенам
душой и взглядом побродил:
да, взято всё… Прощай, берлога!
Стоит старушка у порога…
Мотора громовая дрожь —
колеса тронулись… Ну что ж,
еще один уехал… Свежий
сюда вселится в октябре, —
и разговоры будут те же
и тот же мусор на ковре..
63
И это всё. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя, как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа,
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели,
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.
<Декабрь 1927>
372. РАССТРЕЛ {*}
Небритый, смеющийся, бледный,
в чистом пиджаке,
без галстука, с маленькой, медной
запонкой на кадыке;
он ждет; и всё зримое в мире
только – высокий забор,
жестянка в траве и четыре
дула, смотрящих в упор.
Так ждал он, смеясь и мигая,
на именинах не раз,
чтоб магний блеснул, озаряя
белые лица без глаз.
Всё. Молния боли железной…
Неумолимая тьма.
И, воя, крутится над бездной
ангел, сошедший с ума.
<20 декабря 1927>
373. РАЗГОВОР {*}
Писатель. Критик. Издатель.
Писатель
Легко мне на чужбине жить,
писать трудненько, – вот в чем штука.
Вы морщитесь, я вижу?
Критик
Скука
Нет книг.
Издатель
Могу вам одолжить
два-три журнала – цвет изданий
московских, – «Алую Зарю»,
«Кряж», «Маховик»…
Критик
Благодарю.
Не надо. Тошно мне заране.
У музы тамошней губа
отвисла, взгляд блуждает тупо,
разгульна хочет быть, груба:
всё было б ничего – да глупо.
Издатель
Однако хвалят. Новизну,
и быт, и пафос там находят.
Иного – глядь – и переводят.
Я знаю книжицу одну…
Критик
Какое! Грамотеи эти,
Цементов, Молотов, Серпов,
сосредоточенно, как дети,
рвут крылья у жужжащих слов.
Мне их убожество знакомо:
был Писарев, была точь-в-точь
такая ж серенькая ночь.
Добро еще, что пишут дома, —
а то какой-нибудь Лидняк,
как путешествующий купчик,
на мир глядит, и пучит зрак,
и ужасается, голубчик:
куда бы ни поехал он,
в Бордо ли, Токио, – всё то же:
матросов бронзовые рожи
и в переулочке притон.
Издатель
Так вы довольны музой здешней,
изгнанницей немолодой?
Неужто по сравненью с той
она вам кажется —
Критик
Безгрешней.
Но, впрочем, и она скучна…
А там, – нет, все-таки там хуже!
Отражены там в серой луже
штык и фабричная стена.
Где прихоть вольная развязки?
Где жизни полный разговор?
Мучитель муз, евнух парнасский,
там торжествует резонер.
Издатель
Да вы, как погляжу, каратель
былого, нового, всего!
что ж надо делать?
Критик
Ничего.
Скучать.
Издатель
Что думает писатель?
Как знать, – быть может, суждено
так развернуться…
Писатель
Мудрено.
Года идут. Язык, мне данный,
скудеет, жара не храня,
вдали живительной стихии.
Слова, как берега России,
в туман уходят от меня.
Бывало, поздно возвращаюсь,
иду, не поднимая глаз,
неизъяснимым насыщаюсь
и знаю: где-то вот сейчас
любовь земная ждет ответа
иль человек родился; где-то
в ночи блуждают налегке
умерших мыслящие тени;
бормочет где-то русский гений
на иностранном чердаке.
И оглушительное счастье
в меня врывается… Во всем
к себе я чувствую участье —
в звездах и в камне городском.
И остываю я словами
на ожидающем листе…
Очнусь – и кроткими друзьями
я брошен, и слова – не те.
Издатель
Я б, господа, на вашем месте
Парнас и прочее – забыл.
Поймите, мир не тот, что был.
Сто лет назад целковых двести
вам дал бы Греч за разговор,
такой по-новому проворный,
за ямб искусно-разговорный…
Увы: он устарел с тех пор.
<14 апреля 1928>
374. ОСА {*}
Твой панцирь, желтый и блестящий,
булавкой я проткнул
и слушал плач твой восходящий,
прозрачнейший твой гул.
Тупыми ножницами жало
я защемил – и вот
отрезал… Как ты зажужжала,
как выгнула живот!
Теперь гуденье было густо,
и крылья поскорей
я отхватил, почти без хруста,
у самых их корней.
И обеззвученное тело
шесть вытянуло ног,
глазастой головой вертело…
И спичку я зажег —
чтоб видеть, как вскипишь бурливо,
лишь пламя поднесу…
Так мучит отрок терпеливый
чудесную осу;
так, изощряя слух и зренье,
взрезая, теребя, —
мое живое вдохновенье,
замучил я тебя!
<24 июня 1928>
375. ТОЛСТОЙ {*}
Картина в хрестоматии: босой
старик. Я поворачивал страницу,
мое воображенье оставалось
холодным. То ли дело – Пушкин: плащ,
скала, морская пена… Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, – и сладостно звучна
вся жизнь его – от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.
К Толстому лучезарная легенда
еще не прикоснулась. Жизнь его
нас не волнует. Имена людей,
с ним связанных, звучат еще незрело:
им время даст таинственную знатность,
то время не пришло; назвав Черткова,
я только б сузил горизонт стиха.
И то сказать: должна людская память
утратить связь вещественную с прошлым,
чтобы создать из сплетни эпопею
и в музыку молчанье претворить.
А мы еще не можем отказаться
от слишком лестной близости к нему
во времени. Пожалуй, внуки наши
завидовать нам будут неразумно.
Коварная механика порой
искусственно поддерживает память.
Еще хранит на граммофонном диске
звук голоса его: он вслух читает,
однообразно, торопливо, глухо,
и запинается на слове «Бог»,
и повторяет: «Бог», и продолжает,
чуть хриплым говорком, – как человек,
что кашляет в соседнем отделенье,
когда вагон на станции ночной,
бывало, остановится со вздохом.
Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,
теперь мигающих подслеповато,
яснополянский движущийся снимок:
старик невзрачный, роста небольшого,
с растрепанною ветром бородой,
проходит мимо скорыми шажками,
сердясь на оператора. И мы
довольны. Он нам близок и понятен.
Мы у него бывали, с ним сидели.
Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах…
И, чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се… Шумят
витии за вечерним самоваром;
по чистой скатерти мелькают тени
религий, философий, государств —
отрада малых сих… Но есть одно,
что мы никак вообразить не можем,
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
корреспондентам на пожаре, вкруг
его души. До некой тайной дрожи,
до главного добраться нам нельзя.
Почти нечеловеческая тайна!
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил, я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья… Ведь живые люди
родились в эти ночи… Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый.
И вот они живут; всё в них живет —
привычки, поговорки и повадка;
их родина – такая вот Россия,
какую носим мы в той глубине,
где смутный сон примет невыразимых, —
Россия запахов, оттенков, звуков,
огромных облаков над сенокосом,
Россия обольстительных болот,
богатых дичью… Это всё мы любим.
Его созданья, тысячи людей,
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
окрашивают даль воспоминаний —
как будто впрямь мы жили с ними рядом.
Среди толпы Каренину не раз
по черным завиткам мы узнавали;
мы с маленькой Щербацкой танцевали
заветную мазурку на балу…
Я чувствую, что рифмой расцветаю,
я предаюсь незримому крылу…
Я знаю, смерть лишь некая граница;
мне зрима смерть лишь в образе одном:
последняя дописана страница,
и свет погас над письменным столом.
Еще виденье, отблеском продлившись,
дрожит, и вдруг – немыслимый конец…
И он ушел, разборчивый творец,
на голоса прозрачные деливший
гул бытия, ему понятный гул…
Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул,
и дальше – ночь, безмолвие и тайна…
<16 сентября 1928>
376. ОСТРОВА {*}
В книге сказок помню я картину:
ты да я на башне угловой.
Стань сюда, и снова я застыну
на ветру, с протянутой рукой.
Там, вдали, где волны завитые
переходят в дымку, различи
острова блаженства, как большие
фиолетовые куличи.
Ибо золотистыми перстами
из особой сладостной земли
пекаря́ с кудрявыми крылами
их на грани неба испекли.
И должно быть легче там и краше,
и, пожалуй, мы б пустились вдаль,
если б наших книг, собаки нашей
и любви нам не было так жаль.
Февраль 1928
377. К РОССИИ {*}
Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы – реки и ручьи.
Слепец, я руки простираю
и всё земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.
И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,
как на покатой школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.
23 июня 1928
378. КИНЕМАТОГРАФ {*}
Люблю я световые балаганы
всё безнадежнее и всё нежней.
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.
Там для распутства символ есть единый —
бокал вина; а добродетель – шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.
Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый состраданья богатей
усердно вносит барышень бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.
Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность… трепет… поперек листа
рука бежит… И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!
Вот спальня озаренная. Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;
но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.
О да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты.
Но вымысел? Гармонии услада?
Ума полет? О Муза, где же ты?
Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веси и века,
спешит роскошное воображенье
самоуверенного пошляка.
И вот – конец… Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.
Очнулся мир, прохладою и шумом
растаявшую выдумку сменив.
И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.
10 ноября 1928
379. СТАНСЫ О КОНЕ {*}
На полотни́щах, озаренных
игрой малиновый лучей,
условный выгиб окрыленных
Наполеоновых коней.
И цирковое полнолунье,
огромный снежный круп, оплот
сосредоточенной плясуньи;
песок, и музыка, и пот.
И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст;
волною счастия шуршащий
по голенищу влажный куст.
И ты, лирическое имя
в газете уличной, скакун,
гнедым огнем летящий мимо
тобою вспыхнувших трибун.
И столь покорный конь манежный,
и Фальконетов конь живой.
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:
обросший шерстью с голодухи,
не чующий моей любви,
и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.
26 ноября 1928
380. «Для странствия ночного мне не надо…» {*}
Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.
И прыгает с беззвучностью привычной,
как ночью кот через плетень,
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.
Таинственно, легко, неуязвимо
ложусь на стены чередой,
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
напрасно метит часовой.
Лечу лугами, по лесу танцую —
и кто поймет, что есть один,
один живой на всю страну большую,
один счастливый гражданин.
Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.
Всё тихо. Поздний пешеход,
встречая тень средь площади пустынной,
воображение клянет.
Я подхожу к неведомому дому,
я только место узнаю…
Там, в темных комнатах, всё по-другому
и всё волнует тень мою.
Там дети спят. Над уголком подушки
я наклоняюсь, и тогда
им снятся прежние мои игрушки,
и корабли, и поезда.
20 июля 1929
381. ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ {*}
Средь пустоты, над полем дальним,
пласты закатных облаков
казались призраком зеркальным
океанических песков.
Как он блистает, берег гладкий,
необитаемый… Толчок,
дно поднимается под пяткой,
и выхожу я на песок.
Дрожа от свежести и счастья,
стою я, новый Робинзон,
на этой отмели блестящей,
пустой лазурью окружен.
И странно вспоминать минуту
недоумения, когда
нащупала мою каюту
и хищно хлынула вода;
когда она, вращаясь зыбко
в нетерпеливости слепой,
внесла футляр от чьей-то скрипки
и фляжку унесла с собой.
О том, как палуба трещала,
приняв смертельную волну,
о том, как музыка играла,
пока мы бурно шли ко дну,
пожалуй, будет и нетрудно
мне рассказать когда-нибудь…
Да что ж мечтать, какое судно
на остров мой направит путь.
Он слишком призрачен, воздушен.
О нем не знают ничего.
К нему создатель равнодушен.
Он меркнет, тает… нет его.
И я охвачен темнотою,
и, сладостно в ушах звеня
и вздрагивая под рукою,
проходят звезды сквозь меня.
Август 1929
382. БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ {*}
Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
И будешь ты как шут одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время – раковина муз.
Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией… Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.
<7 февраля> 1930
383. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ {*}
В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.
И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а всё ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты и где живешь.
Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.
Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.
И всё давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.
12 февраля 1930
384. УЛЬДАБОРГ {*}
(Перевод с зоорландского)
Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой.
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:
математик там плачется кроткий,
там – великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки.
О, хотя бы железный цветок,
хоть бы кто-нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач-дровосек.
И какой-то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, всё танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.
Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.
И хоть праздники все под запретом
(на молу фейерверки весной
и балы перед ратушей летом),
будет праздник, и праздник большой.
Справа горы и Воцберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.
Озираются, жмутся тревожно.
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех —
над запретами голого цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих.
Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряду,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.
Апрель 1930
385. ОКНО {*}
Соседний дом в сиренях ночи тонет,
и сумраком становится он сам.
Кой-где забыли кресло на балконе,
не затворили рам.
Внезапно, как раскрывшееся око,
свет зажигается в одном из окон.
К буфету женщина идет.
А тот уж знает, что хозяйке надо,
и жители хрустальные ей рады,
и одного она берет.
Бесшумная, сияя желтым платьем,
протягивает руку, и невнятен
звук выключателя: трик-трак.
Сквозь темноту наклонного паркета
уходит силуэт тропинкой света,
дверь закрывается, и – мрак.
Но чем я так пронзительно взволнован,
откуда эта радость бытия?
И опытом каким волшебно-новым
обогатился я?
<5 мая> 1930
386. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ {*}
Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.
Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.
И вот сажусь на выцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.
А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громыхая.
Еще темно. Уборщица глухая
одна сидит в тринадцатом ряду.
Настанет день. Ты будешь королем.
Ты – поселянкой с кистью винограда.
Вы – нищими. А ты, моя отрада,
сама собой, но в платье дорогом.
И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.
Тогда-то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда-то милый им.
6 октября 1930
387. ПРОБУЖДЕНИЕ {*}
Спросонья вслушиваюсь в звон
и думаю: еще мгновенье —
и вновь забудусь я… Но сон
уже утратил дар забвенья —
не может дочитать строку,
восстановить страну ночную,
обратно съехать по ледку…
Куда там! – в оттепель такую.
Звон в отопленье по утрам —
необычайно музыкальный:
удар или двойной тра-рам,
как по хрустальной наковальне.
Март, ветреник и скороход,
должно быть, облака пугает:
свет абрикосовый растет
сквозь веки и опять сбегает.
Тут, перелившись через край,
вся нежность мира накатила:
пса молодого добрый лай,
а в комнате – твой голос милый.
<Январь 1931>
388. ПОМПЛИМУСУ {*}
Прекрасный плод, увесистый и гладкий,
ты светишься, как полная луна;
глухой сосуд амброзии несладкой,
душистый холод белого вина.
Лимонами блистают Сиракузы,
Миньону соблазняет апельсин,
но ты один достоин жажды Музы,
когда она спускается с вершин.
<24 января> 1931
389. ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ «НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» {*}
(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)
От Меррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
всё лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся средь мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.
В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и всё трещало и тряслось,
разговорились мы.
«Когда бы
(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
всё лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертом,
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), – словом,
я счастлив был – и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.
В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь-ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
всё расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.
Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать,
и запивать ее портвейном,
и, очинив перо острей,
всё тайное в душе своей
певучей предавать огласке.
Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?
Там одномесячный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он щурится спросонок,
какие огоньки сквозят…
Нет, я боюсь таких котят.
Вам темным кажется сравненье?
Пожалуй, выражусь ясней:
есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей —
пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской.
Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.
Дни Ювенала отлетели.
Не воспевать же, в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона шандалом?
Нет воздуха в сем мире малом.
Я музу увожу мою.
Вы спросите, как ей живется,
привольно ль, весело? О да.
Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.
К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное – стихи его.
Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной,
он клонится к могильной яме
адамовою головой.
И вообще: поэты много
о смерти ныне говорят;
венок и выцветшая тога —
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат… Петроний новый,
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,
садится в ванну. Всё готово.
Уж вольной смерти близок час.
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос…
Нет, быть не может…
Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму,
и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,
на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погодя и всё лицо.
Тут я не выдержал. «Скажите,
как ваше имя?» Смотрит он
и отвечает: «Я – Ченстон».
Мы обнялись.
1 июля 1931
390. «Сам треугольный, двукрылый, безногий…» {*}
Сам треугольный, двукрылый, безногий,
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой в безумной тревоге
комнату всю облетая крутом,
страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,
всё еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,
только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.
2 сентября 1932
391. Русалка {*}
Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»БЕРЕГ
Князь
Печальные, печальные мечты
вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! Как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
и согласится он оставить лес
и к нам переселиться…
(Русалочка выходит на берег.)
Что я вижу!
Откуда ты, прелестное дитя?
Русалочка
Из терема.
Князь
Где ж терем твой? Отсюда
до теремов далече.
Русалочка
Он в реке.
Князь
Вот так мы в детстве тщимся бытие
сравнять мечтой с каким-то миром тайным.
А звать тебя?
Русалочка
Русалочкой зови.
Князь
В причудливом ты, видно, мастерица,
но слушатель я слишком суеверный,
и чудеса ребенку впрок нейдут
вблизи развалин, ночью. Вот тебе
серебряная денежка. Ступай.
Русалочка
Я б деду отнесла, да мудрено
его поймать. Крылом мах-мах – и скрылся.
Князь
Кто – скрылся?
Русалочка
Ворон.
Князь
Будет лепетать.
Да что ж ты смотришь на меня так кротко?
Скажи… Нет, я обманут тенью листьев,
игрой луны. Скажи мне… Мать твоя
в лесу, должно быть, ягоду сбирала
и к ночи заблудилась… иль попав
на топкий берег… Нет, не то. Скажи,
ты – дочка рыбака, меньшая дочь,
не правда ли? Он ждет тебя, он кличет.
Поди к нему.
Русалочка
Вот я пришла, отец.
Князь
Чур, чур меня!
Русалочка
Так ты меня боишься?
Не верю я. Мне говорила мать,
что ты силен, приветлив и отважен,
что пересвищешь соловья в ночи,
что лань лесную пеший перегонишь.
В реке-Днепре она у нас царица;
«Но, говорит, в русалку обратись,
я всё люблю его, всё улыбаюсь,
как в ночи прежние, когда бежала,
платок забывши впопыхах, к нему
за мельницу».
Князь
Да, этот голос милый
мне памятен. И это всё безумье —
и я погибну…
Русалочка
Ты погибнешь, если
не навестишь нас. Только человек
боится нежити и наважденья,
а ты не человек. Ты наш, с тех пор
как мать мою покинул и тоскуешь.
На темном дне отчизну ты узнаешь,
где жизнь течет, души не утруждая.
Ты этого хотел. Дай руку. Видишь,
луна скользит, как чешуя, а там…
Князь
Ее глаза сквозь воду ясно светят,
дрожащие ко мне струятся руки!
Веди меня, мне страшно, дочь моя…
(Исчезает в Днепре.)
Русалки (поют)
Всплываем, играем
и пеним волну.
На свадьбу речную
зовем мы луну.
Всё тише качаясь,
туманный жених
на дно опустился
и вовсе затих.
И вот осторожно,
до самого дна,
до лба голубого
доходит луна.
И тихо смеется,
склоняясь к нему,
Царица-Русалка
в своем терему.
(Скрываются. Пушкин пожимает плечами.)
<Февраль 1942>
2 {*}
Целиком в мастерскую высокую
входит солнечный вечер ко мне:
он как нотные знаки, как фокусник,
он сирень на моем полотне.
Ничего из работы не вышло,
только пальцы в пастельной пыли.
Смотрят с неба художники бывшие
на румяную щеку земли.
Я ж смотрю, как в стеклянной обители
зажигается сто этажей
и как американские жители
там стойком поднимаются в ней.
<Ноябрь 1953>
3 {*}
Всё, от чего оно сжимается,
миры в тумане, сны, тоска
и то, что мною принимается
как должное – твоя рука;
всё это под одною крышею
в плену моем живет, поет,
но сводится к четверостишию,
как только ямб ко дну идет.
И оттого, что – как мне помнится —
жильцы родного словаря
такие бедняки и скромницы:
холм, папоротник, ель, заря,
читателя мне не разжалобить,
а с музыкой я незнаком,
и удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.
—
«Но вместо всех изобразительных
приемов и причуд, нельзя ль
одной опушкой существительных
и воздух передать и даль?»
Я бы добавил это новое,
но наподобие кольца
сомкнуло строй уже готовое
и не впустило пришлеца.
Август 1953
4 {*}
Вечер дымчат и долог:
я с мольбою стою,
молодой энтомолог,
перед жимолостью.
О, как хочется, чтобы
там, в цветах, вдруг возник,
запуская в них хобот,
райский сумеречник.
Содроганье – и вот он,
я по ангелу бью,
и уж демон замотан
в сетку дымчатую.
Сентябрь 1953
5 {*}
Какое б счастье или горе
ни пело в прежние года,
метафор, даже аллегорий,
я не чуждался никогда.
И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.
28 декабря 1953; Итака
6. СОН {*}
Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.
И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
«Читай, читай!» – кричит мне кровь моя:
Р, О, С, – нет, я букв не различаю.
1953
7 {*}
Зимы ли серые смыли
очерк единственный? Эхо ли —
всё, что осталось от голоса? Мы ли
поздно приехали?
Только никто не встречает нас. В доме
рояль – как могила на полюсе. Вот тебе
ласточки. Верь тут, что кроме
пепла есть оттепель!
Ноябрь 1953
399. «Минуты есть: „Не может быть, – бормочешь…“» {*}
Минуты есть: «Не может быть, – бормочешь, —
не может быть, не может быть, что нет
чего-то за пределом этой ночи»,
и знаков ждешь, и требуешь примет.
Касаясь до всего душою голой,
на бесконечно милых мне гляжу
со стоном умиленья; и, тяжелый,
по тонкому льду счастия хожу.
27 декабря 1953
400. «Сорок три или четыре года…» {*}
Сорок три или четыре года
ты уже не вспоминалась мне:
вдруг, без повода, без перехода,
посетила ты меня во сне.
Мне, которому претит сегодня
каждая подробность жизни той,
самовольно вкрадчивая сводня
встречу приготовила с тобой.
Но хотя, опять возясь с гитарой,
ты опять «молодушкой была»,
не терзать взялась ты мукой старой,
а лишь рассказать, что умерла.
9 апреля 1967








