Стихотворения
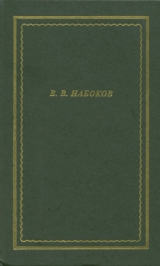
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ» {*}
204. ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ {*}
От счастия влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.
В волненье повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:
на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет забытый
под куполом зеленого стекла.
И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.
18 мая 1928; Берлин
205. ТИХИЙ ШУМ {*}
Когда, в приморском городке,
средь ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.
Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.
Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незваный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной, —
И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.
Не моря шум – в тиши ночей
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.
В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро, —
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.
Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем…
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.
Зато – в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине…
6 июня 1926
206. КИРПИЧИ {*}
Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груду кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многое за них
лихому времени простится —
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески…
Как это было? В синем блеске
я вижу красноту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.
Кирпичник спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем как, вкруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно – окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Всё горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.
Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим всё понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.
<1 апреля> 1928
207. «Когда весеннее мечтанье…» {*}
Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.
Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.
Под нею – черная ограда,
и ящик спереди прибит.
Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.
Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел…
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.
Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.
14 мая 1925
208. ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА {*}
В осенний день, блистая, как стекло,
потрескивая крыльями, стрекозы
над лугом вьются. В Оредежь глядится
сосновый лес, и тот, что отражен, —
яснее настоящего. Опавшим
листом шурша, брожу я по тропам,
где быстрым, шелковистым поцелуем
луч паутины по лицу пройдет
и вспыхнет радугой. А небо – небо
сплошь синее, насыщенное светом,
и нежит землю, и земли не видит.
Задумчиво в усадьбу возвращаюсь.
В гостиной печь затоплена, и в вазах
мясистые теснятся георгины.
Пишу стихи, валяясь на диване,
и все слова без цвета и без веса —
не те слова, что в будущем найдет
воспоминанье. В комнате соседней
играют в бикс: прерывисто, по капле,
по капельке сбегает тонкий звон.
Как перед тем, чтоб на зиму уехать,
в гербарий, на шершавую страницу
кладешь очаровательно-увядший
кленовый лист, полоскою бумаги
приклеиваешь стебель, пишешь дату,
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный
да вспомнить деревенский сад, найдя
багряный лист, оранжевый по краю, —
так, некогда, осенний ясный день
я сохранил и ныне им любуюсь.
<17 октября> 1926
209. СНИМОК {*}
На пляже в полдень лиловатый
в морском каникульном раю
снимал купальщик полосатый
свою счастливую семью.
И замирает мальчик голый,
и улыбается жена,
в горячий свет, в песок веселый,
как в серебро, погружена.
И полосатым человеком
направлен в солнечный песок,
мигнул и щелкнул черным веком
фотографический глазок.
Запечатлела эта пленка
всё, что могла она поймать:
оцепеневшего ребенка,
его сияющую мать,
и ведерцо, и две лопаты,
и в стороне песчаный скат.
И я, случайный соглядатай,
на заднем плане тоже снят.
Зимой в неведомом мне доме
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:
мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,
моя незнаемая ими,
вотще украшенная тень.
20 августа 1927; Бинц
210. АЭРОПЛАН {*}
Как поет он, как нежданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет,
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает.
В этот мирный день воскресный
чуден блеск его небесный,
бархат громовой.
И у парковой решетки,
на обычном месте, кроткий
слушает слепой:
Губы слушают и плечи —
тихий сумрак человечий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки.
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.
И прохожий, деньги вынув,
замер, голову закинув,
смотрит, как скользят
крылья сизые, сквозные,
по лазури, где большие
облака блестят.
5 июля 1926
211. КРУШЕНИЕ {*}
В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:
багажный – запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи,
проснувшись, бухают впотьмах —
и четырех вагонов спальных
фанерой выложенный ряд,
и окна в молниях зеркальных
чредою беглою горят.
Там штору кожаную спустит
дремота, рано подоспев,
и чутко в стукотне и хрусте
отыщет правильный напев.
И кто не спит, тот глаз не сводит
с туманных впадин потолка,
где под сквозящей лампой ходит
кисть задвижного колпака.
Такая малость – винт некрепкий,
и вдруг под самой головой
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой.
И вот по всей ночной равнине
стучит, как сердце, телеграф,
и люди мчатся на дрезине,
во мраке факелы подняв.
Такая жалость: ночь росиста,
а тут – обломки, пламя, стон…
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон:
там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.
И первый наблюдал за паром,
смеясь, переставлял рычаг,
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.
Второй же, кочегар крылатый,
стальною чешуей блистал —
и уголь черною лопатой
он в жар без устали метал.
<16 августа> 1925
212. СВЯТКИ {*}
Под окнами полозья
пропели, – и воскрес
на святочном морозе
серебряный мой лес.
Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.
Заплавает по тазу
дрожащий огонек.
Причаливает сразу
ореховый челнок.
И в зале, где блистает
под люстрою паркет,
пускай нам погадает
наш старенький сосед.
Все траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.
Ну что ж, моя Светлана?
Туманится твой взгляд…
Прелестного обмана
нам карты не сулят.
Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.
В смеркающемся блеске
всё уплывает вдаль —
хрустальные подвески
и белая рояль.
И огонек плавучий
потух, – и ты исчез
за сумрачные тучи,
серебряный мой лес.
<26 августа 1924>
213. РАССТРЕЛ {*}
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот, сейчас, пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.
1927; Берлин
214. ГОСТЬ {*}
Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, – душа всё тот же улей
случайно-сладостных имен.
И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.
О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.
И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
всё то, что умерло во мне.
Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.
И вспомнится испанское сказанье,
и тяжко из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.
Оно сожмет, торжественно, без слова,
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.
Но, не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.
15 мая 1924
215. LA BONNE LORRAINE [7]7
Добрая Лотарингка (фр.). – Ред.
[Закрыть] {*}
Жгли англичане, жгли мою подругу,
на площади в Руане жгли ее.
Палач мне продал черную кольчугу,
клювастый шлем и мертвое копье.
Ты здесь со мной, железная святая,
и мир с тех пор стал холоден и прост:
косая тень, и лестница витая,
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.
Моя свеча над ржавою резьбою
дрожит и каплет воском на ремни.
Мы, воины, летали за тобою,
в твои цвета окрашивая дни.
Но опускала ночь свое забрало,
и, молча выскользнув из лат мужских,
ты, белая и слабая, сгорала
в объятьях верных рыцарей твоих.
6 сентября 1924; Берлин
216. ГОДОВЩИНА {*}
В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
всё сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим погадать.
И вот последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни на оглушительном банкете,
шалея от волненья и вина,
дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется… Но нет, он слишком стар:
черта изгнанья тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.
Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать,
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.
Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому
журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму
статей, стихов, чувствительных романов
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов
и как любил покорный ваш слуга.
Но подписи моей он не отметит:
забыто всё. И, Муза, не беда.
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,
на всякий блеск, на всякое движенье,
предоставляя выспренним глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единый раз дарованное нам.
<26 октября> 1926
217. СИРЕНЬ {*}
Ночь в саду, послушная волненью,
нарастающему в тишине,
потянулась, дрогнула сиренью,
серой и пушистой при луне.
Смешанная с жимолостью темной,
всколыхнулась молодость моя.
И скользнула, при луне огромной,
белизной решетчатой скамья.
И опять на листья без дыханья
пали гроздья смутной чередой.
Безымянное воспоминанье,
не засни, откройся мне, постой.
Но едва пришедшая в движенье
ночь моя, туманна и светла,
как в стеклянной двери отраженье,
повернулась плавно и ушла.
7 мая 1928
218. ПАЛОМНИК {*}
Хозяин звезд, и ветра зычного,
и вьющихся дорог,
бог-виноградарь, бог коричневый,
смеющийся мой бог,
позволь зарю в стакан мой выдавить,
чтобы небесный хмель
понес, умчал меня за тридевять
синеющих земель.
Я возвращусь в усадьбу отчую
средь клеверных полей;
дом обойду, зерном попотчую
знакомых голубей.
Дни медленные, деревенские…
ложится жаркий свет
на скатерть и под стулья венские
решеткой на паркет.
Там в доме с радужной верандою,
с березой у дверей
в халате старом проваландаю
остаток жизни сей.
Но часто, ночью, гул бессонницы
нахлынет на постель,
тряхнет, замрет и снова тронется,
как поезд сквозь метель.
И я тогда услышу: вспомни-ка
рыдающий вагон
и счастье странного паломника,
чья Мекка там, где он.
Он рад бывал, скитаясь по миру,
озерам под луной,
вокзалам громовым и номеру
в гостинице ночной.
О, как потянет вдруг на яркую
чужбину, в дальний путь,
как тяжело к окну прошаркаю,
как захочу вернуть
всё то дрожащее, весеннее,
что плакало во мне,
и – всякой яви совершеннее —
сон о родной стране.
4 февраля 1927
219. СНОВИДЕНЬЕ {*}
Будильнику на утро задаю
урок, и в сумрак отпускаю,
как шар воздушный, комнату мою,
и облегченно в сон вступаю.
Меня берет – уже во сне самом —
как бы вторичная дремота.
Туманный стол. Сидящих за столом
не вижу. Все мы ждем кого-то.
Фонарь карманный кто-то из гостей
на дверь, как пистолет, наводит,
и, ростом выше и лицом светлей,
убитый друг со смехом входит.
Я говорю без удивленья с ним
живым и знаю, нет обмана.
Со лба его сошла, как легкий грим,
смертельная когда-то рана.
Мы говорим. Мне весело. Но вдруг —
заминка, странное стесненье.
Меня отводит в сторону мой друг
и что-то шепчет в объясненье.
Но я не слышу. Длительный звонок
на представленье созывает:
будильник повторяет свой урок,
и день мне веки прорывает.
Лишь миг один неправильный на вид
мир падает, как кошка, сразу
на все четыре лапы, и стоит,
знакомый разуму и глазу.
Но, Боже мой, – когда припомнишь сон,
случайно, днем, в чужой гостиной,
или, сверкнув, придет на память он
пред оружейною витриной,
как благодарен силам неземным,
что могут мертвые нам сниться.
Как этим сном, событием ночным,
душа смятенная гордится!
<1 мая>1927
220. ПРОХОЖИЙ С ЕЛКОЙ {*}
На белой площади поэт
запечатлел твой силуэт.
Домой, в непраздничный мороз,
ты елку черную понес.
Пальто российское до пят.
Калоши по снегу скрипят.
С зубчатой елкой на спине
ты шел по ровной белизне,
сам черный, сгорбленный, худой,
уткнувшись в ворот бородой,
в снегах не наших площадей,
с немецкой елочкой своей.
И в поэтический овал
твой силуэт я врисовал.
<25 декабря> 1925
221. ТЕНЬ {*}
К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.
На площадь, убранную странно,
мы все глядели – синий мрак,
собор святого Иоанна
и сотня пестрая зевак.
Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.
И в вышине, перед старинным
собором, на тутой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.
Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.
Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.
Всё выше над резьбой портала,
где в нише – статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.
И вдруг над башней с циферблатом,
ночною схвачен синевой,
исчез он с трепетом крылатым —
прелестный облик теневой.
И снова заиграли трубы,
меж тем как, потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.
3 сентября 1925; Шварцвальд
222. «Слоняюсь переулками без цели…» {*}
Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели
и то же солнце стлалось по стенам.
Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.
И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.
Как хорошо в звенящем мире этом,
скользя плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
средь лепета латинского цикад!
19 августа 1923; Солье-Пон
223. СНЫ {*}
Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый.
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской?
Если б знать. Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменят.
Что таить – случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье
еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой,
слишком полной для молитвы.
Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.
Только сон утешит иногда.
Не на области и города,
не на волости и села,
вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.
22 июля 1926
224. КОМНАТА {*}
Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкап глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.
В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.
Совершено. Всё призвано к участью
в моем существованье, каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук.
И рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам – отмщенье за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот,
и чей-то приближающийся шаг:
он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.
Включаю свет. Всё тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Всё хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.
Я много знал таких покорных комнат,
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.
Сухую акварельную картину
и лампу в старом платьице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.
В другой пойду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна…
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.
И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом…
22 июня 1926
225. МАТЬ {*}
Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещевающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.
Уложит спать ее и сам приляжет он
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыданья и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос,
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?
Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты.
Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосязаемо над горестью твоей
дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет Он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете.
<19 апреля> 1925; Берлин
226. ВЕСНА {*}
Помчал на дачу паровоз.
Толпою легкой, оробелой
стволы взбегают на откос:
дым засквозил волною белой
в апрельской пестроте берез.
В вагоне бархатный диванчик
еще без летнего чехла.
У рельс на желтый одуванчик
садится первая пчела.
Где был сугроб, теперь дырявый
продолговатый островок
вдоль зеленеющей канавы:
покрылся копотью, размок
весною пахнущий снежок.
В усадьбе сумерки и стужа.
В саду, на радость голубям,
блистает облачная лужа.
По старой крыше, по столбам,
по водосточному колену —
помазать наново пора
зеленой краской из ведра —
ложится весело на стену
тень лестницы и маляра.
Верхи берез в лазури свежей,
усадьба, солнечные дни —
все образы одни и те же,
всё совершеннее они.
Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши:
бессмертно всё, что невозвратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.
2 мая 1925
227. В РАЮ {*}
Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.
Там в роще дремлет ангел дикий,
полупавлинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,
соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом… но только нет журнала,
и нет читателей в раю.
И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:
об этом синем сонном звере
кому расскажешь ты, кому?
Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла.
25 сентября 1927; Берлин
СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951 {*}
228. К МУЗЕ {*}
Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.
Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.
Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылущивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.
Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно тщеславия заботы.
Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.
Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза
и – мастерства предел – прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.
13 сентября 1929; Берлин
229. ВЕЧЕР НА ПУСТЫРЕ {*}
Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне…
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек.
Мир, быть может, пуст и беспощаден,
я не знаю ничего,
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.
Когда-то было легче, проще:
две рифмы – и раскрыл тетрадь.
Как смутно в юности заносчивой
мне довелось тебя узнать.
Облокотившись на перила
стиха, плывущего, как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась, и заскользила,
и доплывет до самых звезд.
Но, переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.
Молодое мое одиночество
средь ночных, неподвижных ветвей;
над рекой изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и теперь, увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастия,
дальний ветер, воздушный гонец,
всё шумней проникающий в чащу,
наклоняющий ветвь наконец;
всё, что время как будто и отняло,
а глядишь – засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять.
Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы
и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.
31 июля 1932; Берлин
230. КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ {*}
Такой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести… уйдем.
Уйдем, и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропах
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.
Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!
Держусь, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.
И всё страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебью
теченье тихой, трудной речи,
давно проникшей в жизнь мою.
Над краснощекими рабами
лазурь как лаковая вся,
с накачанными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.
Ужель нельзя там притулиться
и нет там темного угла,
где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.
Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.
В луче вечернем повисая,
она толчется без конца,
как бы игрушка золотая
в руках немого продавца.
Как я люблю тебя. Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось —
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкою насквозь.
17 апреля 1934; Берлин
231. НА ЗАКАТЕ {*}
На закате, у той же скамьи,
как во дни молодые мои,
на закате, ты знаешь каком,
с яркой тучей и майским жуком,
у скамьи с полусгнившей доской
высоко над румяной рекой,
как тогда, в те далекие дни,
улыбнись и лицо отверни,
если душам умерших давно
иногда возвращаться дано.
1935; Берлин
232. L'INCONNUE DE LA SEINE [8]8
Незнакомка из Сены (фр.). – Ред.
[Закрыть] {*}
Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
всё гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.
В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты.
Ты со мною хоть в звуках помешкай,
жребий твой был на счастие скуп,
так ответь же посмертной усмешкой
очарованных гипсовых губ.
Неподвижны и выпуклы веки,
густо слиплись ресницы. Ответь,
неужели навеки, навеки…
А ведь как ты умела глядеть!
Плечи худенькие, молодые,
черный крест шерстяного платка,
фонари, ветер, тучи ночные,
в темных яблоках злая река.
Кто он был, умоляю, поведай,
соблазнитель таинственный твой, —
кудреватый племянник соседа —
пестрый галстучек, зуб золотой?
Или звездных небес завсегдатай,
друг бутылки, костей и кия,
вот такой же гуляка проклятый,
прогоревший мечтатель, как я?
И теперь, сотрясаясь всем телом,
он, как я, на кровати сидит
в черном мире, давно опустелом,
и на белую маску глядит.
<28 июня> 1934; Берлин
233. ЧТО ЗА НОЧЬ С ПАМЯТЬЮ СЛУЧИЛОСЬ {*}
Что за ночь с памятью случилось?
Снег выпал, что ли? Тишина.
Душа забвенью зря училась:
во сне задача решена.
Решенье чистое, простое
(о чем я думал столько лет?).
Пожалуй, и вставать не стоит:
ни тела, ни постели нет.
1938; Ментона
234. МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ {*}
Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я, и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной.
Если вдуматься, это как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полугоночном.
Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы, а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.
<Январь> 1939; Париж

235. ПОЭТЫ {*}
Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.
Пора, мы уходим – еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.
А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.
И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:
не видеть всей муки и прелести мира,
окна, в отдаленье поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;
красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;
всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.
Сейчас переходим с порога мирского
в ту область… как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.
Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны – любви безнадежной, —
молчанье зарницы, молчанье зерна.
<Январь> 1939; Париж
236. К РОССИИ {*}
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
всё, что есть у меня, мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь всё то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.
16 сентября 1939; Париж
237. СЛАВА {*}
И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,
и сижу, и решить не могу: человек это
или просто так – разговорчивый прах.
Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старший шпион
(шепелявым таким шепотком: а скажите,
что вы делали там-то?), как сон,
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
как в балканской новелле влиянье, как их,
символистов, – но хуже. Есть вещи, вещи,
которые… даже… (Акакий Акакиевич
любил, если помните, «плевелы речи»,
и он, как Наречье, мой гость восковой),
и сердце просится, и сердце мечется,
и я не могу. А его разговор
так и катится острою осыпью под гору,
и картавое, кроткое слушать должно
и заслушиваться господина бодрого,
оттого что без слов и без славы оно.
Как пародия совести в драме бездарной,
как палач, и озноб, и последний рассвет —
о, волна, поднимись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку. Нет,
не могу языку заказать эти звуки,
ибо гость говорит, и так веско,
господа, и так весело, и на гадюке
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
иллюстрации разных существенных доводов,
головные уборы, как мысли вовне;
или, может быть, – было бы здорово,
если б этим шутник указывал мне,
что я страны менял, как фальшивые деньги,
торопясь и боясь оглянуться назад,
как раздваивающееся привиденье,
как свеча меж зеркал, уплывая в закат.
Далеко от лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.
Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и, лишенные самой простой благодати
(дохожденья до глаз, до локтей, до висков),
«твои бедные книги, – сказал он развязно, —
безнадежно растают в изгнанье. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся – но у настоящей листвы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы – а бедные книги твои,
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвесть.
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолустии русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок
и других озаренных неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум заоконной березы,
поднимающей книгу на уровень свой?
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведенье диком,
друг степей для тебя не забудет степей.
В длинном стихотворении „Слава“ писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетет
мысль о контакте с сознаньем читателя.
К сожаленью, и это навек пропадет.
Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
до конца, до небес доскрестись: никогда,
никогда не мелькнет мое имя – иль разве
(как в трагических тучах мелькает звезда)
в специальном труде, в примечанье к названью
эмигрантского кладбища и наравне
с именами собратьев по правописанью,
обстоятельством места навязанных мне.
Повторил? А случалось еще, ты пописывал
не без блеска на вовсе чужом языке,
и припомни особенный привкус анисовый
тех потуг, те метанья в словесной тоске.
И виденье: на родине. Мастер. Надменность.
Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой
перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность
европейская. Дача в Алуште. Герой».
И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи, так быстра
золотая становится запись.
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня.
Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною – частность.
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе.
Не доверясь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишащем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя
и другое, другое, другое.
22 марта 1942; Уэльслей, Масс.
238. ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА {*}
«Отведите, но только не бросьте.
Это – люди; им жалко Москвы.
Позаботьтесь об этом прохвосте:
он когда-то был ангел, как вы.
И подайте крыло Никанору,
Аврааму, Владимиру, Льву —
смерду, князю, предателю, вору:
ils furent des anges comme vous [9]9
Они когда-то были ангелы, как вы (фр.). – Ред.
[Закрыть]
Всю ораву, ужасные выи
стариков у чужого огня,
господа, господа голубые,
пожалейте вы ради меня!
От кочующих, праздно плутающих
уползаю, и вот привстаю,
и уже я лечу, и на тающих
рифмы нет в моем новом раю.
Потому-то я вправе по чину
к вам, бряцая, в палаты войти.
Хорошо. Понимаю причину —
но их надо, их надо спасти.
Хоть бы вы призадумались, хоть бы
согласились взглянуть. А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака)».
Так он думал без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя.
Ночь дышала: вздувалась завеса,
облакам облаками платя.
Стул. На стуле он сам. На постели
снова – он. В бездне зеркала – он.
Он – в углу, он – в полу, он – у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.
А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,
некто Вульф, худощавый и рыжий
инженер лет пятидесяти.
А под ним – мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой приятель, мой работодатель.
Посмотрев на часы, и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он оделся и вышел. У нас
это дно называлось: Овидий
откормлен (от Carmina [10]10
Песни, стихи (лат.). – Ред.
[Закрыть]). Муть
и комки в голове после черной
стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и на улице черной
без звездинки муругая муть.
Но поэмы не будет: нам некуда
с ним идти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человеку,
а хорошего зверя не знал.
С этим камнем ночным породниться,
пить извозчичье это вино…
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасе темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш.
С полурусского, полузабытого,
переход на подобье арго.
Бродит боль позвонка перебитого
в черных дебрях Бульвар Араго.
Ведь последняя капля России
уже высохла. Будет, пойдем.
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.
Чуден ночью Париж сухопарый.
Чу! Под сводами черных аркад,
где стена, как скала, писсуары
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.
А мосты – это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки
и оранжевые фонари.
А вверху – там неважные вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омуте месяц мерещится.
Неужели я тоже? Забудь.
Смерть еще далека (послезавтра я
всё продумаю), но иногда
сердцу хочется «автора, автора».
В зале автора нет, господа.
И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался где-то в дальнем предместье
паровозный щемящий свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:
лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.
И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни и вот эта минута —
и вот эта минута прошла.
Но как знать, может быть, бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалею, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.
И, пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.
В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, —
но, с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной,
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи, прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.
1943; Кембридж, Масс.
239. КАКИМ БЫ ПОЛОТНОМ {*}
Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства – нет, о нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.
<2 апреля 1943>; Кембридж, Масс.
240. О ПРАВИТЕЛЯХ {*}
Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа, —
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.
С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе?
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Какие-то римляне и мясники,
Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудые немки и разные
людоеды, любовники, ломовики,
Иоанны, Людовики, Ленины,
всё это сидело, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колени,
на престолах своих матерых.
Умирает со скуки историк:
за Мамаем всё тот же Мамай.
В самом деле, нельзя же нам с горя
поступить как чиновный Китай,
кучу лишних веков присчитавший
к истории скромной своей,
от этого, впрочем, не ставшей
ни лучше, ни веселей.
Кучера государств зато хороши
при исполнении должности: шибко
ледяная навстречу летит синева,
огневые трещат на ветру рукава…
Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навыкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.
Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.
Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил»
и так далее.
1944; Кембридж, Масс.
241. К КН. С. М. КАЧУРИНУ {*}
1
Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.
Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.
От холода, от перебоев
в подложном паспорте не сплю:
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю.
Но спит, на канапе устроясь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.
2
Когда я в это воскресенье,
по истечении почти
тридцатилетнего затменья,
мог встать и до окна дойти;
когда увидел я в тумане
весны, и молодого дня,
и заглушенных очертаний
то, что хранилось у меня
так долго, вроде слишком яркой
цветной открытки без утла
(отрезанного ради марки,
которая в углу была);
когда всё это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась,
как поезд в полевой тиши.
И за город мне захотелось:
в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,
как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю,
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.
3
На этом я не успокоюсь,
тут объясненье жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.
Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти
верстах от города, от зданья,
где запинаюсь взаперти,
и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,
и дальше: фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.
Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.
Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и, в сущности, совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?
4
Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,
ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,
не заслоняется… при встрече
я, впрочем, всё скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.
Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.
Я спрашиваю, не пора ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему чапаралю
из «Всадника без головы»,
чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях
с лицом, сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?
<Март> 1947; Кембридж, Масс.
242. БЫЛ ДЕНЬ КАК ДЕНЬ {*}
Был день как день. Дремала память. Длилась
холодная и скучная весна.
Внезапно тень на дне зашевелилась —
и поднялась с рыданием со дна.
О чем рыдать? Утешить не умею.
Но как затопала, как затряслась,
как горячо цепляется за шею,
в ужасном мраке на руки просясь.
1951; Итака, Нью-Йорк.








