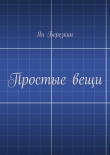Текст книги "Берестяга"
Автор книги: Владимир Кобликов
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Анна поняла и замахала на Сашу рукой.
– Еще чего скажет! «Мадам». Какая же я мадам? Я баба, простая русская баба.
* * *
Слух, что вся цыбинская семья учится говорить не по-нашенски, быстро разбежался по селу. Трудно что-нибудь скрыть в деревне от соседей. Один узнал – узнает вся округа.
Первыми проболтались близнецы. Вышли на горку с салазками. Катаются и песенку французскую поют.
Услышали другие ребята, спрашивают:
– Эй вы, кошкины братья (почему-то так звали в Ягодном близнецов), какую песню поете?
– Французскую, – ответила курносая хвастушка Зина.
– Будет врать-то! «Хранцузскую», – передразнили Зину.
– А мы не врем, – вступился за сестру Вася. – Такие во Франции поют.
– Французы – это немцы? – спросил мальчика его приятель-одногодок.
– Не. Наша Ольга Евгеньевна говорила, что французы во Франции живут… И еще в Париже.
– А они за нас?
– За нас. Только их немец победил.
– Васька, скажи еще что-нибудь, как немцы французские говорят.
– Я иду гулять на улицу.
– Х-хы, х-хы-ы. Что сказал?
– Я иду гулять на улицу.
– Во здорово! Как настоящий.
Маленькие приятели Зины и Василия, вернувшись с улицы, конечно, рассказали родным о том, что цыбинские ребятишки умеют говорить на чужом языке. А на следующий день ягодинки уже расспрашивали председательшу, кто да как научил ее ребят разговаривать по-иностранному, Анна рассказала.
– Теперь они от тебя, Анюта, что угодно скрыть смогут, – сочувственно сказала старуха Кутянина, мать Дуси Кутяниной. – Промеж себя чего хочешь полопочут, а ты только глазами хлопай.
– Ничего, бабк, что не надо не налопочут: я сама все понимаю.
– Может, и сама говорить, как французы, умеешь? – полюбопытствовала шабриха Анны, солдатка Марья. И, отвернувшись от Цыбиной, подмигнула ягодинкам, что означало: «Вот я ужо ее подковырнула!».
– И сама, коль надо, поговорю, – ответила на подковырку Анна.
– Ну? – поразилась старуха Кутянина. – Ври больше.
– Дорогие дети, пора садиться за уроки, – робея, произнесла Анна французскую фразу.
– Господи, спаси и помилуй! – Старуха Кутянина перекрестилась. – Что творится на белом свете. По-нашему обозначь, что сказала.
Анна перевела. Женщины от удовольствия загалдели. Вплотную обступили Цыбину и стали упрашивать еще покалякать. Несколько дней в каждом доме то и было разговоров, что о французах Цыбиных. Потом говорить об этом перестали, а прозвище «иностранцы» так навсегда и осталось за всеми, кто происходил из семьи Цыбиных…
* * *
Таня и Прохор молча дошли до «иностранцев». Обмели на крыльце валенки. Постучали. Хлопнула дверь. Кто-то вышел в сени.
– Кого надо?
Прохор узнал голос хозяйки.
– Отопрись, тетка Анна, это я, Прохор Берестняков.
– Заходи проворней, а то холоду напустишь. Да ты не один.
– Квартирантка наша.
– Сама, чай, догадалась. Что приволок-то?
– Лыжи Саньке.
– Лыжи, говоришь, Саньке? А кто, вражененок, слепым его сделал? Не знаешь?
– Ладно, не ори, тетка Анна. Принесли мы ему очки.
* * *
Все «иностранцы» сидели за столом. Прохор и Таня поздоровались и остались стоять у порога.
– Раздевайтесь, чего, как христославцы у порога-то остановились? – грубовато сказала Анна. – Ужинать с нами.
– Спасибо за приглашение, – ответил за двоих Прохор. – От стола только. Мы на минутку к Саньке.
– Ладно, на минутку. Раздевайтесь. А что у тебя в кульке-то?
– Пироги.
– Пироги?
– Дед велел снести. – Прошка шагнул к столу и высыпал из кулька желтобокие с розовыми корочками пироги и сгибни.
У младших Цыбиных глазенки засверкали. Они глядели на Берестягу, как на фокусника. Только что они пили чай с пареной сахарной свеклой и ели «тертики», а тут настоящие белые пироги! Шутка ли?
– Золотой дед у тебя, – сказала растроганная подарком Анна. – Да ведь Прохор не только пироги принес. Лыжи тебе, Саша.
– Мне? – удивился Лосицкий и стал, щурясь, отыскивать глазами Берестягу. – Спасибо. Но как же так? За что? – Саша сконфузился.
– А главное, Александр, – заговорила Таня, – Проша принес тебе твои очки.
– Очки! – разом вскрикнули и Ольга Евгеньевна и Саша.
Таня протянула очки Лосицкому. Он судорожно схватил их, каким-то неуловимым движением надел на переносицу и радостно зашептал:
– Вижу. Снова вижу! – И, как маленький, выскочил из-за стола и бросился благодарить смущенного Прохора.
Берестяге стало неловко от похвал. А его все хвалили и хвалили.
* * *
После уроков Прохор зашел в седьмой «Б» за Петькой. Таня обещала их ждать в раздевалке или около школы. Лосицкий тоже просил подождать его возле школы.
…Школьный вестибюль очень напоминал театральный: просторный, светлый, с колоннами и раздевалками. Из вестибюля на второй этаж поднималась широкая лестница со ступеньками из белого мрамора. На потолках до сих пор хорошо сохранились росписи, на перекладинах лестничных перил еще не стерлась позолота.
По этой расписной лестнице когда-то поднимались важные гости графа. Владельцы дворца и предполагать не могли, что по ее белоснежным ступеням так свободно будут разгуливать крестьянские дети, потомки тех крепостных, которые, даже проходя мимо графского дворца, снимали шапки.
Давным-давно и духа графского не осталось во дворце-школе, но то, что было сделано руками безызвестных крепостных мастеров, до сих пор изумляло и наполняло сердце трепетным чувством: время не в силах победить власти подлинного искусства.
Прохор Берестняков сколько раз ловил себя на мысли, что какая-то сила сдерживает его и не позволяет спуститься по белым и гладким ступенькам бегом. И никто из учеников не бегал по лестнице, а все спускались и поднимались чинно, не торопясь.
Вот отчего Прохор сразу же обратил внимание на бегущего вниз по лестнице Юрку Трусова.
– Видал? – спросил Берестняков у Петьки.
– Оголодал Трусенок, – не понял дружка Нырков. – Щи хлебать торопится.
– Да нет, – возразил Прохор. Но своих подозрений высказывать не стал.
Приятели оделись и вышли из школы, и только они сошли с парадных ступенек, как из-за колонны навстречу им выскочил Трус-младший.
– Здорово, Берестяга, – нагло улыбаясь, сказал Юрка и протянул Прошке руку.
– Убери лапу, Трус.
Трусов неожиданно размахнулся, ударив сумкой Прохора по голове, и пустился наутек. У Прошки слетела шапка, но он в запальчивости не стал ее поднимать, а побежал за Юркой. Петька поднял шапку и поспешил за дружком… Трус завернул за угол школы, Прохор – за ним. И тут он наткнулся на засаду. Сенька Трусов и три его дружка интернатских поджидали Берестнякова. У Прохора была возможность спастись бегством. Но он ведь был из рода Берестняковых, а Берестняковы никогда ни от кого не бегали.
К Прошке подошел Петька. Он присвистнул и стал рядом с другом.
– А ты, Нырок, чего здесь забыл? – Сенька Трусов вышел вперед. – Шпарь домой, к мамке, пока я не раздумал.
– Ты мне не указывай, – огрызнулся Петька.
– Потом не обижайся, – засмеялся Трус-старший. – Сам напросился.
– Братан! – приказал Сенька. – Подь сюда… Так ты говоришь, вот этот Волкодав, – Сенька небрежно кивнул на Прохора, – стал показывать клыки?
Юрка цыкнул через зубы и подтвердил обвинение брата:
– Этот.
– А ну! Посчитай-ка ему зубочки!
Юрка ринулся с кулаками на Прошку, но тут же отскочил прочь, получив удар по носу.
– У-у-у!!! – завыл он.
– Ты еще огрызаться будешь! – Сенька медленно пошел на Прохора.
Петька знал, что сейчас им плохо придется, но приготовился сражаться. Петька попытался отбиваться, но ему заломили руки.
– Отдохни, Нырок, – усмехнулся Сенька. – У нас все честь по чести! Один на один рукопашная.
– Пустите! – Петька старался вырваться. Кто-то стукнул его по лицу, рассек губы.
Прохор ждал. Он знал, что Сенька Трусов сильнее его, но на стороне Берестяги была правда.
Сенька не торопился нападать. Он вел себя, как хищник, который знает, что добыча уже никуда не уйдет от него. Сенька лениво и театрально поплевывал на ладони, сбил на затылок шапку и только тогда замахнулся.
Трус-старший не ожидал, что Берестяга окажется таким сильным противником. Сенька стал злиться, а кто злится, тот редко выходит победителем. Может, ему так бы и не удалось одержать победы, но один из его приятелей – Ленька Клей – налетел на Берестнякова сзади и ударил его по спине. Прохор невольно оглянулся. В это время Сенька ударил его в живот ногой. Прохор упал в снег, корчась от боли.
– Будешь еще трогать моего братана, Волкодавище? – потребовал ответа Сенька. – Говори, будешь?
Прохор молчал.
– Ты у меня сейчас запросишь пощады. – Трус-старший выругался. – Ну? Последний раз спрашиваю! – И Сенька приготовился ударить Прохора, и опять ногою.
Но в это время из-за угла выбежали Таня и Саша Лосицкий.
– Лежачего бить? – закричал Саша. – Не смей!
Сенька повернулся к бегущим. Сплюнул в снег, подождал, когда Таня и Саша подбежали к нему, и тогда, прищурив для острастки левый глаз, зловеще спросил:
– Чего басишь, очкарик? Этого захотел? – Сенька сунул к Сашиному носу кулак.
– Не пугай! – Саша резким движением отвел его кулак. – Не из пугливых!
Таня в это время склонилась над Прохором и помогла ему встать. Петька Нырков по-прежнему пытался вырваться. Прохор, все еще морщаясь от боли, шагнул к Сеньке. Трус-старший видел, что положение его ухудшилось. Он призывно свистнул. Его подручный Ленька Клей поспешил на выручку, но ему преградила дорогу Таня.
– Ты чего? – оторопело спросил Клей девочку.
– А вот только подойди! – ответила Таня.
– Отойди, тебе говорят, а то стукну!
– Попробуй!
Трус решил воспользоваться замешательством и бросился на Лосицкого, но тут же упал от сильного удара в подбородок. Не теряя времени, Саша поспешил выручать Ныркова. Увидев это, Петькины охранники бросили его и удрали. А за ними побежали с поля боя Ленька Клей и Юрка Трус.
Сенька остался один против четверых. Он лежал на снегу, защитив лицо и живот, и все требовал:
– Ну, бейте! Бейте! Ну?..
– И набьем, если надо будет, – сказал Саша. – А сейчас вставай и убирайся отсюда.
Сенька встал и, озираясь, пошел в сторону интерната. Отойдя на почтительное расстояние, он остановился, потряс кулаком и крикнул:
– Мы еще посчитаемся!
Саша сделал вид, что хочет догнать его. Трус пустился к интернатскому крыльцу. Петька Нырков проводил его свистом.
Таня, Лосицкий и Петька дружно засмеялись. Только Прохор был мрачен. Он очень переживал, что Таня видела его побежденным. Что она теперь о нем подумает? Берестяга готов был провалиться сквозь землю от стыда.
– Проша, ты что такой мрачный? – спросила Таня. – Все еще больно?
– Нет, не больно.
– Тогда не хмурься. – Самарина достала чистенький носовой платок и вытерла следы крови у Прохора на щеке. Щека от этого порозовела. Таня незаметно погладила Прохора по щеке и тут же отдернула руку. Берестяга растерянно поглядел на девочку и опустил глаза.
Саша ничего не заметил или сделал вид, что не заметил, а Нырков понимающе улыбнулся.
– Если бы, Берестяга, сзади Ленька Клей не налетел на тебя, ты Трусюгу одолел бы, – сказал Петька. – Я ведь все видел, да упредить тебя не мог: рот мне зажали.
Прохор был так благодарен Петьке за его слова.
– Мне б, дураку, не оглядываться, – посетовал Прошка, а потом махнул рукой и улыбнулся.
* * *
По дворам быстро разнеслась весть, что из района приехали трое собирать теплые вещи для фронта. Весть была верной. Подтверждая это, ударил в «рельсу» колхозный сторож Скирлы.
И в каждом доме обязательно кто-нибудь сказал:
– Скирлы зазвонил…
А кто-нибудь обязательно спросил:
– Чего вызваниват?
– На собрание.
Колхозники собрались в клубе. Одни женщины и старики да несколько парней, пришедших вместо своих матерей.
Обычно перед колхозным собранием в клубе бывало шумно: смех, остроязыкие шутки, подковырки, легкие перебранки. Где же еще, как не перед собранием вдоволь насмеяться. А сейчас ягодинки нехотя и устало переговаривались. Не до смеха и шуток ягодинкам. Здесь немало заплаканных лиц и скорбных взглядов: многие уже получили похоронные, а многие давно не получали никаких вестей от своих сыновей, женихов, мужей.
Собрание открыл председатель колхоза Трунов. Он коротко рассказал, что для фронта сейчас очень нужны теплые вещи и что вещи эти, возможно, попадут к тем, кто ушел на войну из родного села. Председатель хотел еще что-то говорить, агитировать, но его перебила бабка Петьки Ныркова.
– А ты нам антимонию не разводи. Нечего нас агитировать. Скажи, куда вещи приносить. Мы с дедом своим даем полушубок, валенки да пару рукавиц. Мало? Еще прибавим бельишка нательного… Не замерзать же в окопах моему соколику. – Бабка засморкалась в кончики платка и села на место.
И сразу же женщины закричали все разом, поддерживая старуху Ныркову.
Председатель поднял свою единственную руку и подождал, когда колхозницы утихнут.
– Спасибо вам, – сказал растроганный Трунов. – За всех, кто сейчас стоит насмерть под Москвой, спасибо, – и он поклонился женщинам. – А вещи будем собирать по дворам, согласны?
– Согласны! – дружно ответили ему.
– Вот, пожалуй, и все. Собирать вещи будут товарищи из района и секретарь сельского Совета.
Василий Николаевич Трунов председательствовал в Ягодном третий месяц. Под Смоленском политруку роты Трунову оторвало руку. Его отправили в тыловой госпиталь в Горький. После госпиталя Трунова демобилизовали из армии по чистой. В Ельню, где жила мать, Василий Николаевич поехать не мог: там были немцы. В Горьком Трунов оставаться не захотел. Попросился в какой-нибудь дальний район, в деревню.
Василию Николаевичу предложили поехать в Ягодное председателем.
Трунов засомневался, но в конце концов решился.
В Ягодное его повез председатель райисполкома Макаров. Василий Николаевич считался человеком завидного роста. А Макаров был выше Трунова на две головы. Плечистый, большеголовый, мрачный.
В тулупе Макаров вообще казался великаном.
– Не бойся, довезет, – сказал Макаров, усаживаясь в санки.
И, словно поняв хозяина, жеребец Металл резко рванул с места санки.
– Держись, – засмеялся председатель райисполкома.
За городом в лицо ударил жгучий ветер. Трунов спрятал лицо в воротник тулупа. Овчина пахла стылым и щекотала нос. И вдруг у Трунова нестерпимо заныли пальцы, пальцы, которых давно не было… Трунов проснулся и никак не мог сообразить, что с ним происходит. Только что он ехал в вагоне санитарного поезда. В вагоне было жарко, шумно. И Трунов еще слышал стук колес… Василий Николаевич открыл глаза. Снова овчина защекотала нос. Теперь Трунову ясно было, почему приснился поезд. Из-под копыт Металла летели комья и ударялись о передок.
– Крепко спал, председатель, – сказал Макаров, сдерживая Металла, чтобы прикурить. – Скоро приедем.
– Уже и председатель! Обожди, еще прокатят на вороных. Не изберут.
– Изберут. Можешь не сомневаться. – И неожиданно спросил: – Слышишь, талым пахнет? Мороз, а откуда-то весна пробивается.
* * *
В Ягодное приехали после обеда. А вечером старики, ягодинки с ребятишками сходились на общее собрание.
Трунов не успел опомниться, как уже зашла речь о нем. Макаров рассказал, кто он. «Откуда мою биографию узнал? – удивился Василий Николаевич. – Ну и гнет же про геройство…» Макаров и правда про жизнь Трунова все где-то разведал и рассказывал о нем колхозникам, как о старом знакомом. Про последний же бой, в котором Трунову оторвало руку, говорил так, что многие ягодинки прослезились. Василий Николаевич разозлился за это на предрика.
…Против Трунова никто не голосовал.
Макаров горячо пожал труновскую левую руку и пригласил кивком головы к трибунке:
– Расскажи о себе колхозникам, председатель, – Макаров особо подчеркнул слово «председатель».
– Что ж рассказывать-то? Рассказывать нечего. Будем работать вместе, вот тогда друг друга и узнаем: на работе – не на собрании.
Но Трунова не отпускали. Закидали вопросами. Спрашивали о его родных, о войне, об отступлении, о немцах. А бабка Ныркова даже спросила, не видал ли он, случаем, ее сына.
После собрания временно исполнявшая до этого обязанности председателя колхоза Анна Цыбина пригласила Макарова и Трунова ужинать.
За ужином Макаров спросил, к кому можно поставить на квартиру Трунова.
– Пускай у моих шабров поживет, если понравится, – предложила хозяйка, – Дом у них большой. Хозяева – старики. Люди они добрые, мирные.
На том и порешили.
А на следующее утро Цыбина сдала Василию Николаевичу дела, показала фермы, конюшню, амбары. Потом Макаров собрал членов правления, поговорил с ними и заспешил в обратный путь.
Трунов не ожидал, что тяжко будет расставаться с предриком. Макаров понял состояние Василия Николаевича, неуклюже обнял Трунова своими огромными ручищами и сказал:
– Действуй, Николаич, действуй смелее. Звони почаще, приезжай.
…Трунов стоял у околицы до тех пор, пока санки предрика не скрылись в лесу. Ждал, что Макаров обернется, помашет, но Макаров так и не обернулся…
* * *
Сани, нагруженные вещами, остановились возле крыльца. Прошка увидел в окно, как в дом направились незнакомый городской мужчина и секретарь сельсовета, жена слепого Филатки Смагина, Татьяна. Прошка ушел за печку, где стояла отцовская кровать. Берестяга сгорал от стыда. Только что он был свидетелем ужасной сцены. Бабка Груня решила «пожертвовать» для фронта пару теплых шерстяных носков и пару старых овчинных рукавиц.
Дед Игнат опешил от такой «щедрости».
– Ты что? Неси еще шубный пиджак и пару новых валенок. А то все три пары!
– Замолчи, окаянный! – прикрикнула бабка на деда. – По тебе хоть последнее добро раздай! Нету тут ничего твоего, голоштанный нечестивец. Все в доме мое… И не заикайся. – Бабка Груня угрожающе потрясла кулаком. – Сама буду с ними баять!
Все это видели и слышали Самарины. Прохор закрыл лицо ладонями и тут же услышал взволнованный и строгий голос Натальи Александровны:
– Как же вам не стыдно! У вас пятеро сыновей на фронте, а вы жалеете для них вещей. И так оскорбляете Игната Прохоровича. Он прав, а вы его оскорбляете.
Словно взорвало бабку. Она не закричала, а удушливо зашипела:
– И ты, голодранная беженка, учить меня! Я тебя пригрела, дала кров! А ты меня попрекаешь? Чтобы духу вашего голодного в моем доме завтра не было!
– Не смей! – закричал Берестяга и выскочил из-за стола.
– У, берестняковский змееныш! – Бабка наотмашь ударила внука по спине…
В хату без стука вошли городской мужчина и Татьяна Смагина. Они поздоровались от порога.
Зная, кто верховодит в семье Берестняковых, Смагина сразу обратилась к хозяйке:
– Бабка Аграфена, чего сынам-то из теплых вещей пошлешь?
– Хозяина спрашивай, – ответила старуха.
Чтобы не быть свидетелем неприятной сцены, которая должна была произойти сейчас, Наталья Александровна перебила их разговор.
– Простите, – сказала Самарина, – но я очень тороплюсь в школу, поэтому попрошу сначала взять вещи у меня… К сожалению, мы с дочкой можем дать только вот этот шарф и свитер. Больше у нас нет теплых мужских вещей.
– Вам же самим носить нечего, – удивленно возразила Смагина. – Они эвакуированные, – пояснила она городскому.
– У эвакуированных мы не берем, – сказал мужчина.
– А у нас прошу взять… Мой муж на фронте. – Голос у Самариной стал глухим, решительным. – Словом, возьмите. – Наталья Александровна положила на лавку вещи и позвала Таню.
– Пошли, дочка.
Самарины ушли. И почему-то все – и городской мужчина, и Смагина, и Берестняковы долго глядели на захлопнувшуюся за Самариными дверь.
– Проклятая война, – тихо проговорила Татьяна Смагина, а потом зло и в упор спросила Берестнякову: – Что дашь для фронта? А?
– Носки дам, рукавицы.
Дед Игнат выскочил в сени, как ужаленный. Слышно было, как он возится в чулане, чем-то там гремит. Дверь неожиданно и нетерпеливо распахнулась, и в хату влетел, не вошел, а именно влетел дед Игнат.
– Вот, держите, – и старик прямо на пол положил новый дубленый полушубок и пять пар валенок.
– Не смей, грабитель! – закричала Берестнячиха и бросилась к вещам. – Не отдам! Не имеете права! Последний крест снимаете с тела!.. Убью, постылый задохлик! – Она зашлась от ярости.
– Идемте, – брезгливо сказал городской мужчина.
– Пошли. – У порога Татьяна остановилась и, посмотрев сочувственно на деда Игната, сказала: – Не убивайся, дядя Игнат, тебя никто не осудит. Мы и заходить к вам не хотели: все ведь знают, что у нее зимой льда не разживешься. Только думали, может для детей родных не пожалеет.
* * *
После их ухода в доме нависла гнетущая тишина. Дед Игнат сидел неподвижно на лавке и исступленно смотрел на отшлифованный подошвами сучок. Старик его помнил еще с тех пор, как помогал стелить половицы плотникам. Еще тогда он обратил внимание на причудливый рисунок на поперечном срезе. Издали смотреть на этот срез – вроде бы солнце заревое выныривало из воды. А иногда казалось, что солнце это закатное… От времени доска поистерлась, и сучок стал выступать еле заметным бугорком.
Бабка Груня закаменела возле отвоеванных вещей. Она растерялась. В ее душе сейчас боролись два противоречивых чувства: жадность и боязнь дурной славы. Но жадность брала верх, жадность постоянно жила в душе Берестнячихи, а чувство стыда – чувство пришлое, временное.
И вдруг бабка Груня и дед Игнат разом вздрогнули. Из-за печки, где стояла кровать Прошкиного отца и на которой теперь спали дед со внуком, раздался крик:
– Убегу!!! К папке!.. На войну!.. Осрамила!.. Убегу!
Самарины прожили у Берестняковых еще несколько дней. Бабка Груня притихла и больше не напоминала им об уходе. В душе старуха каялась, что не удержала тогда злых слов. Но слово не воробей… Бабка Груня надеялась на отходчивость квартирантки. Совсем не выгодно было для Берестянихи, чтобы Самарины ушли от них именно сейчас. Хоть и была бабка Груня человеком черствым, жадным, эгоистичным, но сильно любила внука. И не могла она не видеть, что с тех пор, как поселились у них Самарины, Прошка стал совсем другим, более поклонным, желанным, а главное – лучше учился. Раньше он приносил в табеле одни «псы», а с Таней в хорошисты вышел.
И по другой причине сейчас было выгодно Берестнячихе, чтобы Самарины оставались у них на квартире. Все село узнало историю с вещами. Все открыто осуждали бабку Груню. Ей и так не стало проходу, а уйди от них Самарины, совсем заклюют ягодинки.
* * *
Прохор перестал ходить в школу и прятался от Натальи Александровны и Тани. Он считал, что они теперь возненавидели его: бабкину вину внук взял и на свои плечи.
Целыми днями Берестяга пропадал в лесу или у охотника Скирлы.
Прошка не мог прожить дня, не увидав Тани. Он выслеживал девочку, когда она шла в школу или из школы домой.
Однажды Прохор и Таня встретились на крыльце: Берестяга не успел вовремя спрятаться.
– Проша, здравствуй.
– Здравствуй.
– Где ты пропадаешь?
– Нигде, – буркнул Прохор и заспешил во двор.
Таня посмотрела ему вслед. Задумалась. Она решила, что Прохор, так же, как и его бабушка, не любит их, не любит эвакуированных. А ей Прохор так нравился. Он раньше казался Тане очень справедливым, сильным.
Неужели Таня ошибалась в нем? Неужели он притворялся. Ведь притворялась же вначале его бабушка радушной и гостеприимной хозяйкой и называла их с мамой «красавушками», «ангелочками».
Тане захотелось заплакать, но она больно прикусила губу и вошла в дом, который ей сейчас показался особенно чужим.
Прохор же страдал. Он ругал себя за неожиданную резкость. И как это у него получилось. Почему он сказал ей это грубое «нигде»? Берестяге хотелось вернуться к Тане на крыльцо и попросить у нее прощения, рассказать ей все, что у него на душе. И он собрался вернуться на крыльцо, но услышал, как открылась, жалобно пропев, дверь в сени, а потом резко захлопнулась. «Вот и все, – с отчаянием подумал Прохор. – Ушла…»
Сам не зная зачем, он вошел в сарай. Увидел топор, схватил его и вдруг стал с ожесточением колотить чураки. Ударял с каким-то остервенением по заветренным желтым срезам березовых комлистых чураков и зло ахал: – А-а-ах! А-а-ах!
И ему чудилось в эти минуты, что рубит топором все то, что связано с несправедливостью, с бабкиной жадностью, рубит те злые силы, которые разрушили его дружбу с Таней… Наконец, он выбился из сил, бросил топор и вышел из сарая. Прохор не знал, что ему делать, куда девать себя. Он постоял возле дома, а потом побрел куда глаза глядят.
Берестяга пришел к домику Скирлы. Домик этот стоял на вершине поклонной горы, недалеко от старой церкви. «Зайду к деду, – решил Берестняков. – Посижу у него…»
Прохор и Скирлы, несмотря на разительную разницу в возрасте, были большими приятелями. Оба они – заядлые охотники, оба, как все, кто любит и понимает язык леса, – молчуны.
Всех удивляла эта дружба. Только бабка Груня считала, что Скирлы – старый колдун и приворожил ее внука. Сколько раз Берестнячиха собиралась «турнуть как следоват колдунюгу Скирлыщу», да боялась. Старуха считала, что с колдунами шутки плохи.
Скирлы жил одиноко. Родных у него никого не было. И он очень привязался к Прохору. И хотя никогда не высказывал открыто старый Скирлы своей безмерной и благодарной любви, Прохор все равно чувствовал это и сам его безгранично и преданно любил… Только с Прохором Берестняковым Скирлы был откровенен. Только Берестяге он рассказывал о себе, говорил то, чего не говорил никому. И мальчик честно и свято хранил тайну Скирлы.
* * *
Даже среднее поколение на селе не помнило, а вернее, просто не знало настоящего имени старого Скирлы.
С первой мировой войны вернулся он на деревянной ноге. Сам первым и сказал о себе: «Вот и вернулся я. И стал теперь Скирлы. Скирлы на липовой ноге…»
Скирлы, так Скирлы. Прозвище ягодновским понравилось.
Скирлы пристроился церковным сторожем и заодно звонарем. Такого звонаря в Ягодном никогда еще не было. Звонил Скирлы с величайшим старанием и, надо сказать, виртуозно. Особенно «звонарь на липовой ноге» любил звонить к вечерне. Он забирался на колокольню и долго смотрел на бескрайние дали, подернутые грустной дымкой, и каждый раз вспоминал Ксению, которую любил и которую отдали насильно за другого. Она жила в соседней деревне, где не было своей церкви. Иногда Ксения приходила в Ягодное, чтобы помолиться. Редко, но приходила. И почему-то все больше к вечерней службе. Скирлы знал это, поэтому вечерний звон был для него любимым.
Он закрывал глаза и, думая о Ксении, начинал вызванивать нежную и печальную мелодию. И каждый раз она звучала по-новому, но непременно нежно и грустно. В колокольном звоне Скирлы выражал свое горе, колокола пели, уносили в сине-алые дали мечты одинокого церковного сторожа. Но как бы ни разнились мелодии, созданные Скирлы, они всегда кончались редкими ударами в главный колокол: «Бом-м-м… Бом-м-м… Бом-м-м…» И густые звуки поющей меди напоминали вздохи человека.
Скирлы знал, что Ксения овдовела, что муж ее убит на германском фронте, но ни разу не пытался встретиться с нею. «Нужен я ей с липовой ногою», – рассуждал Скирлы. А Ксения ждала с ним встречи. Но он прятался на колокольне и незаметно наблюдал за нею, когда она шла в церковь или уходила по тропинке, которая спускалась по поклонной горе к лесу.

Однажды они все же встретились. Случайно. Осенью.
Пришло погожее цветастое бабье лето. Скирлы любил эту пору. Каждую свободную минуту он старался провести в лесу или на берегу Видалицы. Ему нравилось бродить по шуршавшей от опавших листьев земле, собирать грибы. Лес в это время нарядный, пестрый. Каких только красок нет в лесу в эту пору. Деревья, травы, цветы, кустарники прожили лето и сейчас отдавали земле семена, плоды. И, чтобы земля приняла их дары, чтобы она была щедрой и доброй, лес одевал самый яркий и праздничный наряд. Позолотились листья берез, ярко подкрасились легкомысленные молодые осинки, запылали клены. Золотистые, красные, бурые, темные, малиновые, зеленые листья осыпались на землю, чтобы украсить ее богатым ковром.
Скирлы знал, что все это скоро исчезнет. Ударят заморозки – эти злые вестники зимы. А там и зима со своими белыми нарядами.
Он вышел из дому поздно. Собирался уйти пораньше, да попадья заставила набить обручи на кадки. Решил далеко в лес не заходить. Но как-то само собой вышло, что забрел он на дорогу, которая шла к деревне, где жила теперь Ксения. И Скирлы пошел по той дороге. Идет, похрамывает. «Дойду, – думает, – до просеки рубежной и сверну к сторожке. В гости к леснику зайду».
Задумался Скирлы и не заметил, что навстречу ему женщина идет. Очнулся, когда шаги чужие услышал. Вскинул глаза и остановился изумленный. Навстречу шла Ксения. Застелило ему глаза дымкой. Почувствовал Скирлы, что упадет сейчас. Плетушку из рук выронил. Зажмурился, словно спасаясь от чар.
– Здравствуй, – сказала Ксения.
А он в ответ и слова вымолвить не смог.
– Здравствуй, – повторила Ксения. – Или не признал меня, Тема?
– Как же я мог не признать тебя. Только теперь все зовут меня не Темой, а Скирлы, Скирлы – липовая нога. – Скирлы осмелел. Взглянул на нее, а взглянув, уже не смог оторвать взгляда.
Ксения глядела на него ласково, с укором.
«Как же ты мог, Тема, до сих пор не повидаться со мною?» – спрашивали ее глаза. И Ксения повторила вслух то, что спрашивали глаза:
– Как же ты мог, Тема, до сих пор не повидаться со мною?
– Нет больше Темы, – глухо сказал он. – Вместо него теперь есть Скирлы. – Он почти выкрикнул: – Скирлы! Скирлы – липовая нога!
– Знаю, ненаглядный мой. Знаю. А для меня ты, как прежде, Тема.
Прихожане были крайне удивлены, когда услышали, как Скирлы зазвонил к вечерне. Вместо тихой, непоправимой печали в перезвоне колоколов они вдруг услышали торжество, радость. Это уже было не горькое размышление о прошлом, не вздохи разбитой души.
Богомольные ягодинки опасливо крестились, заслышав набатный гул колоколов. Даже батюшка (ленивый и добродушный чревоугодник с мясистыми и вечно мокрыми губами), разоблачаясь после службы, сказал Скирлы:
– Ты бы, сын мой, не очень усердствовал бы, звоня-то. Прежде у тебя выходило и благовестнее и богу угоднее.
Но Скирлы в бога перестал верить еще тогда, когда Ксению отдали за другого. А уж когда ему оторвало ногу, то и вовсе безбожником стал.
Все в Ягодном считали, что звонарь рехнулся. А он вдруг обвенчался с Ксенией. И она переехала к нему в дом.
Ксения к нему вернулась, а вот старое имя не вернулось. Так и продолжали звать Тимофея Провоторова Скирлы. А он на это плевал: пусть хотя горшком называют, только бы в печку не сажали, а главное – Ксения бы с ним всегда рядом была.
Счастье их совпало с тревожными и непонятными для деревни временами. Ходили слухи, что скоро турнут помещиков и будто бы царя не будет. Скирлы верил этим слухам. Верил по тому, как вел себя его хозяин. Батюшка стал мрачным, опасливым, коней все наготове держал. А главное, вера такая в душе звонаря жила потому, что в окопах он познакомился с большевиками. И всем сердцем был за этих правильных и смелых людей.