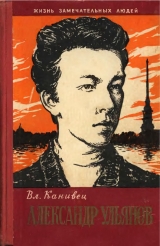
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Зря я не последовал совету Ульянова.
– Мне открыть?
– Нет, я сам. И если меня возьмут, а тебя оставят, немедленно предупреди о моем аресте.
– А может, обойдется? В квартире ничего нет.
– Посмотрим. Кто там? – подойдя к двери, спросил Никонов.
– Вам телеграмма, – послышался традиционный полицейский ответ.
– Одну минуту, я сейчас оденусь, – ответил Никонов и, вернувшись в комнату, продолжал, подсев к жене: – Они. Неужели открыт наш заговор? Ведь если бы юнкера предали меня, то я давно был бы арестован. Значит, так; немедленно узнай, кто еще взят, и во что бы то ни стало сообщи мне.
Обыск ничего не дал полиции, но Никонова все-таки арестовали.
Жену Никонова (А. В. Москопуло) не забрали. Отпустив свиту, жандармский офицер сел с Никоновым в одни санки. Когда отъехали подальше от дома, он спросил:
– А знаете ли вы, по какому делу арестованы?
– Нет, не знаю.
Офицер выдержал паузу и, покосившись на извозчика, сказал, понизив голос до шепота:
– Дело очень серьезное: военная революционная организация.
– Это точно?
– Абсолютно.
– Благодарю вас.
– Очень рад, что смог быть вам полезным. Я Михайлов, бывший офицер брестского полка. Наш полк, как вы, может, помните, постоянно стоял в Севастополе. Я знаю вашего отца. Изумительный человек! И сестры у вас чудесные…
Душевные излияния жандарма окончательно убедили Никонова, что тот сказал правду, и от сердца у него отлегло: значит, заговор не раскрыт. Его арестовали по другому делу. Но как теперь его арест скажется на работе группы? Полиция начнет прощупывать все нити его знакомств. Ведь как редко он ни встречался, например, с тем же Александром
Ильичем, но полиция слишком пристально следила за ним, чтобы не заметить этого знакомства. Потянутся нити и к Лукашевичу. А у того на квартире целый склад динамита. Может возникнуть потом мысль, что он предал их. От этого предположения холодные мурашки побежали у него по спине.
8
Высланные из Петербурга за участие в добролюбовской демонстрации студенты писали друзьям, рассказывали, в каком тяжелом положении они оказались. Многим из них, никогда не испытывавшим трудностей, эта высылка казалась верхом несчастья. Их письма были полны жалоб на дикую несправедливость властей. Жалобы эти тем более близко принимались к сердцу, что все понимали: выслали товарищей не за вину, а ради устрашения других. Репрессиями правительство как бы хотело сказать: смотрите, такая же участь постигнет каждого. А это значит: нужно не только вести себя тихо и смирно, но и за другими смотреть и других одергивать. Такая полицейская логика возмущала студентов, и разговоры, о том, что нужно дать ответный бой, то затихали, то вновь вспыхивали.
Восьмого февраля праздновался университетский акт. Студенты решили на этом торжестве устроить демонстрацию. Весть быстро облетела университет и взбудоражила всех. Начались споры о том, какие требования выдвинуть. Одни говорили: потребовать возвращения всех высланных, другие утверждали, что этого мало, что тогда не стоит и дело затевать. Нужно добиваться не только возвращения высланных, но и отмены нового реакционного устава, разрешения собраний…
– Господа, – кричали более умеренные, – да такие требования под силу только революции!
– И что же?
– Да то, что погонимся мы за большим и малого не добьемся.
– Александр Ильич, – крикнул Семен Хлебников, – что вы скажете? Как, по-вашему, нужно действовать?
Уже в первые дни разговоров о выступлении на торжественном акте Саша понял: делать этого не надо. Все равно ничего добиться нельзя, новые аресты могут погубить подготовку покушения, на которую уже так много затрачено сил.
– Я думаю, – спокойно, как бы взвешивая каждое слово, начал Саша, – эту демонстрацию вообще затевать не следует.
– Как? – воскликнул пораженный Семен Хлебников. – Господа, вы слышите?
– Да, не следует, – выждав, пока уймется шум, еще тверже повторил он. – Этим выступлением мы можем добиться только одного: новых арестов и ссылок. А кому это нужно? Кому от этого польза? Мы не только не выручим своих друзей, а дадим повод властям к новым расправам.
– Значит, так: молчать?
– Я этого не сказал.
– Ну, что же делать?
– Это уже другой разговор, – ответил Александр Ильич уклончиво. – Над этим нужно думать.
Университет был населен шпионами и доносчиками. И как только студенты начали готовиться к протесту в день торжественного акта, об этом тот час же стало известно полиции. Начальник петербургской охранки доложил о готовящемся выступлении градоначальнику Грессеру, и тот приказал:
– Взять в качестве заложников самых главных подстрекателей! И предупредить всех остальных: устроят беспорядки – заложники немедленно будут удалены из университета. Да к ним присоединим еще многих!
Накануне торжественного акта полиция забрала несколько студентов. Самая активная часть студенчества – друзья Ульянова – была против выступления, и торжественный акт прошел хотя и уныло, но без происшествий. Когда отпущенные заложники появились в студенческой столовой донцов (она была на Петербургской стороне), друзья их встретили с ликованием. Семен Хлебников говорил Александру:
– Зря вы выступали против! Зря! А если бы нас поддержали все студенты, о, полиции туго пришлось бы! Они смерть как боятся массового выступления. Грессер рапортует царю, что в городе тишь да гладь – и вдруг бунт! Да где? На торжественном акте! А сейчас ему царь, поди, еще и орден поднесет. Как же, назревал бунт, и он предотвратил! Нет, что ни говорите, а помогли вы ему на этот раз.
Александр Ильич молчал. Он не мог Хлебникову сказать истинных мотивов своего поведения. Хлебников это молчание принял за признание им того, что он допустил ошибку.
9
– Для меня на твой адрес поступит телеграмма за подписью Петрова, – сказал как-то Александр Ане, – я дал твой адрес потому, что собираюсь переезжать, а телеграмма эта очень важна.
Аня знала: если Саша сам не нашел нужным ничего больше сказать о телеграмме, то спрашивать бесполезно. Он раза два приходил справиться, не получена ли телеграмма.
Прямо допытываться Аня не смела, боясь выказать свое неуважение к секретам Саши, но телеграмма несколько дней держала ее в нервном возбуждении. Она ломала голову: откуда телеграмма? О чем? Почему Саша так ждет ее? И строила догадки: то ей казалось, что в телеграмме этой будет сообщено что-то неприятное для Саши, то, наоборот, очень приятное. Но так как телеграммы все не было, то она успокоилась, а потом и вообще перестала думать о ней.
И вдруг Аню разбудил настойчивый звонок. Насмерть перепуганная хозяйка без стука влетела в ее комнату:
– Вас… Вам телеграмма…
– Из дому? – быстро одеваясь, спрашивала Аня. – Что же там случилось?
– Не знаю… Да только кто же ночью станет поднимать на ноги дом, коль никакого несчастья нет?..
– «Сестра опасно больна», – прочла Аня текст.
– Вот видите, – вздохнула хозяйка, – так и есть; несчастье… Ах, господи, – крестясь и позевывая, продолжала она, – за какие грехи ты только наказываешь нас?
Телеграмма была подписана «Петров». Подана из Вильно, где, как Аня точно знала, у Саши не было ни души знакомой. И текст такой странный. «Сестра опасно больна». Чья сестра? Кто этот Петров?
Эти и сотни других вопросов крутились в голове Ани и не давали ей уснуть. Утром она поднялась рано и побежала в университет, чтобы передать Саше телеграмму. Он долго читал ее с каким-то странным выражением тревоги. Аня спросила:
– Что это значит? Это что-нибудь очень плохое, Саша?
– Нет, – спокойно ответил он, пряча телеграмму в карман, и лицо его вновь стало непроницаемым. Опять между ними стала та невидимая стена, которую она последнее время ощущала. Ей хотелось сгладить то впечатление тревоги, с которым Саша прочел телеграмму, и она сказала с ласковой доверительностью в голосе:
– Я сразу же, с утра, принесла ее к тебе; хорошо я сделала или нет?
– Да, спасибо, – так же коротко и с тем же отчужденным выражением лица ответил Саша.
Аня поняла: он не хочет говорить с нею о телеграмме – и ушла. Ушла в состоянии какой-то внутренней раздвоенности. Умом она понимала, что хорошо сделала, выполнив просьбу брата. По всему видно, телеграмма эта для него очень важна, и, как знать, может, она, принеся ее вовремя, отвела от Саши какую-то беду. А может, наоборот? Может, «она принесла известие о непоправимой беде? Ведь Саша вышел к ней спокойный, все еще занятый своей научной работой, от которой она оторвала его, а взглянул на телеграмму – и настроение его резко сменилось. Да, она принесла неприятное известие. Саше явно грозит какая-то опасность. Не зря же и в телеграмме сказано: «опасно больна». Такими словами о радостях, конечно, не сообщают.
Как Аня ни уговаривала себя, что Саше ничего не грозит, это странное чувство надвигающегося несчастья не покидало ее. Она пришла вскоре к Саше и, застав его дома одного, что в эти дни было редкостью, опять завела разговор о загадочной телеграмме. Саша недовольно нахмурился и, повторив то, что и тогда сказал, умолк. Аня испугалась, что из-за этой назойливости он вообще ничего не будет доверять ей, и не стала больше расспрашивать его.
Так она ничего толком и не узнала о телеграмме.
10
Приближение срока покушения создавало все более нервную обстановку, в которой очень трудно было заниматься обычными делами. Почти все забросили лекции и если приходили в университет, то только для виду. А Шевыреву начали мерещиться шпионы и там, где их совсем не было. Он совершенно серьезно начал было уверять товарищей, что за ним все время ходит какая-то собака, которая, по всей вероятности, помогает шпионам проверять каждый его шаг. Нервное возбуждение его было настолько сильно, что чашка кофе действовала на него, как водка. И тем больше удивляло и поражало всех невозмутимое спокойствие Ульянова.
Саше предстояло изготовить где-то нитроглицерин. Лукашевич нашел место, где это можно было проделать безопасно, кинулся искать Ульянова. Весь университет он обежал – нигде нет. И вдруг, заглянув в зоологический кабинет, он глазам своим не поверил: Александр так увлеченно препарировал ставниц (морских тараканов), привезенных ему из Кронштадта, словно то было самое главное дело его жизни.
– Александр Ильич, – с удивлением и немного даже с укоризной сказал Лукашевич, – как вы можете сейчас заниматься всем этим?
– А что случилось? – неохотно отрываясь от занятия, со своим обычным спокойствием спросил Александр.
– Как что? Осталось ведь всего несколько дней…
– И что же?
– Да ведь мы все ставим на каргу!
– Знаю.
– М-да… Странный вы человек! – невольно вырвалось у Лукашевича.
– Нет. Я просто очень люблю науку, – с такой проникновенной искренностью сказал Саша, что у Лукашевича сердце дрогнуло.
«Такой талантливый человек, – думал он, слушая рассказ Александра Ильича о его опытах для новой научной работы, – а что ждет его?..»
– Александр Ильич, я договорился с Новорусским; он предоставляет нам свою дачу в Парголове. Там живет мать его невесты фельдшерица Ананьина. У нее есть сын, гимназист. Условились так: вы поедете туда как бы давать уроки этому гимназисту. Ваши занятия химией Новорусский объяснит Ананьиной сам. Он скажет ей, что это вам необходимо для научной работы.
– Значит, Новорусский посвящен в наше дело?
– Да. Он спросил меня, для каких целей нужна дача. Вы сами понимаете, что у меня не было другого выхода. Кстати, когда он узнал, что вы там будете делать, то сказал, что для другого дела он и не дал бы нам свою дачу. Вы ведь его по кружку неплохо знаете.
– Да, я с ним встречался у Никонова.
– Приборы вы заберете, а кислоту… Тут нужно подумать, с кем ее туда переправить. Хорошо бы найти такого человека, за которым наверняка нет слежки.
Лукашевич ушел, а Саша вновь принялся за свою работу. Ему хотелось до отъезда в Парголово выполнить намеченную программу. Он усиленно готовил новую научную работу, которую хотел закончить до каникул, а потому и дорожил каждой минутой.
11
Выработка азотной кислоты шла очень медленно. Лукашевич предложил послать кого-нибудь в Вильно к своим друзьям.
– Там дельный народ: у них и деньги есть и паспорта, и кислоты они смогут достать, если захотят.
Нужно было послать такого человека, за которым нет слежки. Решили поручить это дело студенту Буковскому. (Его Лукашевич и Ульянов хорошо знали по экономическому кружку.) Буковский был сыном полицмейстера, участия в революционных делах не принимал и согласился сделать это по дружбе к Никонову. Буковский хорошо выполнил поручение, но привезенной им кислоты все равно не хватило. Ви-ленцы обещали со временем достать еще.
Кислоту вырабатывали Генералов и Андреюшкин. Так как дело шло изнурительно медленно, у них истощилось терпение, и они просили Шевырева послать еще кого-то в Вильно, чтобы ускорить изготовление бомб. Ульянов поддержал их, и Шевырев взялся найти человека для этой поездки.
По кухмистерской Шевыреву помогал Канчер: он ходил за покупками, продавал талоны. Показал он себя человеком сообразительным и расторопным. Шевырев, когда началась подготовка покушения, стал использовать его на (всяких посылках: то банки и реторты в аптеке купить, то записку Ульянову снести, то еще что-то. Канчер привык к выполнению всевозможных поручений Шевырева и, когда тот, придя к нему, сказал: «Канчер, мне некогда, так поезжай в Вильно и привези оттуда вещи», – тот даже не спросил, что именно он должен привезти.
– Вот тебе, батюшка, пятьдесят рублей и две записки, два адреса. Один адрес – у Антона взять эти вещи, а найти его так: на Виленской улице, дом Апатова, зайти в трактир и спросить Елену, а у нее Антона. Другой адрес – ты, батюшка, внимательно слушай! – другой адрес Пилсудского. Ты знаешь его?
– Я встречал его в университете, но лично не знаком.
– Хорошо. Эти два письма передашь ему.
– А дальше что?
– Остальное они тебе, батюшка, расскажут. Твоя задача – делать все, что они будут говорить, и привезти то, что дадут. Ясно? Когда будешь уезжать, дашь вот по этому адресу такого содержания телеграмму, – Шевырев показал написанный на клочке бумаги адрес и текст телеграммы, – Запомнил?
– Да.
– Хорошо, – достал спички, сжег бумажку с адресом. – Ульянов встретит тебя на вокзале. И последнее: куда едешь, зачем – никому ни слова.
Канчер привез кислоту. Ульянов встретил его на вокзале – по той телеграмме, которую принесла Аня, – и забрал чемодан с бутылями. В Вильно Канчер догадался, за чем его послали – ему, кроме кислоты, вручили там револьвер, – и насмерть перепугался. Выглядел он таким замученным и жалким, что Саше неприятно было на него смотреть. Кислота, привезенная им, тоже оказалась негожей: была слишком слабой – и Андреюшкин с Генераловым, чертыхая виленцев, вылили ее в Неву. Ульянов сказал Шевыреву:
– Канчер мне кажется человеком ненадежным.
– Я от него, батюшка, тоже не в восторге, но где же лучше взять?
Вместе с Канчером жил его земляк Горкун, а потом приехал и другой, Волохов. Хотя Шевырев и вел все дела с Канчером секретно, но тот тут же выкладывал все Горкуну. Шевырев, поняв это, начал давать и Горкуну поручения. Так он послал обоих отнести на квартиру Новорусского препараты. Новорусский в это время переезжал на дачу своей тещи
Ананьиной, и ему удобнее было переправить туда вместе с вещами все нужное для изготовления динамита. Ульянов был против привлечения Канчера к делу, считая его человеком легкомысленным и болтливым, но Шевырев продолжал давать ему поручения.
10 февраля Шевырев зашел к Канчеру, вывел в другую комнату, зашептал:
– И родному отцу не говори! Никому не скажешь?
– Нет.
– Мы готовим покушение на царя.
– Но я… – испуганно начал Канчер. – Я… я не разделяю ваших взглядов на террор. Я сроду не принадлежал ни к каким революционным кружкам. Я прошу уволить меня…
– Ваша роль – я имею в виду Горкуна и Волохова – совершенно пассивная. Вы дадите знать, когда будет ехать государь.
Канчеру деваться было некуда: он понял, что давно уже помогает, выполняя поручения Шевырева, готовить покушение. Поездка в Вильно, покупки препаратов в аптеках, передача записок – все это, оказывается, звенья одной и той же цепи, которой он сейчас связан по рукам и ногам. Он понял, что слишком много знал, чтобы можно было отказаться, не рискуя, что тебя не сочтут за шпиона. А этого он боялся пока что больше всего, ибо видел, с каким презрением относятся студенты к доносчикам. Горкун, узнав, о чем был разговор, так растерялся, что весь вечер чесал затылок, бубнил одно и то же:
– Всунув ты мене в пекло…
Канчер, оправдываясь, утешал его:
– Да погоди помирать! Ты же знаешь, как чаще всего бывает у нашего брата студента: поболтают да тем дело и кончится. Шевырев сам мне совсем недавно говорил, что ему нужно уезжать куда-то на юг лечиться. Та кислота, что я привез, не годится. Пока другую достанут… Нет, мертвое это дело!
– За такое дело голову снимут, – продолжал чесать затылок Горкун. – Ну, каша…
12
Как Саша ни скрывал от Ани все свои дела по подготовке покушения, они нет-нет да и пробивались наружу. При всей его внутренней собранности и непостижимой для Ани сдержанности он иногда выдавал себя.
Однажды, придя к Саше, Аня застала у него все того же ненавистного ей Говорухина. Саша был уже одет, сказал, что скоро вернется, и просил ее подождать. В руках у него был завернутый в бумагу какой-то длинный предмет, похожий на ружье. По тому, что Говорухин тоже оставался ждать его, Аня заключила: он знает, куда Саша идет, и знает, что он несет. Аню охватило смутное беспокойство. Куда это Саша пошел в такой поздний час? Что он понес? И не рискует ли он? Саша долго не возвращался, Говорухин, уткнувшись в книжку, сидел молча. Часто курил, нервничал. У Ани истощилось терпение, и она спросила:
– Куда Саша пошел?
– Я не знаю.
– Нет, вы знаете! И вы всегда… вы всегда что-то скрываете от меня. Это нехорошо! Это нечестно!
– Он скоро вернется, – подчеркнуто сухо ответил Говорухин, – и объяснит вам, где был. Мне же он не поручал этого делать.
Ждать Сашу Ане пришлось, как ей показалось, бесконечно долго. Она брала одну книгу за другой, листала их, но ничего читать не могла. В голове ее теснились беспокойные мысли: «Где Саша? Что с ним?» И, казалось, он попал в какую-то беду.
Но вот, наконец, хлопнула дверь, и на пороге комнаты показался Саша. Аня облегченно вздохнула. Ей очень хотелось поговорить с ним, попросить его, чтобы он был осторожнее, но Говорухин не двигался с места, и она, поняв, что его не пересидеть, ушла встревоженная и недовольная.
Вернувшись домой, Аня долго не могла успокоиться. Смутная тревога не давала покоя ей несколько дней.
Потом вдруг сошлись два тревожных события. Чеботарев объявил, что уезжает на другую квартиру, а почему он это делает, объяснил так путано, что Аня не поверила ни одному его слову. Она спросила Сашу, что между ними произошло, но тот тоже ответил очень уклончиво: Чеботареву, дескать, нужно готовиться к отъезду в Сибирь, ему нужна более тихая квартира, чтобы закончить все дела, а тут много народу ходит. После отъезда Чеботарева пустая, похожая на сарай квартира стала еще более неуютной, производила унылое впечатление. Саша сказал, что доживет в ней только месяц и потом переберется в другое место. Аня кинулась искать ему комнату, но ничего подходящего не попадалось. Сам же Саша как-то равнодушно относился к своему переселению. Подошло время платы за квартиру, он внес за месяц вперед, что казалось Ане верхом расточительности, и остался в старой квартире. Не успела Аня освоиться с этой новостью, как нагрянула вторая. Пришел к ней Марк Елизаров и сообщил об аресте Сергея Никонова.
– Ох! – вырвалось у Ани. – Я так боюсь за Сашу.
– Да, ему давно уже вечную память поют, – сказал Елизаров и, увидев, какое сильное впечатление произвела эта его фраза на Аню, добавил, явно желая смягчить сказанное; – Да кому ее сейчас не поют?
Арест Никонова Саша очень тяжело переживал. Однако это ни на один день не выбило его из рабочей колеи: он по-прежнему рано уходил в зоологический кабинет университета и продолжал занятия. У Ани опять полегчало на душе: аресты миновали, не коснувшись брата, он упорно работает, значит все ее волнения напрасны.
Аня получила из дому письмо и пошла показать его Саше. Ее встретила хозяйка квартиры, сообщила:
– А брата вашего нет.
– Я обожду его.
– Боюсь, что не дождетесь: он уже вторую ночь не появляется дома.
– Как?! – испугалась Аня. – Где же он?
– Не знаю…
– Я тогда посмотрю, может, он записку мне оставил.
Никакой записки Аня в комнатах не нашла. Это так встревожило ее, что она не знала, что и думать. Никогда еще не было такого случая, чтобы Саша не ночевал дома. Но если он куда-то и уехал, то почему не сказал ей? И куда он мог уехать? Какие у него могут быть дела? Он ведь никогда ничего не говорил об этом. А может, он уехал в Вильно по той загадочной телеграмме? Странно, очень странно. «А что, если его арестовали?» – вдруг пришла Ане страшная мысль. Да, но тогда бы пришли с обыском на квартиру. А может, полиция и приходила, да хозяйка не говорит об этом.
Много всевозможных предположений перебрала Аня и ни на одном не могла остановиться. Она не спала всю ночь и утром чуть свет побежала опять на квартиру Саши. Ответ тот же: нет, не появлялся. Тогда Аня помчалась к Говорухину. Там она застала Шевырева. Оба они были тоже заметно встревожены. Шевырев, косо поглядывая на нее из-под очков, точно Аня была во всем виновата, бегал из угла в угол по комнате. Говорухин силился сохранить свою обычную мрачную невозмутимость, но у него это плохо получалось. На вопрос Ани, куда же уехал Саша, он хмуро ответил, что недалеко и скоро вернется.
– Плохо, что он вас не предупредил, – заключил Говорухин и, помолчав, продолжал раздраженно: – Но и вам тоже не следует так часто ходить на квартиру за справками, а то там… бог знает что могут подумать.
– Но зачем же он поехал? – тоже повысив тон, спросила Аня. – Вы хоть это мне можете сказать?
– У него есть дела, – переглянувшись с Шевыревым, уклончиво ответил Говорухин.
– Какие? Я это спрашиваю не ради любопытства. Я просто хочу знать, рискует он чем-нибудь или нет.
– Ну, если вы уже так настаиваете… Пожалуйста. Он поехал гектографировать одну вещь. Это недалеко от Петербурга и совершенно безопасно.
– И он скоро приедет, – быстро вставил все время молчавший Шевырев. – Может, даже сегодня.
Говорухин и Шевырев не только не успокоили Аню, а еще больше растревожили ее. По их тону и растерянному виду она поняла, что они что-то скрывают от нее. Но если они даже и правду говорят, то гектографированье – довольно рискованная вещь, где бы это ни делалось, в Петербурге или в другом месте. Уходила она от них, не скрывая своего враждебного отношения, взяв слово, что они немедленно дадут знать, как только Саша вернется.
Только на четвертый день Аня, вернувшись с лекций домой, нашла в своей комнате маленькую записку Саши, в которой он извещал, что вечером зайдет. Когда он появился, Аня с упреками накинулась на него. Он, как всегда, спокойно выслушал ее, признался, что сделал ошибку, не предупредив об отъезде, пообещал, что впредь не допустит этого.
– Ты представить себе не можешь, как я волновалась. Это же очень рискованное дело…
– Ты о чем? – заметно насторожился Саша.
– Ты ведь печатал что-то?
– Нет.
– А Говорухин сказал, что ты печатал.
Саша нахмурился и ничего не ответил. Аня знала: если он не хотел о чем-то говорить, то молчал, но не лгал. И последнее время она все чаще, точно на скалу, наталкивалась на его упорное молчание. Она видела в этом недоверие, обижалась на него. Не зная истинной причины его непоколебимой замкнутости, она объясняла ее тем, что Саша переменился к ней.
– Ты не любишь и не уважаешь меня! – со слезами воскликнула она.
– Ты очень хорошо знаешь, что я тебя и люблю и уважаю, – сказал Саша твердо и так искренне, что Аня устыдилась своих слов.
13
Когда прошел период разговоров и нужно было приступить вплотную к делу, а значит, и многим рисковать, Говорухин одним из первых начал высказывать недовольства и сомнения. А после того как он узнал, что Шевырев страшно. преувеличил силы м средства группы, он открыто стал говорить, что не доверяет ему. Это, в свою очередь, вызвало и со стороны Шевырева настороженность. Шевырев и раньше недолюбливал Говорухина за пристрастие к красному словцу, а после того как увидел, что он все упорнее увиливает от поручений, и совсем разуверился в нем. Но людей было мало, и Шевырева обстоятельства дела вынуждали обращаться к нему за помощью.
Как-то ночью Шевырев зашел к Говорухину, сказал тоном, не допускающим возражений:
– Эту банку с динамитом я оставлю у тебя. До утра.
– Почему?
– Мне сейчас некуда ее деть.
– Но я же с минуты на минуту жду обыска. Знаешь ты это?
– Знаю. И понимаю: это риск. Но, батюшка, да будет вам известно, что нынешнюю ночь рискуют три квартиры.
– Хорошо! Оставьте! Но я вам скажу все начистоту. Я не верю, что покушение удастся.
– Ах, вот что, – замигал глазами Шевырев и, сняв очки, принялся протирать их, что он всегда делал, когда его озадачивали.
– Да, не верю! И в этом нет ничего удивительного. Работы у вас идут из рук вон плохо. Всюду масса почти непреодолимых препятствий. Удивительная неумелость во всех делах, что грозит страшными провалами. Систематический террор при данных силах явно неисполним, не говоря уже о том, что я не уверен, насколько верны ваши сведения. Отсюда логический вывод: пропадает масса сил непроизводительно. Далеко не уверен я и в том, что вам по силам все это предприятие.
– Так. Еще что? – спросил Шевырев, надев очки и строго, в упор глядя на Говорухина таким пронзительным взглядом, что тот невольно опустил глаза.
– Этого вполне достаточно… – с трудом выдавил улыбку Говорухин.
– Да, этого вполне достаточно, чтобы заключить: струсил парень! Вот уж честно признаюсь: не ожидал от вас этого, батюшка.
– Петр Яковлевич, – возмущенно начал Говорухин, – я попрошу вас…
– Сказать, что вы храбрый человек? Извольте! Я оставляю у вас эту банку с динамитом, а утром зайду за нею. Спокойной ночи! Да, батюшка, – уже в дверях сказал он, – послушайтесь моего совета: не смотрите так мрачно на все дело. Оно – вы скоро убедитесь в этом – поставлено лучше, чём вам кажется. Если полиция нагрянет с обыском, можете сказать, что эту банку я оставил без вашего на то разрешения. До завтра!
Говорухин никак не ожидал такого оборота дела. Он был уверен, что Шевырев, услышав о том, что он не верит в дело, немедленно заберет динамит и больше не появится. Велико же было его удивление, когда Шевырев следующей ночью опять появился. Он сказал, что оставляет банку до следующего утра, и, не дав опомниться Говорухину, скрылся. Тот всю ночь не спал и чувствовал себя так, словно сидел на пороховой бочке и смотрел на ползущий к ней огонек. Разглагольствовать о динамите и хранить его – это, оказывается, не одно и то же.
Раиса Шмидова жила в одной квартире с Говорухиным, и он, выпроводив Шевырева, принялся высказывать ей свое недовольство.
– Таких нахалов, – возмущенно говорил он, – я еще не видел. Знает, что за каждым моим шагом следит полиция, и все-таки принес ко мне такую вещь… И вообще неприятный он человек! Самый вид его производит нерасполагающее впечатление. Ты заметила, какой у него упорный, дерзкий и несимпатичный взгляд? А эта манера говорить крикливым голосом производит просто отталкивающее впечатление.
– Вы что, поссорились?
– Пока нет. Но к этому, видимо, идет.
– Тогда все ясно, – улыбнулась Шмидова. – А то я думаю, что случилось? Ведь ты недавно был совсем другого мнения о нем. Ты говорил мне, что Шевырев очень оригинальный. Ты восхищался тем, что он, взявшись за какое-нибудь дело, не отступал ни перед какими трудностями, пока не доводил его до конца. Тебя приводило в восторг то, что он, увлекшись чем-то, не только ночи напролет не спал, но даже забывал поесть.
– Я и сейчас не отрицаю: энергии у него хоть отбавляй. А совести и порядочности… Ну, посуди сама, мог бы, например, Ульянов так поступить, как он? Да никогда в жизни! Он быстрее сам примет удар, направленный на товарища, чем станет прятаться за спину других.
Вскоре повторилась та же история: неугомонный Шевырев вновь поднял Говорухина в два часа ночи с постели и вручил ему склянку с гремучей ртутью.
– Что там? – спросил Говорухин, когда Шевырев поставив сверток под его кровать, поспешно направился к двери.
– Пустяк…
– Нет, все-таки. Я должен по крайней мере хотя бы знать, чем вы меня на этот раз осчастливили.
– Успокойтесь, батюшка, – беззаботно продолжал Шевырев, – там всего-навсего гремучая ртуть.
– Что?!
– Один только вам совет: не вздумайте выбросить в окно – взорвется. Ну, батюшка, я побежал. Мне сегодня не придется, видимо, спать.
– Петр Яковлевич, одну минуту…
– Завтра, завтра потолкуем, – кинул тот через плечо, скрываясь за дверью.
14
Завесив окно, Александр мастерил футляр для бомбы. На хозяйской половине часы пробили два. У него глаза слипались ото сна, но он не ложился: нужно было к утру во что бы то ни стало закончить. Когда сон очень уж одолевал, он умывался холодной водой и, пошагав по комнате, принимался за работу. Он каждый день ждал обыска и старался ничего опасного не держать дома. Однако возможности соблюдать абсолютную конспирацию были настолько ограничены, что в квартире всегда находилось что-то заставляющее опасаться.
Вдруг послышался стук в дверь. Смахнув со стола картон, бумагу, клей, Александр сунул все это вместе с футляром в корзину для бумаг и разложил книги так, точно он занимался. Стук повторился. Боясь, чтобы не всполошились хозяева, он вышел в коридор, подавляя волнение, спокойно спросил:
– Кто?
– Открой, Александр Ильич.
– Орест Макарыч?
– Я. И всего на минуту, – продолжал Говорухин, переступая порог.
– Что-то случилось?
– Пока нет. Но если Шевырев будет себя и дальше так вести, то он наверняка погубит всех.
Преувеличивая опасность своего положения, Говорухин принялся жаловаться на Шевырева. Александр слушал его и вспомнил, с каким жаром Говорухин агитировал его взяться за подготовку покушения, как он издевался над теми, кто раздумывал, стоит ли примыкать к террористической группе. Значит, пока шли только разговоры, он был смелее всех, а сейчас… А сейчас вот он, изо всех сил стараясь скрыть, что струсил, говорит:
– Я с самого начала сказал: не могу принимать активного участия в подготовке. И не потому, что боюсь, а потому, что полиция следит за каждым моим шагом. Своим участием в деле я могу только завалить его. Ты согласился с этим? Согласился. Шевырев знает это? Знает. Зачем же он устраивает такие опасные фокусы? Чтобы испытать терпение мое? Но ведь он может погубить все дело!







