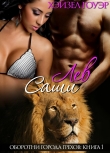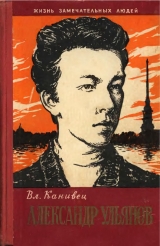
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Клевета! – крикнуло сразу несколько голосов. – Мы гордимся…
Поднялся невероятный шум. Шпики и их подпевалы, чтобы заглушить голоса протеста, принялись бурно аплодировать.
– Весь наш университет, вся коллегия профессоров и все студенты, – силясь перекричать голоса с галерки, вещал ректор, – все, как один человек, поднесем к священным стопам нашего венценосного покровителя государя императора согревающие нас чувства верноподданнической верности и любви…
– Не надо! Позор! – разделись с галерки голоса протеста, но они потонули в криках одобрения и аплодисментах приспешников университетского начальства. Однако галерка продолжала бушевать: оттуда раздался неистовый топот, крики: «Холопы! Проклятье вам! Слава борцам за свободу!..»
На галерку хлынули шпики, началась потасовка, и только после того, как оттуда выволокли всех, кто открыто и смело выражал протест, в зале установилась относительная тишина, и Андреевский прочел адрес:
– «Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивейший! Три злоумышленника, недавно сделавшись к великому несчастью…»
– К счастью! – опять крикнул кто-то.
– «…для С.-Петербургского университета его студентами, своим участием в адском замысле и преступном сообществе нанесли университету невыносимый позор. Тяжко, скорбно, безвыходно! И в эти горестные дни С.-Петербургский университет, в целом его составе…»
– Ложь! Ложь! – засвистели и закричали хором на галерке. – Ложь!
– «…все его профессора и студенты ищут для себя единственного утешения в милостивом, государь, дозволении повергнуть к священным стопам Вашего Императорского Величества чувства верноподданнической верности и горячей любви».
Последние слова ректора были покрыты аплодисментами и криками «ура» изо всех сил старавшихся шпиков, с галерки слышен был только свист. Присяжный писака «Правительственного вестника» ни словом не упоминает о криках протеста. Он так заключает свой отчет: «Речь ректора была прерываема продолжительными рукоплесканиями, а по окончании оной восторженные возгласы студентов довершились пением народного гимна, и громкое «ура» долго оглашало университетские стены».
Однако о том, как действительно была принята позорная, холопская речь Андреевского, стало известно всем. Арапова отмечает в своем дневнике: «Когда Андреевский, действительно, заговаривал об адресе, два голоса крикнуло «не надо!» и раздался свист… Ректор имел сообразительность продолжать свою речь, не обращая внимания на эту грубую выходку, и студенты, оттеснив революционеров к дверям, порядком их помяли, так что один из них после этого даже заболел… В настоящее время, – продолжает в другой записи она, – хорошо осведомленные уверяют, что протестовало не такое меньшинство, что свистки были довольно многочисленны, что речь была прервана и что в течение семи минут был момент замешательства и ужасного волнения».
Узнал об этом протесте студентов во время речи Андреевского и царь. Он начертал на адресе резолюцию: «Благодарю С.-Петербургский университет и надеюсь, что на деле, а не на бумаге только он докажет свою преданность…»
Союз соединенного петербургского студенчества в ту же ночь выпустил листовку. В ней писалось с негодованием и гневом: «Вчера, 6 марта, С.-Петербургский университет был опозорен… Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемою грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силою…
Мы же, со своей стороны, спешим всем нашим товарищам заявить и всему русскому обществу, что мы не выражали своего согласия на поднесение адреса, что мы не отступались и не отступимся от наших традиций, освященных тысячами жертв, что всегда стремились и будем стремиться к воплощению правды в общественные формы, как мы ее понимаем, и всегда будем учиться находить, понимать и любить ее; что никогда мы не порицали и не будем порицать и оплевывать погибших борцов, наших товарищей по делу и братьев по сердцу, но преклонимся перед их нравственной высотой и будем учиться, как нужно любить и бороться…
Как жила, так и живет и вечно будет жить в петербургском студенчестве лучшая его часть, исповедующая искание правды и свободы в общественной жизни, искреннее служение своим чистейшим убеждениям, умение страдать и умереть за них».
13 марта, то есть неделю спустя после речи Андреевского, директор департамента полиции Дурново в своем донесении министру внутренних дел Толстому, отмечает: «Студенты С.-Петербургского университета до сих пор еще не успокоились: вчера, например, в VII аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствующих аресту. Чудинов будет завтра у меня для объяснений о лицах, его побивших. По секретным сведениям, предполагают побить окна у ректора. Видимый порядок в университете не нарушается. Предположено выслать 5 человек (2 русских и 3 еврея), участие коих во враждебных действиях более или менее установлено».
6
Письмо Вере Васильевне Кашкадамовой принесли перед уроком, и она не успела его прочесть. По почерку и адресу узнала: из Петербурга, от Марии Песковской.
Закончив урок, Вера Васильевна вскрыла письмо. Она быстро прочла первые строки и не поверила глазам своим. Что это она пишет? Саша и Аня арестованы, их обвиняют в подготовке покушения на государя… У Веры Васильевны так заколотилось сердце, что буквы поплыли перед глазами.
– Вера Васильевна, что с вами? – подбежала испуганная учительница. – Вам плохо?
– Нет… Ничего. Это сейчас пройдет.
Когда прозвенел звонок и все ушли, Вера Васильевна вновь достала письмо и прочла его. Песковская просила сказать об аресте Марии Александровне, предварительно подготовив ее. Принести такую весть доброй, славной Марии Александровне – нет, это свыше ее сил! Она еще не оправилась и от смерти мужа, а тут арест Ани и Саши, да за что – за участие в покушении! Арест старших детей, на которых она возлагала такие надежды. Еще вчера она говорила:
– Вот Саша скоро закончит курс, определится, и мне легче будет. Давно только он что-то не писал. Боюсь, не заболел ли…
Господи, но что же делать? Совсем не сказать ведь тоже нельзя. Так или иначе, но она узнает об аресте. А, вот что, она поговорит с Володей, посоветуется с ним, как лучше подготовить к этому страшному известию Марию Александровну. Она послала за Володей в гимназию: там как раз кончались уроки. Володя прибежал веселый, радостный. Круглые щеки его румянились, карие глаза ярко искрились. Но, увидев опечаленную, заплаканную Веру Васильевну, он нахмурился, спросил с участием:
– Что с вами, Вера Васильевна?
– Володенька, успокойся…
– Да я совершенно спокоен.
– У вас… Вашу семью, – начала Вера Васильевна, совсем забыв те слова, которые она приготовила сказать ему, – постигло большое несчастье…
– С мамой что-то случилось? – испуганно воскликнул Володя и кинулся к двери.
– Нет-нет! – с трудом удержала его Вера Васильевна. – Саша и Аня… У меня язык просто не поворачивается… На вот, прочти…
Володя взял письмо, быстро пробежал его раз, второй, брови его сурово сдвинулись, глаза остро прищурились, губы твердо сжались, и весь он точно преобразился: это был уже не прежний шумный, жизнерадостный мальчик, а взрослый человек, глубоко задумавшийся над очень важным вопросом. И что было еще просто открытием для Веры Васильевны: Володя не выказал ни испуга, ни растерянности.
– А ведь дело-то серьезное, – после продолжительного, напряженного молчания сказал он, – может плохо кончиться для Саши.
Слова Володи поразили Веру Васильевну. Она никак не ожидала, что этот, как ей всегда казалось, бесшабашный мальчик так мужественно примет страшное известие и так трезво оценит значение его. Она слушала его и думала: «Бог мой, как он вырос!» А ему сказала:
– Володенька, я не знаю, как сказать об этом…
– Я сам маме скажу, – решительно заявил Володя.
– Хорошо, – обрадовалась Вера Васильевна, что он снял с нее эту тяжкую обязанность. – Но… Нужно, Володенька, как-то подготовить ее. Ты ей скажи, что я получила какое-то письмо… Да, да, скажи, что в письме том что-то есть о Саше и Ане, но не говори, в чем они обвиняются. А вечером я приду, и мы постараемся сообщить обо всем…
– Вера Васильевна, я никогда маме не лгал и лгать не буду, – твердо сказал Володя. – Дайте мне, пожалуйста, письмо, и я все скажу ей. Я уверен, что так будет…
– Нет-нет, письма я тебе не дам. Говори ей, что хочешь, но письма я не дам. Это письмо может убить ее!
– Вера Васильевна, вы плохо знаете маму!
– Возможно, – обиженно поджала губы Вера Васильевна. – Возможно. Но письма я тебе все-таки не дам. И очень прошу тебя: будь осторожней с мамой. Она еще не оправилась от смерти Ильи Николаевича, и эта новая страшная беда совсем может добить ее. А у нее на руках вся семья. Помни это, вся семья…
Володя понял, что уговаривать Веру Васильевну бесполезно, и, не став спорить с нею, ушел. День был солнечный, но холодный. Со стороны Свияги бил, обжигая лицо, колючий ветер. В другой раз Володя бы побежал, чтобы быстрее добраться домой. Тем более что улица здесь шла под гору и ноги сами просили ускорить шаг. Сегодня же он не торопился домой. И думал он не столько над тем, как сообщить маме об аресте Ани и Саши, а что посоветовать ей. Как можно помочь сестре и брату? Сидя здесь, в Симбирске, конечно, ничего сделать нельзя. А что можно предпринять там, в Петербурге? И вот каков, значит, Саша. А он еще прошлым летом, наблюдая, как Саша возится с червями, думал, что не выйдет из него революционера. Ему было и жаль брата, и в то же время он гордился тем, что Саша стал в ряды революционных борцов. Зачем он только примкнул к террористам? Ведь он же видел, что убийство Александра II ничего не дало. Сам говорил, что Маркс ему на многое открыл глаза. Впрочем, дело-то, может, еще обстоит и не так, как оно описано в письме.
Раздеваясь в прихожей, Володя слышал: в столовой стучит машинка. Это неутомимая мама шьет Мите рубашку. После смерти отца у нее как-то особенно много забот. Она ни минуты не сидит без дела. Володя старается во всем помогать ей, но случается как-то так, что она незаметно предупреждает все его намерения. А на все упреки его отвечает одно:
– У тебя, скоро экзамены на аттестат…
Посидев у себя в комнате, Володя спустился вниз, подошел к матери, обнял ее за плечи. Такое проявление нежности случалось с ним редко, и мать, поняв, что у него сегодня какое-то необычное настроение, отложила шитье, повернулась к нему. Повернулась она к нему с ласковой улыбкой, но, глянув в его словно бы окаменевшее лицо, тревожно спросила:
– Что-то случилось?
– Да, мама. Я сейчас был у Веры Васильевны. Она получила из Петербурга письмо…
– Аня заболела?
– Нет, мама…
– Саша?
– И он здоров, но… Мама, Вера Васильевна просила не говорить тебе всю правду, но я не могу так сделать. Ты должна все знать. Аня и Саша арестованы.
– Арестованы?! За что?
– Если верить письму, то дело очень серьезное, – после паузы продолжал Володя, – они обвиняются в подготовке покушения на царя.
Мария Александровна не ахнула, не вскрикнула, только побледнела и чуть пошатнулась на стуле. Справившись с волнением, она встала, сурово спросила:
– Где письмо?
– Она не дала мне его.
Мария Александровна, не сказав ни слова, оделась и ушла. Вера Васильевна никак не ожидала ее прихода и, увидев ее, растерялась. Потом, поняв, что Володя все сказал, кинулась к ней со слезами, но Мария Александровна жестом остановила ее, глухо попросила:
– Дайте мне письмо.
Вера Васильевна дала ей письмо. Она несколько раз прочла его, твердо и спокойно сказала:
– Я сегодня уеду; навещайте, пожалуйста, без меня детей.
7
У Андреюшкина при обыске было найдено письмо. В нем химическими чернилами он писал: «Я не понял вашего письма, измочил его все в железе и в итоге получил нуль. Что это значит? Разобрали мое последнее письмо, которое получили от матери? О его содержании никому ни слова: молчите даже Раисе и Женьке, ибо они ничего не знают, не их ума дело. Если дело не удастся в течение этих трех дней (до 3 марта), то мы или отложим, или поедем за ним. Пишите на имя Анны Григорьевны для передачи Авдотье Федоровне. Пока прощайте, кое-что найдете, если догадаетесь, в любовной части письма. Сообщите адрес: тот потерял и забыл. Пишу через мать».
Кому это письмо было адресовано, Андреюшкин не говорил. Сердюкова же, не зная, что он арестован, послала ему 7 марта телеграмму такого содержания в ответ на предыдущее письмо: «Вы просили ничего не отвечать. С получением письма я прожила целую вечность. Да. Отвечайте. Комахина». Охранка разыскала названных в письме Раису Ульянко и Женьку Хлебникову, и те, по предъявлении им телеграммы, указали, что послала ее Сердюкова. Сердюкову немедленно арестовали и доставили в Петербург.
Аня сидела в Доме предварительного заключения. Условия там были более сносные, чем в Петропавловской крепости. Она научилась перестукиванию, но это тоже никаких сведений о ходе дела не давало.

Степан Волохов.

Иосиф Лукашевич.

Михаил Новорусский.

Шлиссельбургская крепость. Фото 80-х годов.

Здание старой тюрьмы в Шлиссельбурге, где осужденные по делу 1 марта сидели с 5 по 8 мая. Направо стена, подле которой они были казнены.
Допрашивая ее о телеграмме из Вильно, прокурор Котляревский сказал:
– А вы знаете, о чем была эта телеграмма?
– Нет, – чистосердечно ответила Аня.
Прокурор выдержал значительную паузу, изрек со скорбной торжественностью:
– В ней извещалось о присылке азотной кислоты, чтобы приготовить бомбы для покушения на государя императора. Вы теперь, – он подчеркнул это слово, – понимаете, каким орудием служили в руках брата? Какой ужасной опасности он подвергал вас?
Ане нечего было ответить: она вспомнила свое объяснение с Сашей по поводу этой телеграммы. Как же она тогда ничего не поняла? Ведь многое в поведении Саши, еще больше в поведении Шевырева и Говорухина было странным.
– Шевырев уехал в Крым, Говорухин скрылся за границу, а ваш брат остался бойцом на поле битвы, – продолжал Котляревский, – вот как обстоит дело. Его бросили все, и поэтому ваши откровенные, ваши правдивые показания будут для него единственной поддержкой…
– Но я еще раз говорю вам: я ничего не знаю…
Ане дважды разрешили писать Саше, желая этим, видимо, что-то выудить из нее. Из этого, конечно, ничего не вышло, и переписку запретили. В первом письме Аня писала, пораженная тем, с каким самоотвержением, стойкостью Саша шел на смертный бой за свои идеалы свободы и правды: «Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя, солнышко мое ненаглядное!» Письмо это тюремщики сочли крамольным, и оно не было передано Саше. А какую бы оно радость доставило ему!
В первых числах марта на свидание с Никоновым пришла сестра. Целуясь с ним, шепнула:
– Ильич и Красавец арестованы.
Красавцем в семье Никоновых называли Лукашевича. Теперь сомнений не было: покушение провалилось, раз о смерти царя ничего не слышно, а два главных заговорщика арестованы. Никонов ночи не спал, силясь разгадать причину провала. Первое предположение было: кто-то выдал. Но кто? Открыто ли и его участие в деле? Сознание, что он, будучи за решеткой, не может уйти от преследования, а должен сидеть и ждать участи своей, действовало угнетающе.
Однажды, когда Никонова вели на прогулку, навстречу ему попались два очень подозрительных типа. Поднимались они вверх по лестнице в сопровождении надзирателя. С виду были похожи на дворников. Поравнявшись с Никоновым, они уставились на него и провожали глазами, пока он и не скрылся. Сомнений не было: этих типов приводили для его опознания. Спустя несколько дней во дворе тюрьмы появился половой из кафе Андреева. В этом кафе Никонов встречался с Ульяновым, и полового, значит, тоже приводили для опознания. Сомнений не было: у охранки есть какие-то подозрения о его участии в заговоре. Лукашевич и Ульянов не могли его выдать. Значит, арестован еще кто-то. Но кто? Что полиции удалось узнать о нем?
В борьбе с таким неравным противником, как царское самодержавие, всегда приходилось ходить по острию ножа. Но одно дело ждать удара врага на воле, в разгар борьбы, и совсем другое – ждать его, будучи лишенным всякой возможности к сопротивлению и защите. В таком положении человека невольно охватывает удручающее чувство бессилия, а то и обреченности. Именно так чувствовал себя Никонов, ожидая, когда его притянут к делу, которое грозило самой тяжелой карой. Но этого не произошло: Ульянов и Лукашевич не выдали его.
8
Железной дороги до Симбирска не было. Чтобы уехать в Петербург, предстояло на лошадях добраться до Сызрани. Кроме того, что поездка была утомительной, она еще дорого и стоила. Тот, кто собирался ехать на станцию, принимался искать не только ямщика, но и попутчиков. Кинулся искать их и Володя. Но по городу уже разнесся слух об аресте Ульяновых в Петербурге, и никто не хотел ехать вместе с матерью государственных преступников. Володя, вернувшись домой ни с чем, возмущенно говорил:
– Какая все это, оказывается, мерзкая и трусливая публика! Мне тошно смотреть было на них! Фарисеи! Я прошу тебя, мама, поезжай одна.
Попутчика больше не стали искать, и Мария Александровна уехала одна. Шел снег с дождем, дорога была разбита, возок тонул в зажорах, но она не замечала неудобств: мысли ее были заняты судьбой Ани и Саши. То ей казалось, что она не застанет детей в живых, то возникала надежда, что ей удастся спасти их. Быстрее! Быстрее бы только добраться туда!
Проводив мать, Володя остался главой дома. Он сразу почувствовал, как много забот легло на него. По городу ползли слухи один гнуснее другого, и обыватели, приближаясь к дому Ульяновых, переходили на другую сторону улицы и украдкой крестились – пронеси, господи! Да и как было им не креститься, если из уст в уста передавалось, что при обыске у Ульяновых полиция нашла целый склад бомб! Боясь попасть в списки неблагонадежных – слух был, что за домом все время следят шпики и записывают, кто туда ходит, – Ульяновых перестали посещать, казалось, и самые близкие друзья.
Вера Васильевна Кашкадамова была в числе тех немногих, кто не изменил Ульяновым в эти трудные дни. Она часто после отъезда Марии Александровны заходила в домик на Московской улице. Володя был суров и молчалив. Он все больше сидел в своей комнате и упорно занимался. Он аккуратно посещал гимназию, на уроках, как и всегда, оказывался подготовленным лучше всех. Злорадные расчеты тупоголовых сынков симбирской аристократии на то, что Владимир Ульянов слетит с места первого ученика, не оправдались. И они принялись донимать его злобными замечаниями о судьбе брата.
Не удерживались и многие учителя, чтобы не заметить с укоризной:
– Вот ведь какой у тебя брат-то. Мы ему медаль дали, а он вон что наделал.
Чаше всего Володя отмалчивался. Но когда у него совсем уж истощалось терпение, он спокойно уточнял:
– Золотую медаль брат получил за успехи в учебе. И, как помнят все, вы тогда говорили, что вполне заслуженно.
Когда Володя, закончив подготовку уроков, приходил к младшим сестрам и брату, он шутил, забавляя их; мастерил им игрушки, давал решать ребусы и шарады. Сам садился играть с ними в лото. И меньшие, очень скучавшие по матери, с отъездом которой дом совсем осиротел, всегда с нетерпением ждали прихода Володи. Игры были тем более интересны для них, что Володя не умел ничего делать ради формы, сам увлекался, входил в азарт. Да и его самого игры отвлекали от невеселых дум о судьбе брата и сестры.
Вера Васильевна несколько раз, оставшись с ним наедине, пыталась завести разговор о Саше, высказывая всевозможные предположения о том, какое ждет его наказание.
– Они ведь только с бомбами ходили, – говорила она то, что знала из маленькой газетной заметки, – они никакого вреда не сделали. Суд должен учесть это. Не так ли, Володенька?
– Не знаю, – коротко отвечал Володя, не желая заниматься пустым гаданьем, – наши суды наказывают так, как им велят.
– Ох, – вздыхала Вера Васильевна, – и как Саша решился на такой ужасный шаг. Он же был всегда рассудительным, серьезным. Нет-нет, у меня до сих пор не укладывается в голове, как он мог принять участие в таком ужасном деле. Ведь он слишком умен для того, чтобы не понимать, какому риску подвергает и себя и всю семью. Не так ли? Ну, что ж ты молчишь, Володя?
– Я уже говорил вам и еще раз повторю: значит, он должен был поступить так. – И, помолчав, заключил с твердой убежденностью: – Значит, он не мог поступить иначе.
9
Шевырева арестовали только 7 марта, а доставили из Ялты в Петербург 14-го числа. Несмотря на то, что его участие в заговоре было установлено показаниями Канчера и Горкуна, он все отрицал. Делал он это неубедительно, а иногда и просто неумно. Во время ареста у него отобрали склянку с цианистым кали. На вопрос, зачем ему понадобился яд, отвечал: для умерщвления насекомых, коллекций которых он намеревался собирать. На первом допросе 14 марта он заявил: «Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было участии в замысле на жизнь государя императора и о существовании такого замысла ничего не слышал и не знаю; к революционной партии я не принадлежу и революционных убеждений не разделяю».
Если это голое отрицание всех обвинений, выдвинутых против него, было его тактикой, то ему просто следовало отвечать на все вопросы: «нет», «не желаю называть», «отказываюсь», – как это делал Ульянов, а не стараться преподнести все в другом, невинном, а на самом деле наивном виде. Запирательством он не только оправдывал себя, а сгущал обвинения. Именно это голое отрицание и заставило жандармов признать Шевырева «действительным руководителем преступления».
В показаниях Шевырев много путал, у него явно не сходились концы с концами. Так, например, он признал факт, что передал Канчеру и Горкуну приглашение Говорухина (на самом деле он сам им предложил) принять участие в покушении, хотя этому и не сочувствовал. Когда же его спросили, почему он взялся передать, он сказал, что тогда не объяснял себе этого, а вообще, «по-видимому, это ненормальное явление…»
На первых допросах Лукашевич тоже отрицал все, но потом начал осторожно и очень продуманно признавать то, от чего никак нельзя было отречься.
Он видел, что Ульянов выгораживает его, что тот во многом его вину берет на себя. Тогда он и сам очень хитро и ловко начал прятаться за его спину. Уже 7 марта Лукашевич дал понять, что Ульянов привлек его к подготовке покушения.
В других показаниях он везде на первый план – именно в тех делах, в которых сам был инициатором, – выставляет Ульянова. «Мне было известно, – пишет он, – что Ульянов в течение масленицы выезжал из Петербурга… Целью этой поездки было приготовление нитроглицерина… Александр Ульянов хотел поспешить печатанием составленной в последнее время программы… и с этой целью просил меня указать квартиру…»[2]2
В воспоминаниях Лукашевич отмечает: «Мы торопились с печатаньем программы».
[Закрыть]
О Шевыреве в показаниях Лукашевича тоже то и дело встречаются такие фразы: «Я передал Шевыреву… Шевырев мне сказал… Чтобы Шевырев ездил в Вильно, мне неизвестно, хотя вообще он вел такую жизнь, что о поездках его я мог и не знать… Я узнал от Петра Шевырева, что приготовление азотной кислоты идет в Петербурге довольно медленно… Шевырев просил меня найти в Вильно… Шевырев не говорил мне, от кого он все это может достать»[3]3
А в воспоминаниях читаем: «Я задумал выписать азотную кислоту, а также яды и двухствольный пистолет из Вильно».
[Закрыть].
Из этих показаний Лукашевича следствию было ясно: Шевырев – один из руководителей группы. А так как Лукашевич в последнее время – особенно после отъезда Шевырева и Говорухина – почти устранился от всех работ, то настоящая роль его в деле была неизвестна Канчеру и Горкуну. Они видели его только у Ульянова за набивкой снарядов динамитом, что и вменили Лукашевичу как главную вину. Следствию так и не удалось установить, что Лукашевич изготовил бомбу в виде книги. Таким образом, он из активного участника заговора превратился в пособника. Его считали заблудившимся молодым человеком, чистосердечно признавшим свою вину и раскаявшимся в содеянном. В своих воспоминаниях он говорит, что Ульянов шепнул на суде: «Если что-то нужно, говорите на меня». Ульянов мог это сделать, ибо даже прокурор Неклюдов признавал, что если Ульянов и грешит против истины, то только тем, что берет на себя и то, чего не делал. Но ведь Лукашевич начал говорить на него задолго до суда.
10
Начальнику петербургской охранки приказано было явиться в Гатчино со всеми агентами, участвовавшими в аресте заговорщиков. Царь изъявил желание видеть своих спасителей. Девять шпиков и два городовых в сопровождении полковника Секеринского прибыли в гатчинский дворец, где продолжал отсиживаться перепуганный насмерть император. Этим подонкам общества Александр III устроил поистине царский прием. Он представил их всей своей семье, надел каждому на шею по золотой медали «за усердие» на александровской ленте. Затем вновь обошел всех и вручил по тысяче рублей. Изрек:
– Поберегите меня и впредь…
Шпики, как их выдрессировали, хором ответили, что они рады стараться, что они не пожалеют жизней своих… Каково было умиление на этой встрече монарха со своими спасителями, говорит запись из дневника наследника престола:
«9 марта. Понедельник.
Весна настала, и прилетели жаворонки, и, действительно, день был теплый. Перед завтраком папа представлялись агенты тайной полиции, арестовавшие студентов 1 марта; они получили от папа медали и награды, молодцы!»
Главным тюремным надзирателем заключенных был сам царь. Он лично указывал, куда их сажать, как содержать. Ему немедленно отвозились все протоколы дознаний, и он скрупулезно, как и положено главному сыщику, прочитывал их, испещряя пометками на полях и резолюциями. Был этот русский самодержец человеком не только тупым и злобным, но и совершенно безграмотным. На одном из докладов начальника департамента полиции П. Дурново о нелегальной литературе он начертал: «Брошюры придерзкие».
Ни одно показание не вызвало такого яростного гнева венценосного монарха и обилие пометок на полях, как программа террористической фракции партии «Народная воля», восстановленная Александром Ульяновым в камере крепости по памяти.
В заключение программы Александр Ильич излагал взгляды фракции на террор. «Историческое развитие русского общества приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными, народническими стремлениями лучшей части русского общества. («Действительно все это перлы России!!!» – замечает царь, не скупясь на восклицательные знаки.)
…Когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, т. е. к террору. («Ловко!» – отчеркнув этот абзац, пишет царь.)
…Реакция может усиливаться, а с нею и угнетенность большой части общества, но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшею и наиболее энергичною частью общества, все неизбежнее будут становиться террористические факты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным. Успех такой борьбы несомненен. («Самоуверенности много, отнять нельзя!» – замечает царь.) Правительство вынуждено будет искать поддержки у общества и уступит его наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями мы считаем: свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной».
Дочитав до конца программу, царь, брызгая чернилами, пишет резолюцию: «Эта записка даже не сумасшедшаго, а чистаго идеота». Именно так и начертал – «идеота». Потом кто-то дрожащей рукой поправил эту царственную ошибку.
С какой тупой злобой этот жестокий «мопс» относился к простому народу, говорит и его пометка па показаниях акушерки Ананьиной. «Я беспрестанно заботилась о том, чтобы приготовить сына в гимназию», – пишет она, объясняя, почему Ульянов был приглашен в Парголово в качестве учителя. Ананьина по паспорту числилась крестьянкой. Царь подчеркнул «в гимназию» красным карандашом, поставил три восклицательных знака, что выражало его крайнее негодование, написал: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию!»
«Скот! Подлец! Негодяй! Идиот!» – вот язык пометок и резолюций самодержца.
Приехав в Петербург, Мария Александровна начала хлопотать о свидании с сыном. Она днями просиживала в приемных директора департамента полиции Дурново, министра внутренних дел, прокурора и других больших и маленьких чиновников. Ей обещали узнать, выяснить, доложить, навести справки… Совершенно отчаявшись чего-либо добиться от этих людей, Мария Александровна обращается с письмом к царю.
«…Директор департамента полиции, – пишет она, – еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована, так что тогда же предполагалось полное освобождение ея. Но затем мне объявили, что для более полного следствия дочь моя не может быть освобождена и отдана мне на поруки, о чем я просила, ввиду крайне слабого ея здоровья и убийственно вредного влияния на нее заключения в физическом и моральном отношении…
О сыне я ничего не знаю. Мне объявили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя… Я не знаю ни сущности обвинений, ни данных, на которых оно основано…»
Министр внутренних дел пишет конспиративно директору департамента полиции: «Нельзя ли воспользоваться разрешенным Государем Ульяновой свиданием с сыном, чтобы она уговорила его дать откровенные показания, в особенности о том, кто, кроме студентов, устроил все это дело. Мне кажется, это могло бы удаться если б подействовать поискуснее на мать». Вот какими соображениями руководствовался царь, милостиво разрешая свидание!
Дурново вызвал к себе Марию Александровну. Но как он ни хитрил, она поняла, чего он от нее хочет, и гневно спросила:
– Вы отдаете себе отчет в том, чего вы от меня требуете?
– Я делаю это с одной только целью: облегчить участь…
Мария Александровна, встав с кресла, смерила этого благодетеля таким уничтожающим, таким презрительным взглядом, что у него пропала охота вести дальше разговор. Он нажал кнопку и приказал появившемуся в дверях чиновнику:
– Оформите госпоже Ульяновой пропуск к сыну!