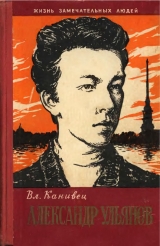
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1
– Где организаторы заговора?
– Ваше императорское величество, мы…
– Молчите! – заложив руки за спину, царь прошелся из угла в угол, остановился возле маленького, виновато ссутулившегося графа Толстого, продолжал еще более разъяренно: – Я не верю, что все дело подготовили эти мальчишки! Вы взяли пешек! Исполнителей, а не руководителей! Вы заставили говорить только трех человек! В ваших бумагах я только и читаю: дознание продолжается без всяких открытий!
Но как монарх ни бушевал, как следователи ни усердствовали, им, кроме того, что раскрыли предатели-сигнальщики, ничего не удалось узнать. Следствие начало крутиться на холостом ходу, и царю ничего другого не оставалось, как приказать закончить его. Начинается обсуждение, какому суду передать дело, чтобы как можно быстрее покончить с ним. «Имея в виду, – пишет директор департамента полиции министру внутренних дел, – что наказание в обоих случаях, т. е. Сенатом или военным судом, будет постановлено одинаковое, вся разница в пользу военного суда сводится к возможности привести приговор в исполнение приблизительно десятью днями раньше… Двери заседания будут закрыты и там, и тут».
Перебрав еще многие «за» и «против», П. Дурново приходит к выводу, что лучше всего все-таки передать дело на рассмотрение в правительствующий сенат, так как «многие обвиняемые изобличаются не свидетельскими показаниями, а оговором своих соучастников, почему и допрос последних на суде будет иметь первенствующее значение». Тут же подчеркивается, что для этого требуется очень опытный председатель суда, который сумел бы вытянуть из обвиняемых все что только можно. А на первоприсутствующего сенатора Дейера в этом отношении вполне можно положиться.
Царь соглашается с доводами директора департамента полиции, и дело назначается к слушанию в сенате на 15 апреля. Однако судьба заключенных, как видно из этого документа департамента полиции («наказание в обоих случаях будет постановлено одинаковое»), уже решена. Задача суда сводится только к одному: выполнить волю его императорского величества.
2 апреля дверь камеры Саши распахнулась, и на пороге он увидел, кроме самого коменданта крепости, целую толпу чиновников и стражи. С торжественной важностью вся процессия зашла в камеру. Оказалось, это пожаловал председатель суда сенатор Дейер. Задав несколько стандартных вопросов (фамилия, имя, отчество), он вручил обвинительный акт. Саша с жадностью принялся его читать. Ему хотелось узнать, что послужило поводом для ареста метальщиков, но этого там не было указано. С удивлением и огорчением он узнал, что Канчер завалил почти всех виленцев, что на скамью подсудимых попали люди, по сути дела, ни в чем не виноватые: Новорусский, Ананьина, Шмидова, Пашковский, Пилсудский, Сердюкова.
2
– Положение создалось страшно тяжелое, – говорил Песковский, муж племянницы Марии Александровны, когда она приехала в Петербург. – Первейшая и главная наша задача – найти хорошего защитника. Я рекомендую вам Пассавера Александра Яковлевича. Это умный и довольно смелый человек.
– Я во всем доверяю вам, Матвей Леонтьевич. У меня ведь нет здесь никаких знакомств, никаких связей.
– Ошибаетесь, Мария Александровна! Я установил: сам обер-прокурор Неклюдов учился у Ильи Николаевича!
– Да что вы?
– Да, да! И отзывается о нем до сих пор очень и очень лестно. Вам надо непременно сходить прямо к нему. Далее. Вы по Пензе должны знать некоего Таганцева.
– Кажется, припоминаю…
– Чудесно! Этот Таганцев ныне сенатор. Он на короткой ноге с сенатором Фуксом, который может разрешить, например, свидание. От него зависит и получение вами пропуска на суд. Но это все потом. Сейчас самое главное – защитник.
Песковский познакомил Марию Александровну с защитником. Пассавер произвел на нее не очень хорошее впечатление: болтливый, за каждым словом сквозит равнодушие ко всему на свете. Явно набивая себе цену, он долго говорил о том, как много может сделать защита, если она с умом и знанием дела – и смелостью! – ринется в бой за своего подопечного. Мария Александровна, не имея выбора, согласилась доверить защиту Саши Пассаверу. Провожая ее на первое свидание с Сашей, Лесковский наказывал:
– Итак, главное: вы должны убедить его взять этого защитника.
– Я буду говорить с ним…
– Мария Александровна, вы простите меня, но я, желая вам добра, позволю себе попросить вас: будьте настойчивее! Я знаю, как трудно в чем-то переубедить Александра Ильича…
На свиданиях родители и родственники арестованных вели себя по-разному: одни плакали, другие униженно заискивали перед каждой тюремной сошкой, пугливо озирались по сторонам, не чая, видимо, как оттуда побыстрее уйти. Мария Александровна вела себя с таким достоинством и суровой гордостью, что и тюремщики не могли не проникнуться уважением к ней. Они поражались ее выдержкой и внутренней собранностью. Ни лицом, ни голосом она не выдавала своей душевной боли, и только в карих глазах ее было выражение такого страдания, что все, кто встречался с нею взглядом, отводили глаза в сторону.
– Обождите здесь, – сказал надзиратель, открыв дверь в пустую камеру. – Сейчас его приведут.
Мария Александровна присела на голой койке, глубоко вздохнула, силясь унять до боли тревожно стучавшее сердце. Наконец-то она увидит своего Сашу! Увидит… Она так долго добивалась, так долго и мучительно ждала этой минуты, что ей начало казаться: от того, что она увидит его, поговорит с ним, многое изменится. Она не верила полиции, и в душе ее теплилась надежда, что вина его не так страшна, как ей говорят. Вот он! Мария Александровна встала, шагнула к двери. Нет, провели кого-то другого. Такой же молодой, как и Саша. Может, кто-то из его друзей?
Постояв у двери, Мария Александровна повернулась, чтобы пройти к кровати и присесть, как вдруг услышала тихий, глуховатый голос:
– Мама…
Сердце ее на мгновение замерло – она узнала бы этот голос среди тысячи других! – и вдруг так заколотилось, что перед глазами все поплыло. Невероятным усилием воли подавив волнение, она повернулась к двери и увидела юношу… очень похожего на ее Сашу. Да нет, это уже был и не юноша, а взрослый, много выстрадавший человек. Или арестантская одежда так изменила его? Человек слабо улыбнулся такой знакомой, бесконечно родной улыбкой, что у Марии Александровны невольно вырвалось:
– Саша! Сынок…
– Мама! Родная моя, – ласково говорит Саша, обнимая узкие худенькие плечи матери. – Я так хотел видеть тебя… Я так виноват перед тобой… Я столько горя причинил тебе… Прости меня…
– Полно, Сашенька, – улыбаясь сквозь слезы, говорила Мария Александровна, – полно… Я только не могу понять, как ты мог решиться на такое? Или тебя ложно обвиняют?
– Нет, мама, – сразу посуровев, сказал Саша. – Я принимал участие в покушении. Я и должен отвечать. И я готов к этому, – продолжал он с такой решимостью умереть, но твердо стоять на своем, что Марии Александровне стало страшно за него. – Я понимаю, что доставляю много страданий и тебе и Володе, об Ане я уже и не говорю: я непоправимо виноват перед нею! Я над этим много и мучительно думал. Но… я не мог поступить иначе. Кроме долга перед тобой, перед всей семьей у меня, мама, есть долг перед родиной. А родина моя стонет под таким игом деспотизма, что я, поверь мне, не мог оставаться равнодушным.
– Да, но эти средства так ужасны.
– Что же делать, мама, если других нет! Пойми ты только одно: не бороться я не мог. Я не мог равнодушно взирать на страдания народа: это выше моих сил!
– Саша, но как же другие?
– Не знаю. Они, видимо, как-то по-иному устроены А у меня все сердце истлело от боли. Мне эта ужасная, рабская жизнь стала в тягость! Я, мама, тупел от необходимости постоянно следить за каждой своей мыслью, за каждым искренним, непроизвольным движением души. Зачем же мне дан ум, совесть, зачем мне дана способность отличать добро от зла, правду от лжи, если мне не дано права жить так, как я считаю нужным и справедливым? Нет, мама, я на что угодно согласен, только не на это!
– Время истекает! – напомнил надзиратель.
– Еще одну минуту, – взмолилась Мария Александровна, вспомнив, что о главном она еще и не поговорила, – Сашенька, Матвей Леонтьевич нашел хорошего адвоката… Он настоятельно советует тебе взять его защитником. Запомни его фамилию…
– Мама, я благодарен Матвею Леонтьевичу за участие, но… я не могу воспользоваться его предложением.
– Почему же? Тебе советуют другого человека?
– Нет. Дело в том… Я вообще отказываюсь от защитника.
– Саша! – вскрикнула пораженная Мария Александровна. – Не делай этого! Это может погубить тебя.
Саше очень хотелось сказать, что судьба его, как и всех других участников заговора, давно уже предрешена и комедия суда ничего изменить не может, но ему не хотелось заранее расстраивать мать; ей предстоит много еще испытаний выдержать, а это только подорвет силы. Он сказал:
– Лучше меня, мама, никто не знает, что определяло мои поступки. А раз так, то, значит, один я смогу наиболее вразумительно и рассказать об этом. Есть и другая сторона дела: отказ от защитника даст мне возможность изложить те идейные мотивы, которыми мы руководствовались…
– Время кончилось! Прошу, сударыня!..
Так Мария Александровна и ушла, не уговорив Сашу взять защитника.
Песковский, узнав об этом, раздраженно сказал:
– Это безумие! Он, поверьте мне, сам себе надевает петлю на шею!
– Но что же делать? Я очень просила его…
– А следовало потребовать! Да, да, потребовать! Нет, я просто ума не приложу: что с ним случилось? В своем ли он рассудке? Ведь он же не может не понимать, как пагубно его поступки отразятся на всей семье. На всех родственниках!
– Он понимает это.
– И что же? – Мария Александровна только вздохнула в ответ. – Нет, – продолжал Песковский, – мне самому нужно поговорить с ним. Я сегодня же подам заявление…
Матвей Песковский просто не в состоянии был понять, как человек, попав, по сути дела, в петлю, не делает все возможное для того, чтобы выбраться из нее. И вообще как он мог отважиться на такой безумный поступок? При любом исходе дела он шел на явную гибель! Зачем? Ради чего? Ведь его ждала карьера ученого. Со своим умом, со своим талантом, со своей феноменальной трудоспособностью он стал бы всему миру известным ученым. Нет, с ним что-то неладное стряслось…
«Зная прошлое Ульянова, – пишет в своем заявлении в департамент полиции Песковский, – трудно не заподозрить нормальность умственных его способностей– так резка несообразность в том, чем был Ульянов и чем он оказался по делу 1 марта. Человек может скрытничать, притворяться, но быть окончательно не самим собой – это уж слишком непонятно». Да, для Песковского, человека глубоко мещанского склада, совершенно равнодушного к судьбе обездоленного народа, поведение Александра Ильича было загадкой.
3
– Встать! Суд идет!
Немногочисленная публика, состоящая из высокопоставленных чиновников, и подсудимые встали со своих мест; одна из боковых дверей распахнулась, и к столу председателя гуськом потянулись, соблюдая ранги, судьи. Впереди – первоприсутствующий сенатор Дейер; члены суда, сенаторы: Лего, Бартенев, Янг и Окулов; сословные представители: тамбовский губернский предводитель дворянства Кондоиди, петербургский уездный предводитель дворянства Зейферт, московский городской голова Алексеев и котельский волостной старшина Егор Васильев; обер-прокурор Неклюдов, товарищ обер-прокурора Смирнов и обер-секретарь сената Ходнев.
За столом экспертизы – генерал-майор Федоров, неизменный эксперт почти на всех процессах террористов. Торопливо проходят к своим местам защитники. По одному их унылому, равнодушному виду легко заключить: пришли они отбывать служебную повинность.
Проверив списки свидетелей, Дейер предлагает подсудимым встать и принимается читать обвинительный акт. Читает он нудным голосом, сбивается. Все подсудимые знакомы уже с обвинительным актом, и никто его не слушает, пользуясь случаем, они тихо переговариваются. Дейер строго косится на них поверх очков.
Все обвинение было построено на показаниях Канчера и Горкуна. Слушая плоды трусости своей и малодушия, предатели – им никто не подал руки, когда встретились в зале суда, – стояли, опустив головы, боясь взглянуть в глаза товарищам. Высокий, плечистый детина Горкун был весь какой-то потрепанный: спутанные волосы свисали на лоб, ворот расстегнут, лицо жалко сморщенное. Стоял точно в воду опущенный и Канчер, повесив тонкий длинный нос. Продолговатое, с мелкими чертами лицо его горело, он то и дело вытирал рукавом испарину со лба.
– Добре потрудились, – громко заметил Генералов, когда председатель закончил чтение всего того, что показали Горкун и Канчер.
– «На основании изложенных обстоятельств, – гнусаво вещал Дейер, – установленных дознанием, обвиняются поименованные выше: 1) Василий Осипанов, Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Михаил Канчер, Петр Горкун, Степан Волохов, Петр Шевырев, Александр Ульянов, Иосиф Лукашевич, Михаил Новорусский, Мария Ананьина, Раиса Шмидова, Бронислав Пилсудский и Тит Пашковский – в том, что, принадлежа к преступному сообществу, именующему себя террористической фракцией партии «Народной воли», и действуя для достижения его целей, согласились между собой посягнуть на жизнь священной особы государя императора и для приведения сего злоумышления в исполнение изготовили разрывные метательные снаряды, вооружившись которыми некоторые из соучастников, с целью бросить означенные снаряды под экипаж государя императора, неоднократно выходили на Невский проспект, где, не успев привести злодеяние в исполнение, были задержаны 1 марта сего 1887 года, и 2) Анна Сердюкова – в том, что узнав о задуманном посягательстве на жизнь священной особы государя императора от одного из участников злоумышления и имея возможность заблаговременно довести о сем до сведения власти, не исполнила этой обязанности…»
– Фу-у… – вздохнул Генералов. – Ему бы покойников отпевать.
– Господин судебный пристав! Потрудитесь удалить подсудимых! – приказал Дейер, закончив чтение обвинительного акта.
Первым Дейер вызвал Канчера. Канчер, увидев, что товарищей нет, приободрился. В подобострастной позе его – он стоял не мигая, чуть приподнявшись даже на цыпочках, – в покаянном выражении лица была готовность продать всех, только бы спасти свою шкуру. Генерал Федоров, глянув на него, потер кулаком бороду и сердито откашлялся, точно хотел сказать: стыдно, молодой человек! Признание признанием, но себя-то нужно хоть немного уважать.
– Канчер, вас обвиняют в том, – строго хмурясь, начал Дейер, – что вы принадлежите к тайному обществу, которое имеет целью ниспровергнуть существующий общественный строй, и для достижения этой цели вместе с другими лицами покусились на жизнь священной особы государя императора. Признаете себя в этом виновным?
– Признаю, – прерывающимся голосом ответил Канчер и взмолился: – Но я прошу милостиво выслушать, при каких обстоятельствах я попал совершенно случайно в это общество…
– Прежде нежели рассказывать об этих обстоятельствах, – остановил его Дейер, – я предложу несколько вопросов… Отец ваш надворный советник?
– Да.
– Следовательно, он состоит на службе?
– Да, почтмейстером… Причину, почему я сделался таким тяжким преступником, – не ожидая вопроса председателя, спешит с объяснением Канчер, – я нахожу в действительности, что это есть Шевырев… Зная, какое мне будет наказание, я считаю своею священною обязанностью высказать правду… – Торопливо, боясь, что его остановят, он рассказывает о поездке в Вильно, о том, как Шевырев принудил его стать сигнальщиком. – Я был в таком положении, что если я не соглашусь, – продолжал он со слезой в голосе, – значит меня сочтут за шпиона, это будет известно между студентами, все будут бегать и так смотреть на меня… Тут мою душу покоробило, и хотя я отказался, но не наотрез, именно благодаря своему характеру и еще потому, что я был уже увлечен, опутан… Я отправился на Невский, но, чувствуя, что в этот день, 1 марта, день, в который, как мне казалось, государь должен был выехать, я уклонился и пошел к Николаевскому вокзалу, и потом, когда шел назад, то был задержан.
– Значит, – остановил Дейер Канчера, – сказали Шевыреву, что никаким целям общества не сочувствуете?
– Я сказал, что таких убеждений не разделяю, – с готовностью подтвердил Канчер, не заметив ловушки.
– Каких же убеждений, – с ехидцей спрашивает Дейер, – когда вы их еще не знали?
– Да как же идти убивать государя?.. – лепечет Канчер, поняв, что перестарался.
– Но ведь это только голый факт, который находится в связи с убеждениями Шевырева? – продолжает допытывать растерянно потупившегося Канчера Дейер. – Как же вы могли сказать, что не разделяете его убеждений, когда вы их не знаете?
– Когда он сделал мне такое предложение принять роль разведчика, то, очевидно, у меня выходила мысль, что я имею дело с человеком, который причастен к тайному обществу или к чему-нибудь нелегальному, а, конечно, всякий из русских знает, что есть такие общества, – делает он неуклюжую попытку выпутаться из ловушки.
– Но если вы обнаружили это из его предложения, – продолжает Дейер, хитро щурясь, – то что же не сказали ему, что вы ошиблись в нем, что он делает несвойственные с вашими понятиями предложения?
– Он торопился и не дал мне высказаться… – после продолжительной паузы еле слышно промямлил Канчер. – Он меня запутал и узнал мой характер, что я не склонен пойти и донести…
Канчеру, этому мелко-тщеславному сыну почтмейстера, нравилась поза героя, страдающего за народ. И пока опасность была далека, тщеславие заглушало страх. Но как только впереди вместо гранитного пьедестала он увидел петлю виселицы, он забыл обо всем, кроме одного: спастись. Теперь уж он не боялся не только роли шпиона, но и прямого предателя!
4
Остановившись у стола, Александр Ильич спокойно, в упор посмотрел Дейеру в глаза. Тот, не выдержав его взгляда, глянул в бумаги и, листая их, спросил, признает ли он себя виновным. Александр Ильич спокойно ответил:
– Да, я себя признаю виновным.
Дейер оторвался от бумаг с намерением что-то спросить, но встретил устремленные на него черные, глубокие глаза, полные гордого спокойствия и сознания правоты своей, снял очки, протер их и, забыв задать традиционные вопросы, сказал, как бы уточняя известное ему:
– Вы были в Петербургском университете?
– Да, был.
– Уже на четвертом курсе?
– Да.
– Несмотря на ваши молодые годы?
– Да, я был на четвертом курсе, – с ударением на слове «четвертом» ответил Александр Ильич, продолжая все так же в упор смотреть на Дейера.
– Значит, вы в Петербурге уже четыре года?
– Да.
– Что же вы, все четыре года старались навербовать себе сообщников или первые годы провели в учении?
– Я все четыре года, – выдержав паузу, не сказал, а отчеканил Александр Ильич, – занимался теми науками, для которых поступил в университет…
– Почему Говорухин уехал?
– Вследствие того, что был причастен к этому делу.
– Ведь и вы были причастны, но, однако же, не уехали за границу?
– Это уже дело его.
– Какое же было основание вам и другим лицам, принимавшим в этом участие, здесь оставаться, а ему уехать?
Александр Ильич нахмурился и ничего не ответил. Дейер продолжал:
– Как же вы позволили ему уехать? Ведь он был вашим соучастником? Он оставлял вас здесь, а сам спасался?
– Он нас не оставлял, – тоном, каким втолковывают тупому человеку элементарную истину, отвечал Александр Ильич, – мы оставались сами.
Члены суда возмущенно задвигались. Дейер потянулся рукой к колокольчику и отдернул ее, точно за горячее схватился. Александр Ильич еле приметно улыбнулся.
Лукашевич и Шевырев, узнав, что Говорухин благополучно скрылся за границу, многое валили на него. Александр Ильич не прибег ко лжи ни разу. Дейер спрашивает его:
– Вы видели образцы подобных метательных снарядов? Как вы научились их делать?
– Мне одно лицо давало указание.
– Это Говорухин? – быстро подсказывает Дейер.
– Нет, – отвечает Александр Ильич.
Дейер, видимо, для того, чтобы усыпить бдительность Ульянова, задает два ничего не значащих вопроса: были ли Говорухин и Шевырев с ним на одном факультете, – и опять круто возвращает разговор к прерванной теме:
– Лицо, которое давало вам указание, практиковалось в изготовлении таких снарядов?
– Не знаю, – отвечает Александр Ильич и, помолчав, добавляет: – Но вообще я считал его за человека, умеющего производить химические операции.
Так председателю суда и не удалось узнать, что изготовлением снарядов занимался Лукашевич. «Я послал этого человека», «Мне давало указания одно лицо», а кто именно, Александр Ильич отказывался называть. Весь его поединок с председателем суда и прокурором (Неклюдов тоже задавал вопросы, пытаясь сбить и запутать его, но ничего из этого не вышло) поражает необыкновенной твердостью, смелостью и искренностью. Директор департамента полиции. П. Дурново в донесении министру внутренних дел пишет, что Ульянов давал показания, «сохраняя свое обычное спокойствие».
В другом донесении П. Дурново пишет: «Подсудимый Ульянов, не имеющий защитника, предлагал эксперту вопросы, свидетельствующие о его солидных познаниях в химии, причем все вопросы Ульянова клонились к желанию доказать, что Новорусский и Ананьина не могли «по запаху» обратить внимание на его работы по приготовлению нитроглицерина; эксперт утверждал, что приготовление нитроглицерина сопровождается запахом, которого нельзя не заметить; наоборот, Ульянов старался убедить генерала Федорова, что избранный им особый способ приготовления нитроглицерина почти совсем не вызывает запаха».
Дурново, видимо спасая честь мундира генерала Федорова, изложил поединок Александра Ильича с экспертом не совсем точно. Вот этот короткий разговор:
– Вы говорите, что приготовление нитроглицерина сопровождается сильным удушливым запахом? Но это относится лишь к некоторым способам, а не ко всем; при том способе, каким я приготовлял, запаха вовсе не будет.
– Все-таки запах будет. Есть, впрочем, способ, – отступает генерал после того, как Александр Ильич перечислил несколько формул приготовления нитроглицерина, – при котором не бывает запаха…
В разговор включается прокурор, желая спасти положение.
– Нельзя ли определить, каким способом был выработан нитроглицерин в данном случае? – спрашивает он.
– Этого нельзя сказать, – после заминки отвечает генерал.
Александр Ильич, таким образом, добился поставленной цели: доказал, что Ананьина и Новорусский не могли по запаху определить, что он занимается приготовлением нитроглицерина. Уличил он во лжи и парголовского урядника Беланова, который по подсказке охранки вдруг начал утверждать на суде (на следствии он этого не говорил), с трудом выговаривая мудреное слово «химия», будто Ананьина сказала ему, что учитель Ульянов дает ее сыну уроки химии.
– Не употребляла ли она выражения, – спрашивает Александр Ильич, – что он «занимается» химией?
– Вот это могло быть, что «занимается», – отвечает урядник, явно не понимая, какая разница между «занимается» химией и «дает уроки», – но я понял, что он занимается с сыном.
– Вы не утверждаете, было ли сказано «занимается», – настаивает Александр Ильич, – или «дает уроки»?
– Этого не могу сказать, – растерянно признается Беланов, снимая тем самым еще одно обвинение против Ананьиной.
5
– Свидетель Чеботарев! К присяге!
Переступив порог зала суда, Чеботарев глянул в сторону подсудимых. Александр Ильич сидел на левом краю передней скамейки, высоко подняв курчавую голову. В позе его не чувствовалось никакого напряжения, и казалось: он сидит не на скамье подсудимых, а в аудитории и внимательно слушает лекцию. Генералов наклонился и что-то шепнул ему, он в ответ еле приметно кивнул головой; Шевырев беспокойно оглянулся и заерзал на скамейке. Лукашевич – он был на голову выше всех – задвигал плечами, еще больше ссутулясь: он, видимо, очень неловко чувствовал себя от того, что высоким ростом постоянно обращал на себя внимание, оказываясь тем самым как бы в центре группы. Шмидова привычным жестом поправила пышную прическу и вся как-то подобралась, насторожилась.
Дейер, устало помигивая глубоко запавшими глазами, посмотрел на Чеботарева, на скамью подсудимых и, пододвинув зачем-то поближе звонок, начал задавать вопросы. На его широком рыхлом лице с обвисшими щеками отражалось сонливое равнодушие.
– Что вам известно об общей вашей жизни с Ульяновым?
– Осенью прошлого года мы решили поселиться вместе, потому что находили для себя более удобным жить на отдельной квартире. Мы и раньше были знакомы, – помолчав, добавил Чеботарев, так как Дейер, помигивая, смотрел и ждал, что он еще скажет, – поселились вместе, кажется, в октябре или сентябре и жили до половины января.
Наступило продолжительное молчание. Дейер нахмурился: он не получил ответа на свой вопрос. Чеботарев, уловив момент, когда Дейер наклонился к бумагам, кинул быстрый взгляд на Александра Ильича. Тот прикрыл глаза: так, мол, и держись. Старый, хитрый, как лиса, Дейер тоже глянул на Ульянова, но у Александра Ильича даже мускул не дрогнул на лице.
– Вам известны были посетители Ульянова? – строго и даже с оттенком угрозы в голосе спросил Дейер.
– Я лично знаком с Шевыревым и Шмидовой.
Опять наступила продолжительная пауза. Дейер откашлялся, грозно нахмурился, вытер платком слезящиеся глаза, продолжал, с трудом сдерживая раздражение:
– А больше никого не знали?
– Видел два раза Лукашевича.
От этого вытягивания ответов истощилось терпение Дейера. Он схватил звонок, стукнул им по столу, крикнул:
– Осипанова, Генералова, Андреюшкина, Канчера?
Генералов все время шептался с Осипановым, видимо комментируя поведение Дейера, так как Осипанов с трудом сдерживал улыбку. Услышав свою фамилию, он глянул на Чеботарева, потом перевел глаза на Дейера и быстро замигал, передразнивая грозного председателя. Дейер, заметив это, потянулся к колокольчику, но, поняв, что повода к замечанию нет, оттолкнул его так, что тот чуть не слетел со стола. Чеботарев выдавил:
– Генералова лицо мне знакомо…
– А Шевырев часто бывал у Ульянова?
– Нет, очень редко.
Александр Ильич, воспользовавшись заминкой, встал и попросил разрешения задать вопрос Чеботареву. Дейер настороженно выпрямился, глянул на членов суда, как бы обращаясь за помощью к ним. Александр Ильич следил за ним с таким спокойно-сосредоточенным видом, что тот не мог ему отказать.
– Видели ли вы у меня Новорусского» Ананьину? – повернувшись к Чеботареву, спросил Александр Ильич.
Чеботарев понял: Александр Ильич хочет выгородить Новорусского и Ананьину – и поспешно ответил:
– Никогда, положительно!
– Как же вы утверждаете, что Новорусский никогда не бывал, не зная его в лицо? – с ехидной улыбочкой спросил Неклюдов. – Где он сидит?
– Третьим.
– Почему вы его знаете? – быстро продолжал Неклюдов: он уже радовался, что поймал Чеботарева на лжи.
– Его показывали мне свидетели.
– Кто же это показывал? – грозно спросил Дейер, окидывая взглядом зал.
– Пристав Сакс.
Поняв, что от Чеботарева не только ничего не добьешься, а он может своими показаниями только выгородить подсудимых, Дейер велел ему сесть.
Чеботарев слушал Александра Ильича и поражался тому, как продуманны и точны его вопросы. И что самое удивительное: ни один из них не был направлен на то, чтобы снять в чем-то вину с себя. Он заботился только о других. Спокойствие, гордое чувство собственного достоинства и смелость ободряюще действовали на его товарищей. Когда он говорил, они с каким-то особым вниманием слушали и выше поднимали головы.
6
Свидетелями обвинения выступали агенты охранки, околоточные надзиратели, городовые, дворники. Всех их муштровали, что надо говорить, но толку от этого было мало. Верные слуги царевы так путались и сбивались, что Ульянов, Андреюшкин, Генералов и другие подсудимые нередко ставили их в тупик своими вопросами. Многие свидетели просто уклонялись от ответов на вопросы.
– Бывала Шмидова у Ульянова? – спрашивает прокурор Неклюдов дворника Матюхина.
– Бывала, – с трудом выдавливает тот.
– Сколько же раз, припомните хорошенько, – требует Неклюдов, видя, что Матюхин без особого рвения «припоминает», – и с кем она приходила?
Матюхин мнет фуражку, переступает с ноги на ногу, поднимает глаза к потолку и, наконец, говорит со вздохом:
– Не могу припомнить.
Прокурор досадливо морщится, что-то быстро записывает в свои талмуды, а Матюхин, виновато опустив лохматую голову, двигает плечом так, точно у него меж лопаток чешется. Допрос опять продолжает Дейер. Звякнув колокольчиком – Матюхин вскинул голову и, не мигая, уставился на него, – строго спрашивает:
– Кто еще бывал у Ульянова?
– Этого не могу знать.
Хозяин квартиры саксонский подданный Пауль-Гуго-Арно Флюгель на вопрос, кто ходил к Ульянову, отвечает, коверкая слова:
– Один молодой девушк; кажитца, его знаком, но наверной сказайт не могу.
– Которая, как ее фамилия? – допытывался Дейер.
– Не знайт я…
– Чем занимался Ульянов, когда жил у вас?
– Не знайт, – повторяет он.
После некоторого замешательства задает вопрос прокурор Неклюдов:
– Я бы просил с точностью указать, которая ходила к Ульянову?
Пауль-Гуго-Арно поворачивается к скамье подсудимых, окидывает всех взглядом, говорит:
– Сердюков.
– Хо-хо-хо, – схватившись за голову, громко рассмеялся Генералов, – попал пальцем в небо!
– Генералов! – затрещав колокольчиком, крикнул Дейер. – Я вам делаю второе замечание! Еще раз позволите себе подобную выходку, и прикажу удалить из зала заседания! Свидетель! Вполне ли вы уверены, что к Ульянову приходила Сердюкова?
– Я не мог утверждайт это.
Другие свидетели тоже не очень-то радовали председателя. Вот он спрашивает крестьянина Курникова, отвозившего Ананьину в город: знает ли он в лицо того молодого человека, который ехал вместе с акушеркой?
– Черноватый, – неопределенно отвечает Курников.
– Нет ли его тут?
– Не могу знать.
– Посмотрите! – кричит вышедший из терпения Дейер. – Как же вы говорите, не посмотревши!
Курников испуганно поворачивается к подсудимым, долго, с открытым состраданием смотрит на них, выдавливает с тяжким вздохом:
– Не могу, ваше превосходительство…
– А этого признаете? – указывает пальцем Дейер на Ульянова.
Александр Ильич встает, встречается взглядом с Курниковым. Саша видит, что Курников узнал его. И судьи и подсудимые – все настороженно замирают. Курников опускает голову, отвечает:
– Не могу, он был закрыт воротником.
– В какой одежде он был?
– Вроде тулупчика, – тянет, морща лоб и как бы с трудом припоминая, Курников, – шапка вроде барашковой.
– В руках ничего не было?







