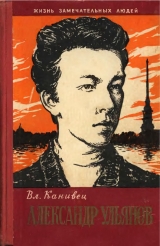
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Государь покидает Аничков. после того, как негодяи были отведены в участок, и, только прибыв к брату в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он чудом избежал… Если бы запоздание не имело места, государь проезжал бы в нескольких шагах от них».
Наследник престола, будущий император Николай II записал в дневнике:
«1 марта. Воскресенье. Гатчино.
Проснулся в 7 ч. После кофе читали. Надев Преображенский мундир, поехал с папа в крепость. В это время могло произойти нечто ужасное, но, по милости божьей, все обошлось благополучно: пятеро мерзавцев с динамитными снарядами было арестовано около Аничкова! После завтрака у дяди Пица поехали на железную дорогу и там узнали об этом от папа… О! Боже! Какое счастье, что это миновало! Приехали в милое Гатчино в ½ четвертого и стали разбирать книги и вещи. Пили чай и обедали с дорогими папа и мама».
Провидение ли спасло Александра III, или нерадивый ездовой, трудно судить. Но одно ясно из этих дневников: агентов полиции за то, что они «не дремлют и действуют успешно», благодарил он с перепугу. Агенты, как отмечает в этом же дневнике и Арапова, «были далеки от допущения мысли, что их поднадзорные ходят с бомбами». С 26 февраля по 1 марта метальщики выходили на Невский, и полиция их не трогала, не зная, что они затевают. Это в то время, когда у них было письмо Андреюшкина!
Александр III так был напуган арестом заговорщиков, что тут же умчался в «милое Гатчино» со всей своей августейшей семьей и даже из дворца не показывался. Из Гатчино в Петербург и обратно неслись один курьер за другим: царь требовал докладывать ему о ходе дознания.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1
– Раздеться! – командовал жандарм. – Все! Все снять! Три шага в сторону. Нет, не сюда, а туда, – ткнув в угол камеры пальцем, продолжал он. – Стой! Начинайте!
Двое тюремщиков с ловкостью карманщиков обшарили всю одежду Саши, заглянули в рот, в ноздри, ощупали волосы и отступили в стороны с видом людей, исполнивших свой долг. После унизительной процедуры обыска к ногам Саши бросили крепостное белье, коты и халат.
– Одеваться!
Вся орава тюремщиков следила за тем, как Саша напяливал арестантское одеяние, и только после этого удалилась. Тяжелая, окованная железом дверь глухо стукнула, звякнул замок. Саша окинул взглядом камеру. Сводчатый потолок, черный от копоти, пол покрыт асфальтом. Окно маленькое, под самым потолком, стекла закрашены. Двойная железная решетка. Железная кровать, привинченная к стене, поднята и заперта на замок. Массивный дубовый столик – он тоже наглухо укреплен, – на нем грязная керосиновая лампа с черным от копоти стеклом; в углу – параша. Из крана тонкой струйкой сочится вода, нарушая гробовую тишину. Первым движением Саши было прикрыть кран, но ему это не удалось сделать: вода продолжала сочиться.
Подойдя к двери, Саша увидел, что в ней прорезано квадратное отверстие, в которое, видимо, подавали пищу. Выше – застекленный продолговатый глазок, через который часовому, шагающему по коридору, видно все, что делается в камере. Часовой уже несколько раз успел совершенно бесшумно подойти к двери и заглянуть. Осмотрев дверь, Саша принялся шагать по камере. Большие коты спадали с ног, шлепали по асфальтовому полу. От грубого полного костры белья неприятно чесалось все тело. Когда стоишь, то костра не так впивается в тело, но тогда гнетет, странно давит какая-то каменная тишина.
Всю первую ночь в крепости Саша глаз не сомкнул. И в постель не лег, хотя надзиратель, явившийся в камеру в сопровождении двух часовых, и открыл замок кровати. Он шагал из угла в угол и думал: «Что же произошло? Кто еще арестован, кроме Канчера? Удалось ли бросить бомбы под экипаж царя? Что сталось с Осипановым, Генераловым, Андреюшкиным? Что полиция знает о нем? Почему его привезли прямо в крепость? Ведь на квартире они ничего не могли найти такого, что указывало бы на его участие в заговоре». Он еще и еще раз продумывал каждый свой шаг в последние дни. Нет, он сам ничего не мог дать полиции в руки! Значит, его взяли только потому, что он попал в засаду.
В ночь со 2 на 3 марта Сашу поднял надзиратель, приказал собираться. Вошел офицер с двумя конвойными жандармами, и процессия двинулась по темному коридору крепости: офицер впереди, жандармы по бокам, надзиратель сзади. Во дворе, хотя Саша и не сопротивлялся, жандармы подхватили его под руки и толкнули в стоявшую у самого выхода карету. Жандармы сели по бокам, офицер напротив, кони рысью хватили с места, и карета загрохотала. Окна кареты были плотно закрыты, и Саша не мог определить, куда его везут. По мрачному виду офицера и жандармов, следивших за каждым его движением, он заключил: они на него смотрят как на важного преступника. Им, видимо, приказано соблюдать всяческие предосторожности, потому что малейшее движение его вызывало у них беспокойство. Саша хотел спросить офицера, куда его везут, но не стал этого делать: все равно ведь не скажет.
Вот карета остановилась, заскрипели ворота. Карета опять двинулась, но тут же остановилась. Офицер открыл дверку, вылез, приказал:
– Выводи!
Увидев, что он опять во дворе департамента полиции, Саша понял: будет допрос. Его провели какими-то закоулками, соблюдая ту же строгость, что и в крепости. Поднялись на второй этаж. На первой двери он прочел надпись: «Канцелярия для производства дел о преступлениях государственных». Офицер открыл эту дверь, и Саша меж двух жандармов вошел в коридор одной из губерний царства Дурново. Из комнаты в комнату со страшно озабоченными лицами носились офицеры и чиновники. Но как они ни спешили, ни один из них не прошел мимо Саши, чтобы пристально, с каким-то наглым любопытством не осмотреть его. В огромной комнате, куда Сашу завел офицер, было четверо; жандармский офицер и три чиновника. Офицер стоял за столом, один чиновник восседал в мягком кресле у его стола, а два других, чинами пониже, сидели в сторонке, сонно помигивая красными глазами. Перед ними лежали листы чистой бумаги, ручки. Офицер любезно пригласил Ульянова сесть, представился – ротмистр отдельного корпуса жандармов Лютов.
– Мне приказано, – продолжал торжественно он, – на основании закона от 19 мая 1871 года в присутствии товарища Санкт-Петербургской судебной палаты господина Котляревского, – он показал на чиновника, развалившегося в кресле, – и двух понятых писарей Хмелинского и Иванова произвести допрос.
После стандартных вопросов протокола: звание, занятие, экономическое положение родителей, привлекался ли раньше к дознаниям и чем они окончены, спросил:
– А теперь расскажите, какое участие вы принимали в подготовке покушения на священную особу государя императора.
– Еще что прикажете? – спокойно вопросом на вопрос ответил Саша.
– Я попрошу вас запомнить: здесь спрашиваю я! – вспылил ротмистр, звякнув медалями, украшавшими его грудь.
– А я попрошу вас вспомнить, что я не писарь вашей канцелярии, – так же спокойно, ни на одну нотку не повысив голоса, ответил Саша.
– Одну минуту, господин ротмистр, – приподняв руку, остановил его Котляревский. – Позвольте мне задать господину Ульянову несколько вопросов. Сколько метательных снарядов было изготовлено на вашей квартире?
– Я не желаю отвечать.
– Кто был руководителем и организатором вашей группы? – продолжал Котляревский таким тоном, точно Саша вполне удовлетворительно ответил на его первый вопрос.
– Я не желаю…
– Хорошо! – грубо оборвал Сашу на полуслове Котляревский. – Скажите тогда, какое участие вы принимали в подготовке покушения на государя императора. Вы знали, кто изготовлял снаряды? Вы знали, кто должен был их бросать? Учтите, у нас есть верные данные о вашем участии в этом злодеянии!
Ваше запирательство только усугубит вину, чего я вам лично не желал бы. Итак, я жду ответа!
– Напрасно, господин прокурор, потратите время.
– Вот как? Хорошо! – он открыл ящик стола, достал бумагу и положил ее перед Сашей. – Прочтите тогда это!
Саша пробежал глазами первые строки, и сердце его глухо застучало: Канчер – предатель! Подробно, унизительно-покаянно он выдавал полиции все, что знал. Как он пришел к нему, Ульянову, на квартиру и застал там его с, Лукашевичем за набивкой бомб динамитом, как он потом отнес их с Волоховым к Генералову и Андреюшкину… Все эти и другие факты были изложены с такими подробностями, которые мог знать только осведомленный человек.
– Что вы теперь скажете? – злорадно, тоном победителя спросил Котляревский, подвигаясь к Саше и налегая на стол.
Саша, вернув протокол, спросил:
– Что вы мне дадите еще прочесть?
– Пока все.
– Благодарю вас.
– Господин Ульянов! – нервно подергивая всем лицом, начал Котляревский. – Вы вынуждаете меня напомнить вам, что у нас есть средства заставить вас говорить! Тех, кто отказывался давать нам показания, мы вздергивали на дыбу, вытягивали жилы, кормили селедкой и не давали пить…
– Не знаю, как на вас, господин прокурор, но на меня подобные страхи не производят – вы это видите – особого впечатления. Я предпочту остаться без жил, чем говорить то, что кому-то хочется от меня услышать.
Как ни бился, как ни грозил пытками Котляревский, стараясь вытянуть, из Ульянова хоть какое-то признание, ничего у него не вышло. Он понял, что перед ним сильный противник, и изменил тактику. Он решил взять его лестью и обещаниями, что если он, Ульянов, чистосердечно расскажет все, то он избежит наказания, избавит от преследования многих людей. Котляревский прямо не сказал, но довольно прозрачно намекнул, что пострадает в первую голову вся его семья. Этим он ударил по самому больному месту Саши, но тот не дрогнул: и мама и Володя, как бы нм ни было трудно, все смогут простить ему, но только не предательство.
За три с половиной часа допроса в протоколе появилась такая запись: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».
И все. Когда Ульянова увели, прокурор Котляревский сказал:
– Удивительное самообладание! По-моему, это вот и есть организатор всего дела. С таким умом и силой воли человек просто не может быть на вторых ролях.
Канчер и Горкун, а затем к ним присоединился и Волохов, называли все новые фамилии и адреса. Охранка кинулась разыскивать Новорусского, Говорухина, Шевырева. Директор департамента полиции Дурново шлет грозные шифрованные телеграммы в Ялту, Симферополь, Севастополь, Одессу. «Шевырева следует разыскать, – гласит телеграмма в Ялту, – во что бы то ни стало, для чего вы имеете действовать, не стесняясь средствами». В Симферополь он отправляет совсем уж истеричную шифровку: «Необходимо перевернуть вверх дном город и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать его».
Дни идут, а с мест, кроме запросов о приметах Шевырева и сообщений о безрезультатных поисках, ничего нет. Директор департамента полиции места себе не находит. Он строчит одну телеграмму за другой. Да и есть от чего волноваться. По показаниям Канчера. Шевырев – зачинщик и глава всего дела. Из Гатчино один за другим мчатся курьеры с запросами: арестован ли Шевырев. Царь боится ^нос показать из своего гатчинского дворца: он не уверен, что все бомбисты арестованы. Дурново запрашивает о времени отплытия пароходов за границу, полагая, видимо, что Шевырев последовал примеру Говору-хина. Он вызывает Канчера, грозит ему всяческими карами, требуя сознаться, куда же скрылся Шевырев. Канчер клянется, что он уехал не за границу, а в Крым.
– Куда? Куда именно? – стучит маленьким пухлым кулачком Дурново по столу. – Куда?
– Не знаю…
– Лжете!
– Ваше превосходительство… Клянусь жизнью, он мне сказал, что едет лечиться в Крым…
2
В столовой, куда зашел Лукашевич, уже знали, что Канчер арестован и на его квартире засада. Вечером 2 марта Лукашевич еще раз просмотрел все свои бумаги и лег спать. Но сон не шел к нему. Он понимал, что охранка может, распутывая клубок знакомств арестованных, забрать и его. О возможности предательства он не думал, а других веских улик против него полиция не могла выставить, и если она его арестует только по подозрению, рассчитывал он, то все равно выпустит. Кое-кто из знакомых советовал ему уехать за границу или же перейти на нелегальное положение. Паническое бегство при абсолютном незнании, грозит ли ему опасность, поставило бы его в очень тяжелое положение, если дело обернется так, что его фамилия не будет даже названа. Перейти на нелегальное положение он не мог из-за своего огромного роста: его бы опознал любой городовой.
В два часа ночи Лукашевича разбудил настойчивый звонок. Он понял: за ним пришли. Он подошел к двери и услышал смущенный голос дворника:
– Телеграмма…
Как только он открыл дверь, в комнату ввалилась ватага полицейских и понятых. Вытерев красное, вспотевшее лицо платком, пристав объявил, что ему приказано сделать обыск. Наблюдая за тем, как полицейские шарят по квартире, Лукашевич заключил: обыск поверхностный. А это значит, что у полиции нет серьезных улик против него.
Порывшись в бумагах, пристав спросил:
– А где вы храните переписку?
– Я не люблю давать посторонним читать свои письма и потому уничтожаю их.
– Гм… А с чем эти банки? – осматривая химическую лабораторию, продолжал пристав.
– Это реагенты для химического анализа.
Заметив, что пристав начал откладывать в свой сундучок учебные книги, Лукашевич спросил, когда тот забрал «Историю материализма» Ланге:
– Что это значит? Ведь все эти книги разрешены цензурой.
– Видите ли, у меня есть секретное предписание, – понизив голос, сказал пристав, – забрать у вас «все книги по химии, а поэтому я должен взять этого Ланге…
Обыск ничего не дал, но Лукашевича все-таки арестовали. Когда пришли в участок, пристав приказал одному околоточному:
– Насчет Белоусова скажите, что на Малой Итальянской в доме 51 такого артиста вовсе не оказалось.
Лукашевич насторожился: это был адрес квартиры, где недавно жил Новорусский. Как полиции стало известно и о его причастии к заговору? Ведь он оказал группе только одну услугу – позволил Ульянову на своей даче в Парголове изготовить динамит. Неужели и Ульянов арестован? И каким образом полиции удалось проследить эту связь? Ведь Новорусский, кандидат духовной семинарии, был вне всяких подозрений.
Из участка в сопровождении одного городового – это говорило тоже о том, что его аресту не придается особое значение, – Лукашевича повезли на улицу Гороховую, в охранное отделение.
Лукашевича несколько раз переводили из одного помещения в другое, на него никто не обращал внимания. В одной небольшой комнате сидели жандармский офицер и чиновник. Перед чиновником лежала записная книжка, и он делал какие-то вычисления, расшифровывая, видимо, конспиративное письмо. В комнаты входили и выходили офицеры и чиновники. Молодой жандармский офицер рассказывал;
– Представьте себе, вот здесь, в этой комнате, Осипанов бросил бомбу. Никому из нас и в голову не пришло, что у него под мышкой снаряд. Мы думали, это простая книга. Вы понимаете, какой опасности мы все подвергались? Где те, что привели Осипанова сюда? – Когда в дверях появились два заспанных, помятых сыщика, он продолжал: – Моя жизнь подвергалась опасности при исполнении служебных обязанностей. За это мне положена награда. Вы оба должны давать согласные показания. Поняли?
– Так точно! – прохрипели в один голос сыщики.
Но храбрый офицер не успокоился на этом заверении. Он заставил сыщиков проделать все то, что они должны говорить на следствии. Когда один шпик сказал, что офицер сидел за столом в то время, как Осипанов бросил бомбу, тот обозвал его болваном и заставил всю репетицию проделать заново. На этот раз сыщики сказали, что он стоял рядом с упавшей бомбой, что она была всего на вершок от носка его сапога. Лукашевич смотрел на эту комедию и думал только об одном: почему же бомба не взорвалась? Неужели Осипанов забыл в спешке дернуть за шнурок? Нет, это не похоже на него! Он не из тех людей, что теряются. Если уж у него хватило духу бросить бомбу, то хватило выдержки и сделать это так, как надо.
Размышления Лукашевича прервал появившийся сам директор департамента Дурново. (Офицеры и чиновники вытянулись в струнку, завидев его, и подобострастно заулыбались.)
– Подумайте, что у вас было на квартире Ульянова, – выпалил Дурново и, не ожидая ответа, умчался.
Лукашевич не мог понять, на что он намекает. Мысли не допускал о том, что Канчер уже рассказал все, а потому заключил: хозяин квартиры Ульянова, видимо, слышал, как они резали жесть для снарядов.
После этого прихода Дурново Лукашевича отвезли в Петропавловскую крепость, что значило: дело его получило серьезный оборот.
3
Царь не верил, что основные заговорщики арестованы. Он считал, что студенты были только исполнителями, а руководили ими другие, более опытные люди. И пока они не арестованы, нет никакой гарантии, что завтра на улицу не выйдет новая группа с бомбами.
Заложив руки за спину, царь нервно шагает по своему огромному кабинету гатчинского дворца. Его одутловатое, сплющенное, как у мопса, лицо мрачно хмурится, выпуклые, водянисто-пустые глаза неподвижно уставились куда-то в одну точку, губы мстительно сжаты. Сколько лет он воюет с террористами и не может извести их! Он был на волосок от той смерти, которая постигла отца! Ужасно! Они и пули отравили – стрихнином, так что смерть наступила бы от самой пустячной раны. Скоты! Эксперт генерал Федоров попробовал яд на вкус и чуть не умер. И полиция поворачивается, словно не живая! Почти месяц в Харькове узнавали адрес этого мерзавца! Шевырева до сих пор не разыскали. А кто может поручиться, что отъезд его в Крым не такой же трюк, как самоубийство удравшего за границу Говорухина? Вся эта сволочь пустила уже слух, что он сидит в Гатчино и боится из дворца выйти. Так нет, он покажет им!
Царь приказал немедленно закладывать экипаж.
«Вчера (третьего марта) был грандиозный раут у великого кн. Владимира, – записала в своем дневнике Арапова. – Так как государь не любит все эти приемы, он был отложен на третью неделю (поста), чтобы он мог воздержаться от присутствия на нем, так что никто его не ожидал, тем более, что возвращаться в город представляло действительную опасность, пока этот обширный заговор не выяснен окончательно.
Я находилась в большом зале, в конце больших апартаментов, в ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, появилась государыня под руку с великим кн. Владимиром, государь шел с ними со своей невесткой. Нечто вроде «ха» вырвалось у всех из груди, и мертвая тишина мгновенно заменила все самые оживленные разговоры. Немедленно образовался широкий проход, и они продефилировали по всем залам, ни для кого не останавливаясь, с явным намерением всем показаться.
Я вспоминаю, какие овации оказывали когда-то покойному императору каждый раз, когда провидение отводило от него пули негодяев, о чем я и сейчас не могу вспомнить без глубокого волнения. У всех присутствующих глаза были влажны, каждый стремился к нему прикоснуться и прижать свои губы к его руке или краю его одежды.
Теперь же ни одно «ура» не вырвалась из стесненных грудей, и это произвело на всех леденящее впечатление похоронной процессии.
…Государь решил появиться по двум причинам: во-первых, чтобы показать иностранцам, что они все живы и здоровы; во-вторых, чтобы никто не имел права высказать предположение, что страх удерживает его в Гатчине».
Но как ни старался выказать храбрость государь император, у него хватило духу только продефилировать по залам дворца: в эту же ночь он в сопровождении чуть ли не полка казаков умчался в свою гатчинскую крепость и засел там, точно в осаде. Он слишком высоко ценил свою августейшую особу, чтобы, рискуя жизнью, опровергать такой пустяк, как разговоры о том, что страх перед революционерами держит его в Гатчине.
4
В глазок камеры поминутно заглядывает часовой, но Саша не замечает этого. Он шагает из угла в угол и обдумывает, что теперь делать. Как дальше вести себя? Вспомнилось, как он говорил Шевыреву: «Канчер не внушает доверия, его не нужно посвящать в дело», – но тот твердил свое: «Террористов так мало, что нужно пользоваться всяким случаем, нужно радоваться каждому желающему идти на это дело». Вот теперь и радуйся…
– Пища!
Саша оглядывается на голос. Квадратное окошко в двери открыто, в нем видна чья-то рука с кружкой, накрытой ломтем черного хлеба. Значит, уже утро. Саша берет кружку. В ней не чай, а холодная, пахнущая ржавчиной вода, хлеб пополам с какой-то мякиной, сырой, как тесто. Саша поставил этот завтрак на стол, принялся опять шагать. Нет, теперь отрицать все бесполезно. Придется признать то, что раскрыли Канчер и Горкун. Нужно взять на себя всю вину и спасти других. Ведь Новорусский, Шмидова, Ананьина не принимали никакого участия в деле. А между тем полиция, по оговору Канчера и Горкуна, считает Новорусского чуть ли не руководителем всего дела, а Ананьину – хозяйкой квартиры, где была динамитная лаборатория!
– Кружку!
Выплеснув в раковину «царский чай», Саша подал в окошко кружку, и оно тотчас же захлопнулось.
После нескольких бессонных ночей, проведенных Сашей в тяжких раздумьях, он, решив, как ему дальше вести себя, уснул точно убитый. Ему и снилось то, о чем он думал: Симбирск, встреча с мамой, с Володей. Радостные сборы в Кокушкино. И там – поход с отцом в лес, споры с ним, песни. Он не слышал, как открылась дверь камеры, как его будили. Саша проснулся, лишь когда его стянули с кровати, и долго не мог понять, где он, что с ним происходит. Он сообразил все только в то мгновение, когда его взяли под руки и поставили на ноги.
– Одеваться!
В окружении чуть ли не взвода конвоя он опять идет тем же темным коридором. Кто сидит в этой вот камере? В этой? Карета стоит так близко к двери, что он не успевает глянуть по сторонам. На башне собора глухо ударили часы, и в памяти всплыл тот пасмурный день, когда они с Аней приходили сюда. Как он тогда позволил Шевыреву дать ее адрес Канчеру! После того как он столько времени оберегал ее от всего, что могло хоть какую-то тень бросить на нее, он допустил такую глупость. Тяжкий грех он взял на душу, что по совету того же Шевырева отправил с Канчером на квартиру Новорусского все то, что нужно было ему в Парголове для производства динамита. Да и вообще многое получилось глупо. И обиднее всего, что он понимал это, но не проявил твердости и не настоял на своем. Ему нужно было занимать во всех этих делах более твердую позицию. Нельзя было идти ни на какие компромиссы. И он имел на это право независимо от того, что не является главным руководителем.
Да, ошибки всегда, наверное, наиболее ярко видны в тот момент, когда их нельзя уже исправить…
4 марта Ульянов признает, что принадлежит к террористической фракции партии «Народная воля», что он принимал участие в заговоре против царя. Когда возник заговор – он отказывается назвать точную дату. Он не отрицает, что приготавливал азотную кислоту, белый динамит (не называя количества его), свинцовые пули. «Мне были, – пишет он, – доставлены два жестяные цилиндра для метательных снарядов, которые я набил динамитом и отравленными стрихнином пулями, так же мне доставленными; перед этим я приготовил два картонных футляра для снарядов и оклеил их коленкоровыми чехлами… Собственно фактическое мое участие в выполнении замысла на жизнь государя императора этим и ограничивалось, но я знал, какие лица должны были совершить покушение, то есть бросать снаряды. Но сколько лиц должны были это сделать, кто эти лица, кто доставлял ко мне и кому я возвратил снаряды, кто вместе со мной набивал снаряды динамитом – я назвать и объяснить не желаю… Ни о каких лицах, а равно ни о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю».
И все, что прокурору Котляревскому удалось добиться от Ульянова. В этих показаниях Александра Ильича, как видно, абсолютно отсутствует ложь. Он признает только то, что неопровержимо доказано, но делает это так, чтобы никому не повредить. Говоря о том, что после набивки снарядов он их возвратил, Ульянов не называет фамилий даже предателей Канчера и Волохова, которые сами признались, что относили бомбы метальщикам.
На следующем допросе Александр Ильич говорит уже и о принципиальных мотивах своего участия в заговоре. «Я не был ни инициатором, ни организатором замысла на жизнь государя императора, – отвечает он, видимо, на вопрос следователя. – Мое интеллектуальное участие в этом деле ограничилось следующим: в течение этого учебного года, приблизительно не ранее второй половины ноября, я раза два или три имел разговоры с некоторыми из лиц, принявших впоследствии участие в том деле, по которому я… обвиняюсь. Разговоры эти касались ненормальности существующего общественного строя и тех возможных путей, которыми он может быть изменен к лучшему. Мое личное мнение, которого я держался в этих разговорах, было таково, что для того, чтобы достигнуть наших конечных экономических идеалов, что возможно только при достаточной зрелости общества, после продолжительной пропаганды и культурной работы, необходимо достичь предварительно известного минимума политической свободы, без которого невозможна сколько-нибудь продуктивная пропагаторская и просветительная деятельность. Единственное средство к этому я видел в террористической борьбе, которая, как я надеялся, вынудит правительство к некоторым уступкам в пользу наиболее ясно выраженных требований общества».
Далее он говорит, что эти разговоры имели влияние на других в том смысле, что «ускорили, быть может, их решение посвятить себя террористической деятельности».
Признает Александр Ильич в этих двух показаниях (а также и в последующих) только то, что не отрицают все арестованные. Так как Новорусский подтвердил факт его приезда в Парголово, то он тоже не отрицает этого, но подчеркивает: «Ни сущность этих опытов, ни их цели не были известны ни Новорусскому, ни акушерке Марии Ананьиной… О том, что я оставил нитроглицерин, я не сообщал ни Ананьиным, ни Новорусскому».
Прочитав показания Ульянова, царь заключил: «От него, я думаю, больше ничего не добьешься». И тут он оказался прав: на все новые вопросы следователя и прокурора Ульянов отказывался отвечать. «Лица, помогавшие в Вильно достать азотную кислоту, были мне известны, но я отказываюсь их назвать. Какое участие принимал Шевырев в выписке азотной кислоту из Вильно, я объяснить отказываюсь… В феврале этого года была составлена при моем участии программа террористической фракции партии «Народной воли»… Печатание первой части этой программы, которую я выдавал за опыт новой программы, объединяющей партии «Народной воли» и «социал-демократов», было начато мною после 15-го февраля… Сколько лиц и кто помогали мне печатать программу, я объяснить отказываюсь… В составлении этой программы участвовало несколько лиц, которых я назвать отказываюсь».
Ни одно новое лицо, ни один адрес, ни один факт, неизвестные следствию по показаниям других арестованных, не были названы Ульяновым. Все то, что знал он один, так и осталось тайной.
В последнем своем показании от 21–22 марта Александр Ильич говорит уже исключительно о политической стороне дела. Так как полиции не удалось найти ни одного экземпляра программы, то он по памяти восстанавливает ее. «Если в одном из прежних показаний, – в заключение пишет он, – я выразился, что я не был инициатором и организатором этого дела, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя; но мне одному из первых, – продолжает он, беря тем самым всю ответственность за подготовку покушения на себя, – принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и прочее.
Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений».
Царь отчеркнул на полях этот абзац, написал с циничной иронией: «Эта откровенность даже трогательна!!!»
5
Весть об аресте студентов – участников заговора мгновенно разнеслась по университету. Образовалось два лагеря: одни одобряли действия – террористов, другие осуждали. Университетское начальство во главе с ректором Андреевским перепугалось насмерть. Поползли слухи, что университет будет закрыт. Это угнетающе подействовало на пассивную, далекую от политики часть студенчества, заставив ее тоже принять сторону начальства. В аудиториях вспыхивали бурные споры, нередко кончавшиеся потасовками.
И вдруг 6 марта объявили прямо во время лекций: всем собраться в актовом зале, ректор будет произносить речь. Иван Ефимович Андреевский пользовался репутацией хитрого человека и ловкого дипломата. Был он маленьким ростом, суетливый, картавил и говорил всегда в приподнятом тоне, любуясь своим красноречием. Попытки студентов узнать, в чем же будет заключаться смысл его речи, ни к чему не привели.
Когда студенты пришли в зал, там уже сидели попечитель учебного округа, его заместитель, профессора, преподаватели. Меж рядов, воровато поглядывая, шмыгали шпики. По тому, как больше обычного суетился ректор Андреевский, как он заискивающе улыбался, нашептывая что-то попечителю, по тому, как все те, кто яро предавал анафеме арестованных, спешили занять первые ряды, сочувствующие заговорщикам поняли: готовится что-то нехорошее. Они собрались спешно на галерке, чтобы в случае чего выразить свой протест.
Ректор Андреевский торопливо поднялся на кафедру, надел очки и, выждав пока утих гул в зале, начал с театральной аффектацией:
– Я собрал вас, милостивые государи, с тою целью, чтобы здесь, в вашей среде, найти хогь некоторое успокоение от того страшного горя, которое пало на наш университет. Я знаю, что оно давит на вас всех столь же тяжко, как и на меня…
С галерки донеслось громкое:
– Нет!
По залу прокатился не то удивленный, не то испуганный гул, и все обернулись в ту сторону, откуда послышался голос. Меж рядов зашмыгали шпики, направляясь к галерке.
– Я знаю, – продолжал ректор, не ожидая, по'ка установится тишина, – что в том, что буду говорить, я выражу только общую, всем нам одинаково принадлежащую мысль, выскажу общее нам чувство скорби и негодования…
– Нет! Ложь это! – крикнуло уже несколько голосов.
– Но в том-то общем, – повысив голос до крика, продолжал Андреевский, делая вид, что ничего не слышал, – одинаковом нашем настроении только и можно искать средства примирения с непримиримым и способы очищения и обеления опозоренного учреждения…







