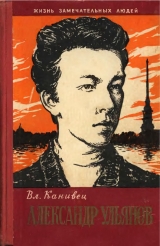
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
– Не мог заметить… ни к чему.
– Не слышали, о чем они говорили?
– Ничего не слышал их разговора… Я, как крест и евангелие целовал, должен сказать истинную правду…
7
Следствие закончено. Председатель Дейер облегченно вздыхает и объявляет перерыв. По возобновлении заседания слово предоставляется обер-прокурору Неклюдову.
– Господа сенаторы! Господа сословные представители! – выждав абсолютной тишины, тихо начинает Неклюдов. – В течение этих дней вы были сами свидетелями слез и смущения некоторых из подсудимых. Что же мог бы я прибавить к этому моим обвинительным словом? – он помолчал и», обращаясь к залу, скорбно закончил – Разве указать на смущение и слезы самой России! Доказывать тяжесть настоящего злодеяния, – повышая голос, продолжал он, – этого второго первого марта, значило бы только умалять его ужас. То, что не только в сознании, но и в сердце стомиллионного населения России, – любуясь собственным красноречием, вещал прокурор, – то, что, ежели и не в сердце, то, во всяком случае, в сознании самих подсудимых, тяжелее отцеубийства, то, конечно, и без моего обвинительного слова останется таким же тяжким злодеянием и в глазах защиты и в вашем, – выразительный взгляд в сторону членов суда, – приговоре, ибо мы все, – голос прокурора срывается на крик, – от мала до велика плоть от плоти и кость от кости все той же России!..
– Ну, понес! – покрутил головой Генералов. – Прямо слеза прошибает…
– Логика этого объяснения, – продолжал прокурор, переходя к критике террора, – весьма несложна: каждый человек имеет свои убеждения, свои идеалы; он может их не только пропагандировать, но и осуществлять…
– Великая мыслища! – с пресерьезным видом похвалил Генералов.
– Если же ему не внемлют или же препятствуют силою его деятельности, то и он вправе прибегнуть к насилию.
– Правильно! – крикнул Осипанов. Дейер звякнул колокольчиком, кивнул прокурору: продолжайте, мол.
– Иными словами, мне не нравится, что Петербург построен на берегу Финского залива; я высказываю это убеждение другим, пропагандирую необходимость переноса столицы в иную местность Рос сии, но так как меня никто не слушает, то я вправе прибегнуть к динамиту, обратить столицу в груды развалин и затем, – приподняв руку, произнес с ударением прокурор, – предоставить обществу высказать свободно свое мнение о том, следует ли вновь возвести столицу на том же самом месте, или же перенести ее в центр России…
– Железная логика, – с иронической улыбкой заметил Александр Ильич.
– Отчитай ты его! – зашептал на ухо Саше Генералов. – И покрепче!
Далее прокурор, основываясь на том, что при аресте у Осипанова была найдена «Программа Исполнительного Комитета», а Ульянов начал печатать программу террористической фракции партии «Народная воля», делает заключение, что в этом заговоре слились усилия двух революционных партий. Он говорит, что сущность этой программы весьма проста и не сложна, но излагает ее путано и неверно.
– Каждое общество, – говорит он в этой программе, – должно быть построено на началах социализма; современный общественный и государственный быт построен на других началах; следовательно, он должен быть разрушен, уничтожен и построен вновь; но так как разрушить и уничтожить его немыслимо без политического переворота, необходимо сначала произвести последний. Средствами для такого переворота долженствовали служить пропаганда, то есть распространение в различных слоях населения социально-демократических идей…
– Вот уж верно: в огороде бузина, а в Киеве дядько, – засмеялся Генералов. – Слышал, Александр Ильич, что он нам приписывает? Пропаганду социально-демократических идей! Ну, философ!
– Я, конечно, не буду вдаваться ни в критику социализма, рассказав обо всех злодеяниях партии революционеров, – продолжал прокурор, – ни в критику руководящих программ различных фракций партии «Народная воля».
– Умно, – похвалил Генералов, – нечего людей смешить…
– Флаг, выставленный настоящею партией, – флаг «Народной воли», есть флаг самозванный, – безапелляционным тоном, как и положено прокурору, провозгласил Неклюдов. – Избранное ею средство – запугивание правительства – представляется совершенно бесцельным и не может привести ни к какому результату, ибо монарх русский, – вскинув вверх руку, так торжественно провозгласил Неклюдов, что даже дремавший представитель «народа» старшина Васильев приподнял голову и, помигивая, уставился на него, – стоял всегда выше всякого личного страха!
– То-то он и не вылазит из Гатчино…
– Если припомнить, – продолжает прокурор, перечисляя все, в чем обвинялся Александр Ильич, – что в это время не было уже в Петербурге ни Шевырева, ни Говорухина, то невольно приходишь к заключению, что Ульянов заменял собою на сходке обоих этих подсудимых – зачинщиков-руководителей.
Далее прокурор говорит, что в руках Ульянова находилась касса, что под его руководством Генералов и Андреюшкин выделывали азотную кислоту; он составлял программу, его пропаганда ускоряла решимость других, он, наконец, вложил в это дело все свои силы и всю свою душу.
8
Защитников не имели Ульянов, Генералов, Андреюшкин и Новорусский. Первые трое – по убеждению, четвертый – по недоразумению. Защитительные речи Генералова и Андреюшкина были очень кратки. Сказав, что обвинитель, приводя обрывки фраз из их показаний, умышленно исказил взгляды на террор, они заявили:
Генералов. В свое оправдание я могу привести только то, что всегда, как и в данном случае, я поступал вполне так, как был убежден, и согласно со своей совестью.
Андреюшкин. Я заранее отказываюсь от всяких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил.
В день, когда Саше предстояло произносить свою защитительную речь, Марии Александровне удалось попасть в зал суда. Саша заметил, как она пробиралась поближе к скамьям подсудимых, привстал и поклонился ей.
– Мама? – спросил Андреюшкин, проследовав за его взглядом, и, вспомнив свою горемычную, теперь совсем осиротевшую матушку, тяжко вздохнул. Как бы дорого дал он, чтобы хоть на одно мгновение перенестись в родную станицу Медведовскую и постучать в маленькое окошко белой хатки!
Выслушав смелые, беспощадные выступления Генералова и Андреюшкина и увидев, каким одобрительным взглядом Саша обменялся с ними, Мария Александровна поняла: он скажет что-то подобное. Она думала, что после Генералова и Андреюшкина будет говорить Саша, и вся замерла, но Дейер предоставил слово защитнику Канчера, Горкуна и Волохова. Из его длинной и путаной речи Мария Александровна поняла, что эти трое предали всех, и ей стало не по себе от одной мысли, что так мог бы поступить ее сын. Как ей ни было тяжело, как она ни страдала оттого, что над Сашей нависла такая смертельная опасность, но она не могла не восхищаться его силой воли, его бесстрашием.
– Ульянов! Ваше слово! – услышала Мария Александровна голос председателя, и сердце ее глухо заколотилось. Она видела, как Саша неторопливо встал, сделал несколько шагов вперед, оглянулся и, встретившись с нею взглядом, чуть приметно кивнул ей. В выражении его худого лица, в глубоко запавших, но ярко горящих глазах, в том привычном жесте, каким он всегда поправлял падавшие на лоб черные пряди волос, было такое непостижимое спокойствие, что у Марии Александровны даже сердце стало ровнее стучать.
– Относительно своей защиты, – начал глухим и ровным голосом Саша, – я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление.
Откинув упавший на лоб локон резким движением головы, Саша продолжал после небольшого молчания значительно громче, как бы подчеркивая тем самым особую важность именно этих слов:
– Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно…
Что ж это Саша сказал? Уже в ранней молодости у него было недовольство существующим строем?.. Мария Александровна вспомнила, как Илья Николаевич любил те стихи Некрасова, в которых наиболее ярко были выражены именно эти мотивы, как он передавал эту любовь и ей и детям. Знал ли он, догадывался ли, на какую благодарную почву падали эти семена? Наверное, знал: он ведь так волновался, когда до него доходил слух о выступлении студентов.
– Есть только один правильный путь развития, – с трудом отвлекшись от мыслей, продолжала слушать Мария Александровна Сашу, – это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе. Это положение вполне ясно формулировано в программе террористической фракции партии «Народной воли», как раз совершенно обратно тому, что говорил господин обвинитель…
Глянув в сторону настороженно поднявшего голову прокурора, Саша выдержал небольшую паузу, продолжал:
– Объясняя перед судом ход мыслей, которыми приводятся люди к необходимости действовать террором, он говорит, что умозаключение это следующее, – в голосе Саши проступила нотка иронии: всякий имеет право высказывать свои убеждения, следовательно, имеет право добиваться осуществления их насильственно. Между этими двумя посылками нет никакой связи, и силлогизм этот так нелогичен, что едва ли можно на нем останавливаться…
– Пахом, гляди, как прокурор заерзал, – шепнул Андреюшкину Генералов, – философ…
– Из того, что я имею право высказывать свои убеждения, следует только то, что я имею право доказывать правильность их, то есть сделать истинами для других то, что истина для меня. Если эти истины воплотятся в них через силу, то это будет только тогда, когда на стороне ее будет стоять большинство, и в таком случае это не будет навязывание, а будет тот обычный процесс, которым идеи обращаются в право… Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того, как теоретические размышления приводили меня к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна.
Мария Александровна ушам своим не верила: неужели это ее Саша говорит? Она никогда не думала, что он может говорить так красноречиво и убедительно. И где? На суде, под тяжестью такого страшного обвинения! Но почему он ничего не говорит в свое оправдание? Неужели он считает себя настолько виновным, что ему абсолютно нечего сказать? У нее больно сжалось сердце.
– Правительство настолько могущественно, а интеллигенция настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность – последний остаток свободного слова, – продолжал Саша спокойным, ровным голосом. – Те попытки, которые я видел вокруг себя, идти по этому пути еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. Убедившись в необходимости свободы мысли и слова с субъективной точки зрения, нужно было обсудить объективную возможность, то есть рассмотреть, существуют ли в русском обществе такие элементы, на которые могла бы опереться борьба…
Председатель суда потянулся к звонку, но Саша, заметив это, остановился. Как только Дейер убрал руку, он продолжал несколько торопливо:
– Ближайшее политическое требование интеллигенции – это есть требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность…
– Потрудитесь объяснить, – сердито остановил его Дейер, – насколько это действовало на вас и касалось вас, а общих теорий нам не излагайте, потому что они более или менее нам уже известны.
– Я не личные мотивы говорю, а основания общественного положения, – властно повысил голос Саша. – На меня все это не действовало лично, так что с этой точки зрения я не могу приводить субъективных мотивов.
– А если не можете приводить, – раздраженно продолжал Дейер, абсолютно не поняв, что было сказано, – тогда нечего и возражать против обвинительной речи!
– Я имел целью возразить против той части речи господина прокурора, – выдержав значительную паузу, спокойно отвечал Саша, – где он, объясняя происхождение террора, говорил, что это отдельная кучка лиц, которая хочет навязать что-то обществу; я же хочу доказать, что это не отдельные кружки, а вполне естественная группа, созданная историей, которая предъявляет требования на свои естественные и насущные права.
– Под влиянием этих мыслей вы и приняли участие в злоумышлении? – вновь перебил его Дейер.
– Я хотел бы это пояснить…
– Будьте по возможности кратки в этом случае! – сердито проворчал Дейер, двигая лежавшие перед ним пухлые папки дел.
«Что же он не дает ему говорить? – наблюдая за этим неравным поединком Саши с председателем суда, думала Мария Александровна. – Что Саша еще хочет сказать?» И если вначале ей хотелось, чтобы он быстрее закончил свою речь и тем самым меньше обвинил себя, то теперь, когда этот старик с пустым взглядом начал перебивать ее сына, она негодовала уже за то, что он не дает Саше высказать все, что тот хочет! «Говори, Саша! Говори!»
– Среди русского народа всегда найдется десяток людей, – сказал Саша с силой непоколебимого убеждения, – которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь…
– Точно! – подал реплику восхищенный Осипанов. – Абсолютно точно!
Когда же? Когда же у нее так стыло сердце? И вдруг она вспомнила: в день смерти Ильи Николаевича. Перед мысленным взором ее всплыла церковь, гроб… Господи праведный! Неужели и над Сашей неотвратимо нависла смерть? Мария Александровна почувствовала себя так невыносимо тяжело, что не могла больше оставаться в этом мрачном зале, который казался ей теперь похожим на церковь в минуты отпевания покойника. Напряжением всех сил своих сдержав подступавшие к горлу рыдания, она встала и, посмотрев на Сашу долгим, словно бы прощальным взглядом, медленно двинулась к проходу, не сводя с него глаз. Дейер поднялся с места и взялся за колокольчик, но увидев, что она пошла не к сыну, а к выходу, сел в свое высокое кресло. Проводив мать грустным взглядом, Саша гневно продолжал:
– Но ни озлобление правительства, ни недовольство общества не могут возрастать беспредельно. Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться, а следовательно, правительство будет вынуждено отнестись к нему более спокойно и более внимательно. Тогда оно поймет легко…
Дейер сердито заколотил звонком, изрек тоном приказа:
– Вы говорите о том, что было, а не о том, что будет!
– Чтобы мое убеждение о необходимости террора, – невозмутимо разъяснял Саша, – было видно более полно, я должен сказать, может ли это привести к чему-нибудь или нет. Так что это составляет такую необходимую часть моих объяснений, что я прошу сказать несколько слов…
– Нет, этого достаточно, так как вы уже сказали о том, что привело вас к настоящему злоумышлению. – Дейер переглянулся с прокурором, спросил – Значит, под влиянием этих мыслей вы признали возможным принять в нем участие?
– Да, под влиянием их, – с открытым вызовом ответил Саша. – Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я хотел доказать, что это неизбежный результат существующих условий, существующих противоречий жизни. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их, на служение родине. – Саша повернулся к Неклюдову, закончил: – Такое объективно-научное рассмотрение причин, как оно ни кажется странным господину прокурору, будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно только негодование.
– Верно! – громко согласился Генералов, а Оси-панов кинулся к Саше и крепко пожал ему руку.
– Вот все, что я хотел сказать.
В правительственном сообщении о деле 1 марта указывалось, что приговором особого присутствия правительствующего сената, состоявшимся 15/19 апреля 1887 года, все поименованные подсудимые, кроме Сердюковой, а именно: Ульянов, Шевырев, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Канчер, Горкун, Волохов, Лукашевич, Пилсудский, Новорусский, Ананьина, Пашковский и Шмидова приговорены к смертной казни через повешение.
Тут же было особо подчеркнуто, что Ульянов «принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению». Суд ходатайствовал перед царем о смягчении участи всем подсудимым, кроме Ульянова, Шевырева, Генералова, Осипанова и Андреюшкина. В отношении Ульянова, Шевырева, Генералова, Осипанова и Андреюшкина царь приговор суда оставил в силе. Всем остальным подсудимым заменил смертную казнь разными сроками каторжных работ.
9
Уже по бледному, как-то испуганно застывшему лицу Песковского Мария Александровна поняла: случилось самое страшное…
– Что? – только и смогла вымолвить она.
– Смертная казнь…
Смертная казнь… Ее Саша приговорен к смертной казни. Нет, это никак не укладывалось в ее голове! Нужно что-то делать! Нужно спасать его. Но как? Куда идти? К кому обращаться? Она ведь побывала уже у всех и всюду встречала холодное, иногда и злобное отношение. Ей открыто говорили: считайте, что у вас нет сына. Он еще живет, он еще шагает где-то по камере и думает… Бог мой, о чем он думает? Ведь он совсем еще не жил!
– Я узнал: приговор передан государю, – первым нарушил это скорбное молчание Песковский. – Остается только одно: просить о помиловании. 23 апреля – день окончательного объявления приговора. Срок кассации сокращен с двух недель до двух дней. Надо торопиться! Вам нужно немедленно добиться разрешения на свидание и уговорить сына подать прошение на имя государя. И если вы хотите спасти его, то проявите железную твердость.
На время суда Саша был переведен из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения. Здесь, после суда, Мария Александровна и получила с ним свидание. На этом свидании присутствовал молодой прокурор Князев. Он был восхищен смелым, мужественным поведением Александра Ильича на суде. Он несколько раз отходил к двери и даже выходил из камеры, чтобы дать возможность свободнее, без свидетелей поговорить матери с сыном.
– Сашенька, сынок мой, – говорила Мария Александровна, – я умоляю тебя: подай прошение…
– Не могу я, мама, сделать это после всего, что признал на суде, – стоял на своем Саша, – ведь это было бы неискренне.
– Прав он! Прав! – воскликнул Князев.
– Слышишь, мам, что люди говорят? – заметил Саша. – Нет, я никак не могу этого сделать. Я хотел убить человека – значит и меня могут убить. И надо примириться с этим, мама…
– Не могу я…
– Надо, мама, – твердо и властно повторил Саша. – Я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь. Каждый свой шаг я делал так, как велела мне совесть. Я никогда и ни перед кем не унижался. И перед лицом смерти: не могу этого делать…
– Саша, ты еще очень молод, твои взгляды могут измениться.
– Ну, хорошо, мама. Положим, я подам прошение и мне заменят смертную казнь вечным заточением в Шлиссельбургскую крепость. Но разве это жизнь? Ведь там и книги дают только духовные, ведь эдак до полного идиотизма дойдешь. Неужели ты бы этого желала для меня, мама?
– Саша, в жизни ничто не вечно. Многое может измениться со временем.
– Нет, мама, ты прости меня, но я не могу. Жить в каменном мешке крепости – это удел крыс, а не людей. И еще раз прошу тебя: смирись ты с этим, не убивайся. Я сам шел по этому пути, я сам избрал его. Я уже свел счеты с жизнью, а ты нужна меньшим. Володя вот заканчивает гимназию, Оля – тоже. Я не говорю уже о Мите и Маняше, которые без тебя шагу ступить не могут…
Более часа продолжалось это свидание, но Мария Александровна так и не смогла уговорить Сашу подать прошение о помиловании, хотя она и уверяла его, что такая просьба будет уважена царем. Прокурор Князев рассказывал:
– С большой душевной болью отказывая матери, Ульянов привел такой довод, в котором еще раз сказалось исключительное покорявшее всех благородство его натуры: «Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу поступить так». Прощаясь с матерью, он сказал, что хотел бы почитать Гейне. Я тут же поехал в магазин Меллье, купил на немецком языке томик Гейне и отвез ему.
Вернулась Мария Александровна со свидания, точно с похорон. Песковский принялся бурно возмущаться:
– Это безумие! Он просто из-за мальчишеской амбиции лезет в петлю! Мы должны удержать его от этого – простите, но другого слова я не нахожу – сумасшедшего поступка!
– Нет, Матвей Леонтьевич, – тяжко вздохнула Мария Александровна, – надо смириться…
– Но вы не перенесете его казни! У вас за один месяц голова уже совсем поседела. А остальные дети? Он подумал о них? Я вот сам пойду поговорю с ним!
Песковский добился свидания с Александром Ильичем. Мария Александровна просила его, чтобы он ничего не говорил Саше такого, что могло бы причинить ему лишние страдания, но Песковский раздраженно ответил:
– Не понимаю, чего вы хотите! Чтобы ваш сын был спасен или чтобы он погиб? Я лично делаю все, чтобы спасти его!
Во время этого свидания Песковский действовал по своему жизненному принципу: все средства хороши. Он сказал Александру Ильичу, что мать, убитая его отказом подать прошение о помиловании, тяжело заболела, она начала заговариваться, врачи боятся, что она не перенесет казни. Но если она, по счастью, и останется жить, на что мало надежды, то за рассудок ее ручаться никак нельзя.
– Подумай, в каком положении окажется семья, – говорил Песковский. – Отца нет, мать тяжело больна, и, значит, за нею еще нужен уход. Я понимаю, тебе трудно поступиться своими принципами, но ведь это нужно для спасения родных, близких людей. Людей, которым уже и так приходится страшно тяжело. Я мог бы сюда не идти, но я считаю своим долгом сделать все, что от меня зависит, чтобы избавить семью от этого нового ужасного несчастья.
Александр Ильич всегда с исключительной строгостью относился к своему слову, которое у него никогда не расходилось с делом. Он сам не лгал ни в малом, ни в большом, и ему даже в голову не приходило, что Песковский может в такие решительные минуты его жизни прибегнуть к обману. А то, что мать, так дорожившая каждой минутой свидания с ним, не смогла прийти сама, не оставляло никакого сомнения в том, что с нею действительно что-то случилось. А Песковский, увидев, что Александр Ильич поверил ему, начал особо налегать на самую слабую его струну; призывал его сделать этот трудный шаг не ради себя, а ради других. После долгого раздумья Саша согласился обратиться к царю.
– Вот образец, – обрадовался Песковский, – адвокат говорит, что нужно только так писать. В другой форме прошение и не покажут государю.
Александр Ильич посмотрел «образец» верноподданнического раболепия и вернул его Песковскому, сказав, что он сам в состоянии написать то, что найдет нужным.
Еще до суда Канчер, Горкун и Волохов подали прошение на имя царя, в котором униженно молили его смилостивиться над ними и не очень строго наказывать их. Но этого Канчеру показалось мало. После объявления приговора он строчит новое прошение. В нем, как в зеркале, видна вся его мелкая, рабская, предательская душонка.
«Всепресветлейший, Державнейший Государь, Самодержец!
Михаила Никитина Канчера Прошение
Несколько раз брался за перо, но оно выпадает из рук и у меня не хватает сил, чтобы высказать Вашему Императорскому Величеству то, что мне говорит мое сердце.
Несчастный случай ввел меня в такую среду товарищей, которые сделали меня ужасным преступником. Я теперь сознаю это сам и ожидаю заслуженной смертной казни. Но у меня еще есть те чувства, которые даны Богом только человеку; это чувство на каждом шагу преследует меня, злодея-преступника, и я, припав к стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше прошу позволения высказать те, глубоко засевшие в мою душу слова, которые скажу и умирая. Я не революционер и не солидарен с их учением, а всегда, был верным подданным Вашего Императорского Величества и сыном дорогого отечества. Мысль моя всегда была направлена к тому, чтобы быть верным и полезным слугою Вашего Императорского Величества и это оправдать на службе Вашего Императорского Величества.
Если же я и был сообщником злонамеренного преступления, то в это время я находился в состоянии, непонятном для самого себя, и объясняю это временным умопомрачением.
Недостойный верноподданный Михаил Никитин Канчер»
Именно такой «образец» предлагал Песковский Александру Ильичу. Но он не мог отрекаться от своих убеждений и унижаться, как делали другие (по этому «образцу» подали прошения одиннадцать человек). Он всю ночь не спал, обдумывая каждое слово обращения, подписывать которое ему было тяжелее смертного приговора. Но раз он дал слово, он уже не мог отступиться от него. С натугой, пересиливая внутреннее сопротивление, он написал:
«Ваше Императорское Величество!
Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождения в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.
Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиною смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.
Александр Ульянов»
Это обращение Александра Ильича к царю было так не похоже на покаянное верноподданническое прошение, что чиновники, боясь гнева государя, решили спрятать его под сукно и поспешили сообщить: «Просьбы подали все, кроме Ульянова, Генералова, Осипанова и Андреюшкина». Песковский сказал с досадой Марии Александровне после того, как царь утвердил смертный приговор:
– Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему. Никакого раскаяния и подпись даже не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю.
В «Правительственном вестнике» тоже указывалось, что после приговора только одиннадцать осужденных подали всеподданнейшие прошения о помиловании. Среди них был и Шевырев. Директор департамента полиции доносил министру внутренних дел: «Шевырев подал просьбу о помиловании. В просьбе своей он сознается в своем преступлении и просит даровать ему жизнь. Завтра же, после объявления приговора, я вызову Шевырева к себе и постараюсь получить от него все возможное. То же я сделаю и с другими подсудимыми, которые подадут просьбы о помиловании.
Обер-прокурор Неклюдов опасно заболел, и боятся нервного удара».
Как видно из этого донесения, Дурново старался вытягивать все ив подавших прошение. И если бы он нашел, что заявление Ульянова можно считать за прошение, не преминул бы сообщить об этом, подчеркивая, как и в случае с Шевыревым, свою заслугу. Однако он нигде не упоминает о том, что Ульянов подал прошение.
О том, как Александр Ильич и в последние дни своей жизни думал и заботился не о себе, а о других, говорит его письмо сестре из Петропавловской крепости, куда он опять был переведен после объявления приговора:
«Дорогая Аничка!
Большое спасибо тебе за твое письмо. Я получил его на днях и очень был рад ему. А немного замедлил ответом, надеясь увидеться с тобой лично, но не знаю, удастся ли нам это.
Я перед тобою бесконечно виноват, дорогая моя Аничка; это первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и маме: все это так очевидно для вас обоих. Прости меня если можно.
Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошею пищею и вообще ни в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги тоже есть. Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически.
Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от всей души желаю тебе всякого счастья. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя.
Твой А. Ульянов
Напиши мне, пожалуйста, еще; я буду очень рад получить от тебя хоть маленькую весточку. Я так же буду писать тебе, если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай.
Твой Ал. Ульянов»
Вечером 4 мая в камеру Саши зашел комендант крепости со всей свитой и объявил, что царь оставил в силе приговор суда. А среди ночи его разбудили и приказали одеваться. Заковав в кандалы, усадили в карету и повезли к пристани. Здесь два жандарма подхватили под руки и, не дав осмотреться по сторонам, переволокли по трапу на маленький пароходик, пихнули в люк. Там уже были Шевырев, Оси панов и Генералов. Не успел он, звеня кандалами, обнять их, как приволокли и Андреюшкина.
– Куда везете? – спросил Генералов офицера, когда пароходик, тяжело пыхтя, отвалил от причала.
– А вот увидите, – уклончиво отвечал тот.
Ночь была темная, в маленькие окна каюты берега Невы чуть виднелись. Слышен только стук машин да плеск воды. Навстречу за всю дорогу не попался ни один пароход. И Саша и все его друзья были уверены, что их везут на казнь, что это последнее их путешествие, и больше молчали. Подаст кто-нибудь реплику, другой ответит, явно с трудом отрываясь от своих мыслей.







