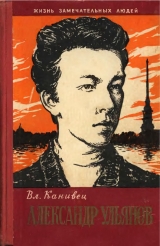
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Когда Саша и Аня закончили чтение произведений Писарева, ощущение было такое, словно они расстались с необыкновенно мудрым и обаятельным человеком, который помог им многие явления жизни увидеть как бы в другом и в то же время в желанном свете. Многое из того, над чем они раздумывали, в чем сомневались, точно отфильтровалось: одно начисто отметалось, другое становилось законом для дальнейшей жизни. Писарев возбудил в сердцах еще большую ненависть ко всякому произволу и насилию, укрепил уверенность в том, что светлое будущее народа не мечта идеалистов, а историческая реальность.
– Всего за каких-то семь лет и так много он сделал! – восхищенно говорила Аня. – Да еще столько лет просидел в Петропавловской крепости.
– А Чернышевский? Разве он не в той же крепости написал «Что делать?»? Страшно подумать: всех, кто с наибольшей силой и смелостью говорит правду народу, заключают в тюрьмы, ссылают в Сибирь. Говорят, жандарм, следивший за Писаревым, видел, что он тонет, но умышленно не позвал на помощь.
4
Как-то Аня спросила:
– Саша, а какие, по-твоему, самые худшие пороки?
– Ложь и трусость! – не задумываясь, ответил он.
– А какими хорошими качествами нужно обладать для того, чтобы принести большую пользу людям?
– Честностью, железной силой воли, любовью к труду.
Мысли, как жить, чтобы быть полезным людям, очень рано занимали Сашу. На этот вопрос он искал ответа и в жизни и в книгах. Писарева с такой жадностью читал именно потому, что тот указывал не только пути, которыми должен идти человек, всецело отдавший себя служению одной идее, но и разбирал характеры новых людей. Рахметов, Базаров, Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов – вот те люди, у которых нужно учиться жить!
Когда Саше было пятнадцать лет, он в одном из гимназических сочинений на вопрос, что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству, отвечал так: «Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. Честность есть необходимое качество человека, какого рода деятельности он ни предался бы: без нее труд даже умного и трудолюбивого человека не только не будет приносить пользу обществу, но даже может вредить ему. Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он выберет для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды.
Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности; для этого он должен еще уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твердый, настойчивый характер.
Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесет и половины той пользы, которую принес бы свободный и независимый труд. Но для непривычного человека труд всегда кажется чем-то тяжелым и требует внешнего побуждения; поэтому человек должен приучить себя к труду, полюбить его, и труд должен сделаться в его глазах необходимой потребностью его жизни.
Любовь к труду должна простираться не только на легкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями: ни перед теми, которые предоставляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые предоставляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать в себе твердый и непоколебимый характер.
Вышеуказанных качеств достаточно лишь для того, чтобы упорно трудиться на пользу обществу, но человек должен также заботиться о том, чтобы выбрать себе ту отрасль труда, к которой он более всего способен и которая кажется ему более полезной, а также о том, чтобы труд его приносил по возможности большие результаты. Для этого человеку нужны ум и знание. Человек, стоящий на низкой ступени умственного развития, не может ясно понимать, что полезно обществу, и не может, следовательно, приносить действительной пользы… Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить. разные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется.
Для того чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и в частности от знания своего дела много зависит та польза, которую принесет человек обществу».
Зрелые по мысли рассуждения Саши о месте человека в жизни, о его служении обществу, людям (что в то время значило – народу) были хорошо поняты директором гимназии Керенским. Но в конце листа он вывел аккуратно-чиновничьим почерком «4». А возвращая контрольную Саше, произнес такую нравоучительную тираду:
– В вашем сочинении, Ульянов, есть один существенный изъян, который и вынудил меня занизить балл. Вы всюду пишете: «служение обществу, людям» – и не только не подчеркиваете о необходимости служения человека государству, но даже ни разу, не упоминаете этого слова. А ведь в определении темы я ясно указал: «чтобы быть полезным обществу и государству». Не нашел я в вашем сочинении также мыслей о преданности престолу и вере, без чего, как известно, не возможна никакая полезная деятельность. Обходите вы молчанием и воспитание любви в человеке к священной особе его императорского величества, о готовности каждого смертного отдать жизнь свою, если это потребуется, за государя. Именно эти вот качества главные, именно их должен вырабатывать в себе человек, если он действительно хочет правдой и верой послужить своему отечеству. Именно без этих непременных качеств человек может оказаться на ложном, пагубном для него пути. Запомните это!
Осторожный и чрезвычайно осмотрительный Керенский сказал далеко не все то, что он думал о сочинении. Он видел, под чьим непосредственным влиянием формировались взгляды Александра Ульянова. Он не мог не заметить, что эта программа включает в себя все требования, которые предъявляют к человеку новые люди. Он понял, что подразумевал Александр Ульянов под теми «внешними обстоятельствами», которые создают трудности и препятствия для деятельности, полезной людям, то есть народу.
В людях Керенский разбирался неплохо и знал: Александр Ульянов принадлежит к тем цельным натурам, у которых слово не расходится с делом.
И действительно, у Александра Ульянова уже сейчас были многие качества, названные в этой, без сомнения, его собственной программе жизни: твердость характера, честность, трудолюбие, самобытный ум, жажда знаний. По своему умственному и нравственному развитию он стоял на голову выше своих старших по возрасту одноклассников. И если он пишет, что честный взгляд на обязанности по отношению к людям должен воспитываться в человеке с ранней молодости, то совершенно ясно: на формирование его общественных идеалов оказали влияние не только книги, но и семья.
Нравоучительное наставление директора гимназии не возымело ожидаемого действия.
Когда разговор касался идейных убеждений, Саша не шел ни на какие уступки. Под влиянием произведений Писарева он рано порвал с религией. Отец, бывший всю жизнь искренне верующим, иногда спрашивал его за обедом:
– Ты, Саша, нынче ко всенощной пойдешь?
– Нет, – отвечал он коротко, но так твердо, что вопросы эти отец вскоре перестал задавать.
5
Когда народовольцы в феврале 1880 года произвели взрыв в Зимнем дворце, на него тотчас эхом отозвались колокола симбирских церквей: то служились молебны о новом спасении государя от гибели. Обыватели истово крестились, верноподданнически бились тупыми лбами о каменные плиты церковных полов, предавая анафеме злодеев. А в ограбленных царем-«освободителем» деревнях, вымирающих от голода, этот ликующий перезвон колоколов воспринимался как новые похороны надежд хоть на какое-то облегчение тяжкой судьбы своей. Жестокая, кровавая расправа «освободителя» над крестьянами деревни Бездна соседней Казанской губернии, восставшими против грабежа и насилий, еще была свежа в памяти народа. И если в той же Бездне крестьяне и брели покорно в церковь, то молились они совсем не о спасении священной особы его императорского величества.
Саша возвращался из библиотеки домой. Не успел он добраться до своей Московской улицы, как во всех церквах города ударили в колокола. Что такое, пожар? Нет, дыма нигде не видно, пожарные не несутся по городу очертя голову. А вот обыватели ведут себя как-то странно: испуганно перешептываются, истово крестятся. Что же произошло? Саша остановился, раздумывая, где быстрее можно узнать это. Конечно же, в гимназии. Только он повернул за угол, к нему подлетел одноклассник Аверьянов.
– Фу-у, я тебя по всему городу ищу!..
– А что такое?
– Страшная новость! – Аверьянов перевел дух, оглянулся и, понизив голос, закончил: – Царя убили.
– Кто?
– Не знаю. Но, говорят, бомбой… В клочья разорвали… Я это слышал у самой канцелярии губернатора. Саша, что ж теперь будет?
Саша молчал. Он и сам не знал, что теперь будет. Неужели пришел час истинного освобождения? Неужели Писарев прав, сказав, что светлое будущее не так неизмеримо далеко, как все привыкли думать?
– Саша, так что же теперь будет? – повторил свой вопрос Аверьянов. – У меня просто голова кругом идет, – продолжал он, видя по напряженно-сосредоточенному лицу друга, что тот сам ищет ответ на этот же вопрос. – А что в гимназии творится! Гул стоит, как в потревоженном улье. Пойдем туда, а?
Саша отказался идти в гимназию. Он побежал на тот Старый венец, где прошли его первые сознательные годы детства. Он был абсолютно уверен, что железные ворота тюрьмы распахнуты и арестанты с криком «Свобода!» обнимаются со своими родными и близкими. Но нет, железные ворота были на замках, а грязное, мрачное здание тюрьмы хранило все ту же гробовую тишину.
Неужели и этот взрыв окажется бессильным, неужели и он не разрушит тюремных стен? Нет, не может быть!
Эти мысли так занимали Сашу, что он не заметил, как прошел поворот на свою улицу, и ему пришлось сделать большой крюк. У ворот дома его встретила взволнованная Аня.
– Где ты был?
– Так… гулял…
– И ничего не знаешь?
– Знаю.
– Папа вернулся из собора такой взволнованный. Он позвал меня к себе, рассказал все. А потом и говорит: теперь еще хуже будет! Я не посмела возражать ему, но… Саша, неужели папа прав? Я не могла дождаться тебя, чтобы поговорить об этом! Ну, что ж ты молчишь?
– Я что-то замерз… – уклончиво, тихо сказал Саша. – Пойдем в дом.
Когда отец, пригласив его к себе в кабинет, завел разговор об убийстве царя, Саша заявил:
– Они правильно поступили.
– Ты хорошо подумал, прежде чем… пришел к такому выводу?
– Да, – твердо ответил Саша.
– Я вот о чем тебя попрошу, – после продолжительного молчания сказал Илья Николаевич. – Постарайся меньше говорить об этом с другими.
– Хорошо.
6
Весь март погода была изменчивая: то солнце по-весеннему грело и радостно звенели ручьи, то вдруг откуда-то с севера налетала пурга и чуть пробудившийся мир опять покрывался снегом, точно белым саваном. А может, это так Саше казалось, потому что и события этого месяца были под стать погоде. То неслись слухи, что всех участников покушения суд оправдает, как оправдал в свое время Веру Засулич, то утверждалось, что злодеи-цареубийцы – верноподданные обыватели, иначе не называли их – будут казнены. Новый царь, дескать, уже подписал указ, и суду осталось только выполнить его волю.
По газетам невозможно было понять истинный ход дела: все они в один голос предавали анафеме цареубийц, все они оплакивали в бозе почившего государя, возводя его в лик святых. Как велось следствие, что выяснилось на нем, точно никто не знал. Один из гимназистов был родственником телеграфиста и, узнав очередную новость, сообщал ее в классе.
В гимназии все время существовали два лагеря: верноподданнический и вольнодумный. До первого марта лагери не имели четкого размежевания. Сейчас же, когда вопрос стал прямо – за кого ты? – лагери настолько определились и споры между ними так накалялись, что нередко доходило до потасовок. В отношении же начальства оба лагеря занимали по-прежнему одинаково враждебную позицию, ибо гнет древних языков распространялся на всех без разбора.
Март казался Саше бесконечным. Идут дни, недели, один слух сменяет другой, а ворота тюрьмы закрыты все на тот же замок. У губернаторского дома стоят те же кареты, снуют те же чиновники.
Старый уклад жизни стоит так же нерушимо, как и лед на Волге. Аня пристает с вопросами, но что он ей может сказать, когда и сам толком ничего не знает? Строить догадки, то есть плодить новые слухи, совсем было не в его характере. Аня возмущалась, негодовала, а Саша больше молчал, и только по виду его можно было заключить, что творится у него на душе. Володя, которому в то время было всего одиннадцать лет, тоже не давал ему покоя. Как их будут судить? Кто их предал? Арестовали ведь сразу только того, кто бросал бомбу. Или он и выдал всех?
И вот официальное сообщение в газетах: 26 марта суд. Идут дни, а в газетах ни. слова. Что же случилось? Неужели ни слова не скажут о суде, а объявят только приговор? Не может этого быть! Ведь их судит не военный трибунал. А впрочем, теперь уж Сашу ничем не удивишь: он давно понял, что законы писаны далеко не для всех.
Не успели до Симбирска дойти подробности суда, как вот уж и приговор: Желябова, Перовскую, Кибальчича, Михайлова, Рысакова, Гельфман – к смертной казни через повешение.
– Но неужели он и женщин не помилует! – с нервной дрожью в голосе спрашивала Аня. – Ни один ведь русский царь не посылал еще женщин на эшафот.
– История не повторяется, – хмуро отвечал Саша.
– Это ужасно! Одна из них, говорят, ждет ребенка.
Их казнили…
7
На глухой, заштатный Симбирск в Петербурге смотрели как на место ссылки. Сюда отправляли под надзор полиции тех, кто высылался из политических центров страны в административную ссылку. Так попали в Симбирск революционеры А. Кадьян, И. А. Соловьев, П. Горбунов – организатор типографии партии «Народная воля». Вернулась в Симбирск сидевшая в Ишимском остроге Л. И. Сердюкова, жена Соловьева. Вместе с мужем они начали собирать вокруг себя революционно настроенную молодежь. Деятельность их была замечена полицией. Агент, наблюдавший за ними, писал в докладной; «Как только приехал в Симбирск ее муж, тотчас же его посетили лица, неблагонадежные в политическом отношении. Их знакомство состоит исключительно из лиц, политически неблагонадежных».
В этой же докладной агент указывал, что Соловьев открыл слесарную мастерскую исключительно для маскировки своих революционных дел. Видел агент крамолу и в том, что к сыну Соловьева ходили многие гимназисты. Он просил в корне «пресечь» рассадник крамолы.
Когда в Симбирскую гимназию пришел активный чернопеределец учитель Муратов, он создал политические кружки. Участие в их работе принимали учителя, врачи, гимназисты старших классов и семинаристы. Владимир Иванович Муратов преподавал русский язык и словесность. Он превосходно знал литературу, историю и умел, оставаясь в рамках программы, подавать материал так, что в нем всегда улавливался революционный дух.
Непосредственного участия в занятиях этого кружка Саша не принимал. Но он знал о его существовании и через своего друга Владимира Волкова добывал и прочитывал книги, которые обсуждали кружковцы. Помогал доставать запрещенные книги революционных демократов и сам Владимир Иванович, который с большой любовью относился к Саше. В обстановке круговой слежки и доносов деятельность учителя Муратова не могла долго оставаться секретом для начальства. Его вскоре уволили из гимназии и заставили уехать из Симбирска. Однако кружки, созданные им, не только не прекратили существования, но все больше и больше активизировали свою деятельность.
Идя как-то утром на занятия, Саша заметил недалеко от гимназии группу людей, стоявших у забора.
Среди них было несколько гимназистов. Саша прошел было мимо, но его схватил ъг руку стоявший там же Владимир Волков и загадочно шепнул, подталкивая к забору:
– Подойди прочти!
– А что там?
– Сам увидишь! Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть! – расталкивая плечом толпу, двинулся к забору Волков. Саша протиснулся за ним и увидел: на заборе приклеен лист бумаги, исписанный от руки крупными печатными буквами. Он прочел первые строки и понял: это прокламация. Он изо всех сил нажал на стоявших впереди его и продвинулся к самому листку.
– Это, это вот место прочти, – говорил Волков, указывая пальцем на строку: «На развалинах нынешней цивилизации тунеядцев пролетариат построит новый мир – мир труда». – Ну? Сильно?
– Постой, я сам, – остановил его Саша, продолжая читать. – «Но для достижения своего полного освобождения ему приходится прежде всего разрушить окончательно эту буржуазную цивилизацию, и только на развалинах ее, из недр освобожденного народа, из среды рабочей коллективности родятся принципы реорганизации этого мира».
Раздался свисток городового. Волков схватил Сашу за руку:
– Мчимся!
Друзья перебежали улицу, нырнули в ворота сада Карамзина и спрятались за «бабой» (так называли гимназисты памятник Карамзину). Они видели, как городовой и еще какой-то суетливый, плюгавый человечишка в черном котелке осторожно, точно то была бомба, принялись отдирать прокламацию, покрикивая на зевак:
– Господа, проходите!
Во время перемены Саша и Волков подошли к забору, но там остались только четыре клочка бумаги – оторванные уголки.
– Чисто сработали! – сказал Волков и весело рассмеялся. – Представляю, какой сейчас там переполох! По всему городу теперь, наверное, ищут бомбы. Ах, жаль, что нельзя было прибрать эту листовку и дать другим почитать. Чертовски здорово там все сказано! Именно так надо; все разнести в прах! Все взорвать! А потом уже строить свое.
– Кто это мог писать?
– Есть люди, – несколько загадочно ответил Волков. – Кстати, я тебя могу познакомить кое с кем при случае. И книг достать.
– Где?
– Ладно, так и быть, скажу. Ты ведь не из тех, кто любит болтать. Мы с Аверьяновым начали собирать библиотеку. Нам удалось уже достать много интересных книг. Чтобы фараоны нас не накрыли, мы решили держать их не в одном месте, а у одного, другого, третьего…
– А что вы мне можете дать? – с загоревшимися глазами допытывался Саша, которому страшно хотелось прочитать многие из тех книг, о которых он только слышал. – Статья о Дюринге у вас, например, есть?
– Есть.
– Слушай, Волков, будь другом: дай хоть на одну ночь. Я, право, не останусь у тебя в долгу.
– Будет сделано! – ответил Волков своей любимой фразой.
– Когда?
– Может, даже сегодня.
– Чудесно! Я буду ждать тебя. Или, может, к тебе зайти?
– Нет. Я принесу.
Волков сдержал слово: вечером он появился с журналом. Сунув его Саше под матрац, посоветовал:
– Там и храни. – Весело рассмеялся, продолжал: – Один мне вернул книгу, а она вся в саже. В печной трубе лежала. Да, ты слышал, какой переполох наделала та прокламация? В гимназии какие-то субъекты шныряли, в пансионе наши фараоны все вверх тормашками перевернули. Хорошо, что я сообразил и ребята почистились, а то хапнули бы несколько наших ценных книг. Кстати, ты не будешь против, если мы тебе на это время принесем кое-что?
– Зачем спрашиваешь? – обиделся Саша. – Немедленно неси!
– Да мы, признаться, – улыбнулся Волков, – уже притащили их.
– Где же они?
– В сад бросили, под кусты акации. А возле забора Аверьянов дежурит.
– Что же ты молчишь? Пошли! Я их в кухне, в своей химической лаборатории, спрячу. Туда без меня никто не заходит.
Друзья пошли аллейкой сада к калитке, выводившей на Покровскую улицу. Саша заглянул в беседку, нет ли там кого-нибудь из малышей, Волков тихо свистнул. На его свист тотчас же откликнулся Аверьянов. Саша хотел отпереть калитку – она всегда была на замке, – но Аверьянов остановил его:
– Я и так перемахну.
Сложив за печкой книги и замаскировав их штативами с пробирками, Саша пошел проводить друзей.
– Агент видел, – говорил Аверьянов, – гимназистов возле прокламации, и, наверное, думают, что это дело наших рук. Так что нам нужно ухо востро держать.
Вернувшись домой, Саша закрылся в кухоньке и принялся смотреть книги, принесенные ребятами. Тут были: «Прогресс в мире живом и растительном», «Происхождение видов», «Рикардо и Маркс», «Кому принадлежит будущее», «Теория и практика прогресса». У него глаза разбежались при виде такого богатства. Он перелистал все книги, любовно сложил их на место и начал читать в журнале «Слово» статью о Дюринге.
Аверьянов не ошибся: после утренней молитвы директор собрал всех в актовом зале и принялся читать мораль. Говорил он долго, нудно, повторяя на разные лады одно и то же:
– Вы должны выказывать беспрекословное повиновение начальству, благопристойность. Вы должны следить за поведением своих товарищей и, когда надо, поправлять их, удерживать от неблаговидных поступков и деяний. Ваша святая обязанность исполнять требования религии и церкви, а также благочестивые обычаи.
Законоучитель протоиерей Петр Юстинов согласно закивал широкой бородой: так, мол, так.
– Ваш долг любить свое отечество, боготоворить священную особу государя-императора и все его августейшее семейство!
– Ну, завел… – шепнул Саше Аверьянов, с трудом удерживая зевок. – «Должны, обязаны» – подохнуть можно.
– Вы должны уважать чужую собственность, – продолжал вещать Керенский, – оберегать ее от всяческих посягательств. Наша гимназия гордится тем, что ни один ее воспитанник не был замешан в преступных политических делах, кои ныне все чаще и чаще возмущают общественный порядок. Вчера вблизи гимназии был обнаружен приклеенный на заборе листок с крамольным содержанием. Некоторые из наших учащихся видели его, однако никто не поднял тревоги, не сообщил мне. Более того, все стремились, не понимая, чем это грозит, прочесть листок. Позорное это, преступное любопытство! Я строго предупреждаю: все, кто будет в чем-либо подобном замечен, понесут самое суровое наказание…
После Керенского так же долго и нудно увещевал гимназистов протоиерей Юстинов, грозя обрушить на их головы небесные кары. Затем принялся честить инспектор Христофоров. Сочли своим долгом высказаться и те учителя, которые больше всего на свете боялись, чтобы их не занесли в списки неблагонадежных. Но то было только начало антикрамольной кампании. С этого дня среди урока то и дело открывалась дверь, и в ней показывалась красная усатая рожа помощника классного наставника:
– Волкова к директору! Ульянова к инспектору! Умова к классному наставнику!
Но как гимназистов ни таскали, ничего от них начальству узнать не удалось.
8
Летом 1882 года Илья Николаевич принялся ремонтировать дом. Вся семья сгрудилась в маленьком флигельке. Саша в это время самостоятельно проходил курс химии по Менделееву. Прекращать занятия ему не хотелось, и он стал просить отца, чтобы тот выделил ему маленькую кухоньку для своей лаборатории. Илья Николаевич, относясь с большим уважением к увлечению сына, разрешил ему занять кухню. Саша с таким жаром взялся за работу, что отец и мать начали опасаться за его здоровье. Мать посылала то Аню, то Володю, то Олю за Сашей. Но, несмотря на всю деликатность и решительное неумение отказывать в просьбах другим, вытянуть Сашу из его кельи было не так-то легко. И часто бывало: посланец, увлеченный опытами Саши, застревал в лаборатории.
9
Василий Андреевич Калашников, в свое время готовивший Сашу в гимназию, несколько лет не был в Симбирске. И как только судьба занесла его туда, он в первую очередь пошел навестить Ульяновых. Поговорив с Ильей Николаевичем, расспросив Аню, как у нее идет учеба, где она думает продолжать образование, он похвалил ее, что она готовится стать народной учительницей, и спросил:
– А где же Саша? Уехал в Кокушкино?
– Нет, здесь. Колдует в пустой кухне, – тоном шутки сказал Илья Николаевич. – Пойдемте, я вас провожу к нему.
У флигеля Илья Николаевич потянул носом воздух.
– Слышите? Целыми днями дышит этими газами. Я, знаете ли, не на шутку начинаю беспокоиться о его здоровье. А с другой стороны, как запретить то, к чему лежит душа? Саша, можно к тебе? – постучав в дверь, спросил Илья Николаевич.
– Пожалуйста, – послышался ломающийся басок.
Саша стоял посреди комнаты и рассматривал на
свет дымящуюся пробирку. На печке помигивало синее пламя спиртовки, на подставке стояла колба с бурлящей в ней синей жидкостью. Маленькая кровать, полки из свежевыструганных досок, уставленные книгами, столик с ретортами, колбами и пакетиками с препаратами – вот и вся обстановка.
Увидев Василия Андреевича, Саша радушно улыбнулся, быстро поставил пробирку в реторту и крепко пожал ему руку.
– Рад. Очень рад вас видеть, – пригласил он и, открыв окно, продолжал: – Я часто вспоминал вас.
– Особенно в первые годы учебы в гимназии, – улыбнулся Илья Николаевич.
– Это верно. Трудно было привыкать. Ну, ничего. Остался всего один год.
– А после гимназии куда? – спросил Василий Андреевич. – В университет?
– Да.
– В Казанский?
Саша посмотрел на отца и, помедлив, как бы собираясь с духом, сказал:
– Нет. Думаю, в Петербург. Там вот, – он указал на раскрытую книгу, лежавшую на столе, – и Менделеев, там и Сеченов, и Бутлеров. А в Казани что? Конечно, в студенческие годы папы, когда там был Лобачевский, Казань славилась…
– И долго еще будет славиться! – ревниво вставил Илья Николаевич. – По чугунным плитам дорожек Казанского университета вышел в мир не один ученый, умноживший славу России.
Василий Андреевич слушал Сашу и незаметно рассматривал его. Это был уже не тот мальчик, каким он помнил его, а статный юноша. Бледное лицо, широкий бугристый лоб у надбровий, овитый густыми, крупно вьющимися волосами. Черные, немного грустные глаза светятся глубокой, напряженной работой мысли. Движения спокойные, размеренные. А в тоне голоса, во взгляде чувствуется такая вера в свои силы, что Василий Андреевич невольно подумал: «Будущий ученый. Он достигнет поставленной перед собой цели».
10
Первый тост был за окончание гимназии. Все чокнулись, проливая вино, и в торжественной тишине выпили.
– Да здравствует свобода! – поднимая вторую рюмку, крикнул Владимир Волков. – Ура!
– Ур-ра!
Тост шел за тостом, закусывать было некогда; пил Саша так много впервые в жизни и начал чувствовать: хмель ударял в голову. Не пить совсем было невозможно, и он крепился, не отставал от всех. Шум стоял невероятный, никто уже никого не слушал, компания разбилась на несколько групп: так было легче каждому провозглашать свои тосты.
– Господа!
– Друзья! Предлагаю! За упокой души злой мачехи латыни!
За этот тост выпили с радостью.
Маленький Леня Саушкин несколько раз порывался сказать тост, но его тонкий голосок тонул в общем гомоне. Наконец он, улучив минуту затишья, вскочил на стул, крикнул:
– За того, кто за весь класс работал!
– За Ульянова!
– Саша, за тебя!
– Саша!..
Все кинулись к растерявшемуся Саше и, выпив, стихли, явно ожидая, чтобы он что-то сказал. Саша, смущенно улыбаясь, молчал. Тогда тот же Саушкин крикнул:
– Ульянову слово!
– Саша, говори!
Наклонив голову, Саша молчал, собираясь с мыслями. Потом обвел всех пристальным взглядом и, выдержав небольшую паузу, начал так, точно думал вслух:
– Я знаю: и нам жизнь тяжкая злую песню будет тянуть:
Покорись – о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…
Но я, как в жизнь вечную, верую: «Пламя юности, мужество, страсть и великое чувство свободы» никогда не угаснут в наших сердцах! Мы никогда не покоримся неизбежной и горькой судьбе!
– Не покоримся! – хором, точно клятву, произнесли все.
11
Итак, девять лет учебы в гимназии позади. В полученном аттестате зрелости указывалось: дан он Александру Ульянову «в том, во-первых, что, на основании наблюдений за все время обучения его в Симбирской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ отличная, прилежание усердное и любознательность ко всем предметам, особенно к латинскому языку и математике… Педагогический Совет постановил наградить его, Ульянова, золотой медалью…»
Саша испытывал такое чувство, точно он из заключения вышел на долгожданную свободу. Теперь не нужно учить отупляюще действовавшие на него древние языки: можно отдаться любимому естествознанию, химии. Выбор факультета был для Саши делом решенным. Родные тоже одобряли его. Но они не решались отпускать сына далеко от себя. Особенно матери не хотелось отправлять Сашу в Петербург. Она то и дело просила его:
– А ты еще раз все взвесь. Казань и ближе, и жить тебе там есть где, и я спокойнее буду.
– Нет, мама, – мягко, но решительно отвечал Саша. – Мне надо ехать в Петербург. Я чувствую, что только там смогу работать в полную силу. Ну, подумай сама: там ведь все наши лучшие ученые.
– Уж очень грустно мне с тобой расставаться, – со вздохом признавалась Мария Александровна. —
Ты тогда хоть от поездки к этому купцу Скачкову откажись.
– Хорошо. Я не поеду к Скачкову.
Давно Сашу уже тяготило то, что он, старший сын, ничем не может помочь отцу, обремененному большой семьей. Закончив гимназию, он тут же принял приглашение купца Скачкова поехать к нему на все лето домашним учителем. Уступив настойчивому желанию матери (отец тоже просил его провести лето дома), он, страшно не любивший менять свои решения, несколько дней угрюмо хмурился, испытывая угрызения совести за проявленную слабость. Но он не только никого не упрекал и не жаловался, но даже и не упоминал об этом; Побыв немного дома, взял ружье и уехал в Кокушкино. Там он с утра до вечера, а иногда и по ночам пропадал где-то на лодке-душегубке.
Большинство гимназистов стремилось получить такую специальность, которая быстрее всего помогла бы сделать карьеру, подняться по чиновничьей лестнице. Чиновник должен служить царю-батюшке верой и правдой, о чем Саше противно было думать. Он боготворил науку, а потому и выбрал физико-математический факультет, естественное отделение. Один знакомый Ильи Николаевича, выражая удивление выбором Саши, заметил:







