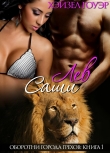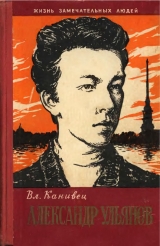
Текст книги "Александр Ульянов "
Автор книги: Владимир Канивец
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
5
Почти каждое лето семья Ульяновых уезжала в деревню Кокушкино. Мария Александровна очень любила эти места. Да и приволье для детей было несказанное! Тут и поход в лес за грибами, и купания, и прогулки на лодках, и шумные игры со сверстниками.
Сборы начинались с ранней весны: готовились удочки, корзинки, папки для гербариев и сотни других вещей, крайне необходимых для жизни в деревне. Каждый строил планы о том, что он сделает за лето. Чем ближе подходил срок отъезда, тем медленнее тянулось время, тем больше все волновались. Но вот, наконец, старшие сдали экзамены, вещи упакованы, пора и в путь! С веселым шумом, с радостно сияющими лицами дети перебегали по трапу на пароход и – прощай надоевший город! Пароход довезет до Казани, а там до Кокушкина рукой подать.
Если у Ильи Николаевича выбиралось несколько свободных дней, он тоже ехал в деревню, настроение праздничной приподнятости детей передавалось и ему. Оживлялась всегда ровная и спокойная Мария Александровна. Возможность вновь побыть в любимых местах радостно волновала ее. Из пыльного Симбирска она уезжала со вздохом облегчения. В городе у нее не было друзей, она чувствовала себя одиноко, а в Кокушкино съезжались ее сестры, с которыми можно отвести душу. Но больше всего она радовалась за детей. На чистом воздухе они поправлялись и к осени возвращались окрепшие, загорелые.
В Казани Ульяновы останавливались у сестры Марии Александровны. Отдохнув немного с дороги, Илья Николаевич нанимал лошадей, и опять начиналась суетня с укладкой вещей на телеги, с распределением мест. Володя, опережая всех, садился на козлы рядом с кучером и, весело смеясь, принимался шутить:
– А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?
– И овес хорошо пособляет, – заправляя щепотку табаку в нос, в тон Володе отвечал дядя Ефим.
– Зачем табак нюхаете?
– А, э-э… Чхи-и! А это, сказать правду, мозги прочищает.
– Слышал, Саша? – оборачиваясь к брату, кричал Володя, озорно сверкая карими глазами. – Чиханье мозги прочищает! Здорово, правда?
После этого Володя говорил, когда кто-нибудь при нем изрекал глупость: «Чихни», – что значило: прочисть мозги.
Каждый раз, подъезжая к Кокушкино, дядя Ефим говорил:
– Гляжу я на вашу деревнюшку и думаю: что за чудо – така она махонькая, да така развеселая. Обратно даже вертаться не хочется. Ей-ей, чистую правду сказываю.
Кокушкино действительно было очень живописным. Стояла деревенька на высоком берегу реки Ушни. У самого обрыва громоздился старый дом, а через дорогу от него – флигель, окруженный садом. От мельницы к дому тянулся изрядно заилившийся пруд, из которого Саша таскал лягушек для своих опытов. И не только пруд был запущен – все постройки приходили в ветхость, так как не было средств на ремонт. В старом доме печи дымили, крыша протекала, и, как только налетала гроза, все комнаты заставлялись тарелками и ведрами. Прогнившие мостики к купальне проваливались, дырявая лодка тонула.
Однако эти неудобства совсем не замечались, и «махонькая деревнюшка» казалась Саше самым красивым уголком на земле. И если кто-нибудь начинал хвалить другие места, он недоверчиво и ревниво спрашивал:
– Неужели там лучше, чем в нашем Кокушкино?
Отдыхать, в смысле праздно проводить время, Саша совсем не умел. Освободившись от надоевшей латыни и древнегреческого, он с жаром брался за свои любимые естественные науки. В Кокушкино он приезжал со связками книг. Вставал рано и каждое утро, никогда не отступая от этого правила, проводил за занятиями. Чтение подкреплял опытами: препарировал лягушек, собирал и изучал под микроскопом разных червей. Делал он все серьезно и с непреходящим увлечением.
Илья Николаевич говорил ему порой:
– Летом надо больше все-таки отдыхать.
– Ты же сам не раз говорил: любимый труд – самый лучший отдых.
– Верно. Но все имеет свою меру. Вот сегодня ты во сколько встал?
– В четыре. И убедился, нужно вставать еще раньше! На восходе солнца особенно хорошо работается. Тихо вокруг. Кукушка где-то далеко подает голос. И все тайны природы кажутся как-то ближе, понятнее…
Илья Николаевич слушал сына, смотрел на его бледноватое лицо с крупными выразительными чертами, на большие черные глаза, светящиеся тем озарением, которое свойственно только людям, способным с фанатичным увлечением отдаваться любимому делу, и убеждался: у Саши все есть для того, чтобы стать ученым.
Все население Кокушкино часто ходило в лес по ягоды и грибы. Но если народу набиралось уж очень много, Саша не приставал к компании: он не любил шума и суеты. Он даже прогулки использовал для своих занятий: то гербарии собирал, то коллекции яиц. Но когда со старшими детьми в Черемышевский лес шел Илья Николаевич, Саша тоже откладывал книги: прогулки с отцом всегда были очень интересны. Отец пел студенческие песни своего времени. Одну из них Саша особенно любил и, как только они уходили подальше от деревни, просил:
– Давай споем «По духу братья мы с тобой»…
И когда отец, мягко картавя, затягивал чуть хрипловатым баском песню, Саша громко и часто не в лад подпевал ему:
Любовью к истине святой,
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верю, тотчас отзовется
На неподкупный голос мой…
6
Как рано Саша, бывало, ни встанет, а на реке уже чуть проглядывает сквозь молочную пелену тумана фигура человека. Лодки в тумане не видно, а потому и кажется: человек не плывет, а медленно идет по воде. Такое впечатление усиливалось еще и тем, что человек этот больше походил на пророка, чем на сельского рыбака: у него длинные вьющиеся волосы с проседью, высокий лоб, рассеченный глубокой морщиной, глаза грустно-скорбные и всегда устремленные куда-то в одну ему видимую даль…
Саша осторожно спускается с обрыва к реке. Ему хочется поговорить с рыбаком, но тот проплывает мимо, не замечая его. Саше вдруг приходит мысль: а ведь и жизнь этого удивительного человека похожа на его призрачное движение в тумане.
Карпий жил в соседней с Кокушкино деревне Татарской. Его старая, покосившаяся от времени изба почти всегда пустовала: хозяин неделями пропадал то на охоте, то на рыбалке, то где-то на заработках. Жалкий, сиротливый вид избы, заросшей по самые окна бурьяном, лучше всяких слов говорил о том, как неуютно живется здесь ее хозяину. Саша часто заходил – сначала с отцом, а потом и сам – к Карпию, с которым можно было поговорить на любую тему. Всевозможных историй он знал бесконечное множество и рассказывал так интересно, что Саша слушал его, боясь шелохнуться. Речь свою Карпий пересыпал пословицами и поговорками. Но делал он это не ради красного словца: он в них вкладывал те мысли, которые нельзя было высказать прямо. Даже на традиционный вопрос Саши, как идут дела, он отвечал со своей неизменной мягко-иронической улыбкой:
– Живу, как блин на поминках: и масла много, и слопать могут…
После каждой удачной охоты или рыбалки Карпий появлялся в Кокушкино с добычей. Просил он за рыбу и дичь гроши и страшно конфузился, если его заставляли брать больше.
– Куда столько? – пугался он, отступая к порогу. – Мне бы на порох… Его только и нужда покупать… Э-ха!.. – вздыхал он, видя, что никак уж не отказаться, и, неловко комкая бумажку, философски заключал: – От них вот все и беды наши…
Илья Николаевич часто приглашал Карпия к себе в кабинет и подолгу беседовал с ним. Карпий прожил трудную, полную лишений жизнь. Будучи человеком очень вольнолюбивым, он не выносил унизительного положения раба и несколько раз убегал от помещика, но его ловили, возвращали обратно и, жестоко выпоров кнутом, опять заставляли тянуть ненавистную лямку рабочего скота. У Саши кровь закипала в сердце, когда он слушал эти рассказы Карпия.
– А сейчас что? – говорил, хмурясь, Карпий. – Одна только перемена: тогда продавали души нашего брата за медный грош, а теперь их за тот же грош покупают. Вот и выходит: хоть верть-круть, хоть круть-верть, а все равно в черепочке смерть. А какая сила гибнет? Подумать просто страшно! Для того чтобы человек мог сделать то, ради чего на свет родился, ему нужна полная воля. А у нас так: одно дают, другое отбирают, а третье и вовсе запрещают. Или и еще что-нибудь похуже, – добавлял после паузы Карпий. – Все у нас нужно делать с позволения начальства, точно мудрее его уж никого и на свете нет. Но всем же известно: по разрешению человек не может быть ни вольным, ни смелым. И я очень понимаю тех, кому воля жизни дороже.
Саша научился у Карпия ловко управлять лодкой-душегубкой и днями пропадал на реке. Как-то Аня упросила его, чтобы он и ее взял с собой. Саша не мог отказать, и они поплыли вдвоем. Утро было теплое, солнечное. День разгорался хороший. Но к обеду налетел ветер, небо затянуло тучами, начал накрапывать дождь. Ни плаща, ни зонтика Аня не захватила, а была простужена, и Саша забеспокоился.
– Очень замерзла? – тревожно спрашивал он, со всех сил налегая на весла.
– Ничего…
До Кокушкино было еше далеко, и Саша предложил:
– Давай пристанем в Татарском и зайдем к Карпию?
– Хорошо, – согласилась Аня. – Я давно хочу посмотреть, как он живет. Вчера, когда он ушел от нас, отец сказал маме: «Вот настоящий поэт и философ». Это его изба? Странно, но я почему-то такой ее и представляла…
– Бежим! – схватив ее за руку, крикнул Саша.
Гроза, полыхая молниями, подошла к деревне, и хлынул дождь.
– Э, каких гроза мне гостей пригнала! – удивленно воскликнул Карпий. – Вот уж истинно, как в сказке: «И послал царь огонь да царица водица нм землю-матушку чудо капелек – дочерей своих. И заполыхали на земле капельки эти цветами-красавицами несказанными…» О, как вы, барышня, кашляете! Садитесь ближе к огню, – предлагая Ане единственную табуретку, говорил Карпий, – а я только с рыбалки вернулся, уху наладил, да такую, точно по заказу: из ершей, из окуньков. Слышите, каким она ароматом дышит? Сейчас я вас угощу…
Аня дрожала от холода, она сильно промокла, и обжигающе-горячая уха показалась ей очень вкусной.
– Вспомнилась мне одна история, – начал рассказывать Карпий. – Давно это было, а до сих пор у меня те дети перед глазами стоят. Ходил я с отцом в Казань на ярмарку. При царе Николае это еще было. На обратной дороге нас дождь так вот, как вас, накрыл. Свернули мы с тракта к одному знакомому мужику. Заходим в избу – что за оказия: полно ребятишек. В солдатских шинелях. Все мокрые, грязные, замученные. И по обличью видать: не наши, не русские. «Где ты, Матвей, – говорит отец, – их подобрал?» Матвей только рукой махнул. Что ж оказалось: то под конвоем гнали куда-то жиденят, как самых последних арестантов. Зашел тут и солдат-конвоир с сухарями. Оделил всех. Они взяли сухарики, гляжу – ах, господи! – у многих-то и силенки недостает откусить от того сухаря. У меня и сердце кровью зашлось. «За какие же грехи смертные на них такая кара наложена?» – спрашивает отец солдата. «А про то начальству, мол, лучше знать». – «Да они же помрут все!» – говорит отец ему. «Видно, так, – отвечает солдат, – мы уж половину, почитай, похоронили, а дороге-то конца не видно…»
Карпий встал, тряхнул большой седой головой, прошелся несколько раз из угла в угол по тесной комнатке и только тогда продолжал. В голосе его звучали уже не боль и страдание, а неистовый гнев.
– Не успели эти мученики отогреться и сухари погрызть, как кто-то постучал в окно и крикнул: «Строиться!» Дождь моросил, грязь была непролазная, а маленькие каторжники, зажав сухари в ручонках, брели прямо в могилы свои. Мы с отцом, сами не зная зачем, тоже пошли за ними. Уже за околицей упал один в лужу и начал барахтаться, стеная, как слепой кутенок. Отец кинулся поднять его. Но тут другой упал, третий…
Гроза, побушевав над деревней, отступала к Черемышевскому лесу. Глянуло солнце, и капли на окне заискрились. За рекой огромной подковой вставала радуга. Трава, кусты, деревья – все так сверкало, что больно было смотреть.
– Благодать-то какая! – вздохнув всей грудью, радостно воскликнул Карпий. – Люблю! И грозу и радугу. И когда гляжу на всю эту красоту господню, так здесь вот, – он обхватил руками свою широкую грудь, – и теснится что-то такое, а слов не хватает, чтобы сказать… Так заходите при случае.
– Спасибо, – ответил Саша и крепко пожал руку Карпия. Он всю дорогу молчал и, только когда причалил в Кокушкино, сказал: – Славный человек.
– Изумительный! – восторженно отозвалась Аня, которой давно хотелось сказать свое мнение, но она не решалась, видя, с какой глубокой сосредоточенностью Саша обдумывает разговор с Карпием. – Я просто влюблена в него! И как жаль, что жизнь его сложилась трудно…
– А почему? – с несвойственной ему резкостью воскликнул Саша. – Кто виноват? Кто тех детей замучил? Кто в тюрьмы сажает лучших людей? Кто в Сибирь их гонит? Царь, вот кто! И не зря в него стреляют!
7
Звонок давно уже затих, а учитель латинского языка Пятницкий не торопится отпускать шестой класс. Презрительно морща худое, желчное лицо, он продолжает задавать каверзные вопросы потеющему у доски Вале Умову.
– Так-с… – цедит он сквозь редкие гнилые зубы и, наслаждаясь собственным красноречием, ядовито спрашивает: – Вы сами, если, разумеется, не секрет, сделали сие открытие или, быть может, у кого-то позаимствовали? Гм… Судя по тому, как скромно вы молчите, надо полагать, человечество обязано вам, не так ли? Очень хорошо-с. Одно только жаль: ваше открытие, уважаемый, опоздало ровно… Волков, может, вы мне поможете подсчитать, на сколько столетий опоздало это открытие?
– Мне кажется, уже звонок был, – хмурясь и неохотно поднимаясь с места, отвечает Волков.
– Благодарю вас. И прошу, извольте пройти вместе со мной к директору. А в журнал я вам ставлю единицу. Вот так-с… Садитесь, Умов. Вас я вынужден порадовать нулем…
– За что же? Я сделал перевод…
– Хорошо-с… Чтобы вы не завидовали Волкову, ставлю и вам единицу по поведению. До свидания, господа!
Стук закрытой Пятницким двери отдался в классе неистовым взрывом негодования. Все закричали, воинственно размахивая руками. В первые минуты голоса сливались в общий гул, и только после того, как страсти утихли, Саше удалось разобрать, что кричит Волков:
– Избить! Предлагаю избить!
– Освистать!
– Тише, друзья!
– Предлагаю…
– Избить!! – громче всех кричал Волков.
За шумом никто не слышал звонка, и все утихли только тогда, когда в дверях появился новый учитель.
После уроков все пошли к Волге и, перебивая друг друга, строили планы мести своему ненавистному врагу. Решили так: не отвечать на вопросы Пятницкого. Отказываться спокойно, вежливо, но – это предложил Саша – урок знать назубок.
Первые ноли и единицы Пятницкий поставил с большим наслаждением. Но когда на ногах стояла уже половина класса, а вновь вызванные продолжали отказываться отвечать, он почувствовал, что затеяно что-то недоброе. Пристальным взглядом своих маленьких вечно красных глаз он обежал всех, спросил:
– Кто может ответить?
Все только головы опустили ниже.
– Ульянов! Прошу! – забыв о ехидно издевательском тоне, крикнул Пятницкий.
Саша встал и, не поднимая глаз, тихо промолвил:
– Извините, но я… не могу отвечать.
– Что-о?!
– Я не могу отвечать, – тихо, но твердо повторил Саша.
– Почему?
– Так…
– Значит, вы тоже не знаете урока?
– Знаю.
– А-а… Господа изволят бунтовать! Превосходно! Садитесь! Вста-ать! – наливаясь кровью, заорал Пятницкий. – Садитесь! Встать! Встать! Встать! – топая ногами, кричал взбесившийся Пятницкий, но гимназисты, победно улыбаясь, продолжали сидеть.
Кончилась эта борьба тем, что Пятницкому пришлось уехать из Симбирска. Но на новом месте, в Саратове, его все-таки избили гимназисты.
В 1880 году в Симбирске стараниями Ильи Николаевича было открыто женское начальное училище. Вере Васильевне Кашкадамовой было предложено место учительницы. Знакомые говорили ей:
– Ульянов строгий, требовательный начальник. Ему трудно угодить. Он и сам работает с отдачей всех сил и другим поблажек не дает.
Наслушавшись таких разговоров, Кашкадамова с дрожью в сердце шла на свидание с Ильей Николаевичем. Разыскав на Московской улице небольшой дом Ульяновых с веселыми, уставленными цветами окнами и зеленой, как весенняя травка, крышей, она несколько минут стояла у калитки, прежде чем решилась открыть ее. Во дворе ее встретила невысокая, просто одетая женщина с красивым, приветливым лицом. Она мягко и, как показалось Вере Васильевне, ободряюще улыбаясь, сказала:
– Вы к Илье Николаевичу?
– Да.
– Пойдемте, я провожу вас.
– А может, он занят, так я после…
– Нет-нет, он говорил, что ждет вас.
– Ждет?! – испугалась Вера Васильевна. – И давно?
– Нет. Он только что вернулся. Прошу вас, – продолжала Мария Александровна, пропуская Веру Васильевну в гостиную. – Я сейчас скажу ему. – Она легкой, бесшумной походкой приблизилась к двери, тихо постучала. – Илья Николаевич, к тебе гостья. Можно?
– Да, да, пожалуйста, – послышался из кабинета глухой басок, и в дверях показался Илья Николаевич.

Илья Николаевич Ульянов

Мария Александровна Ульянова
Вера Васильевна глянула на строгую складку меж бровей, встретилась с пристальным взглядом его глаз и совсем оробела. Как и предсказывали ей знакомые, Илья Николаевич встретил ее суховато, официально. Она сидела у его стола на черном мягком кожаном кресле и чувствовала себя провинившейся ученицей. После первых общих вопросов он начал спрашивать, какую педагогическую литературу она читает. Она назвала несколько книг и по выражению лица его поняла, что мало читала. Думала, что Илья Николаевич станет выговаривать ей за это, но он ничего не сказал. А в конце беседы заметил:
– На нас, учителей, возлагается огромная ответственность, требующая постоянной и упорной учебы.
– Я и не знаю… смогу ли справиться, – начала Вера Васильевна, – может, эта работа совсем не по мне?..
– Справитесь, – ответил Илья Николаевич. – А трудности… – Он с улыбкой взглянул ей в глаза и вдруг спросил как-то задушевно: – Вы думаете, у меня их нет? Есть! И немало!
Долго они в тот день беседовали, и Вера Васильевна ушла успокоенная, довольная тем, что ей придется работать с Ильей Николаевичем.
Вера Васильевна так привыкла к постоянным советам Ильи Николаевича, что, если случалось, он не появлялся в училище несколько дней, сама шла к нему. Нередко вопросы были незначительны, а то и просто мелочны, но Илья Николаевич всегда терпеливо выслушивал ее. Вышел учебник Евтушевского, Вера Васильевна залпом прочитывает его и бежит к Илье Николаевичу обсуждать. Появилась статья в журнале – опять к нему. Нередко случалось, в самый разгар спора дверь кабинета тихо отворялась, и Мария Александровна с улыбкой спрашивала:
– Илья Николаевич, скоро вы кончите?
– Сейчас, сейчас!
– У нас самовар давно уже готов.
– Очень хорошо! – отодвигая учебник и вставая с кресла, обрывал Илья Николаевич спор. – Идемте, Вера Васильевна, чай пить.
И тут закон: деловые разговоры никогда не выходят за порог кабинета. В столовой, где собиралась вся семья, Илья Николаевич словно преображался: весело смеялся шуткам, рассказывал школьные анекдоты, которых он знал множество. Громче всех смеялись Володя и Оля.
– А где же Саша? – спрашивал Илья Николаевич, заметив, что старшего сына нет за столом.
– Он у себя, – докладывал Володя, – закрылся и какой-то опыт делает.
– Дым в окно валит, точно там пожар, – говорила Оля.
– Истинный алхимик, – с добродушной улыбкой замечал Илья Николаевич. – Но чай, насколько я знаю химию, никаким опытам не может повредить. Ну-ка, кто позовет его?
– Я! Я! – кричали в один голос Володя и Оля и, перегоняя друг друга, бежали наверх, в комнату Саши. Слышался топот их ног по лестнице, стук в дверь, и вскоре они, торжествуя, вводили за руки своего любимого брата. Саша, увидев Веру Васильевну, смущенно раскланивался. В общем разговоре он почти не принимал участия, и по внутренне сосредоточенному выражению лица его было видно: мысли его заняты прерванной работой.
– Ну, как скоро золото добудешь? – подтрунивая над Сашей, спрашивал Илья Николаевич.
– Скоро, – в тон ему, без тени обиды отвечал Саша.
– И сколько?
– Да пуда три.
– О! Так много? – кричал Митя, приняв весь этот разговор всерьез. – Что ж ты с ним будешь делать?
– Отдам нищим два пуда, пуд – тебе.
Все весело смеялись, а Саша, воспользовавшись этой минутой, вставал из-за стола, уходил к себе.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1
Влияние Саши на меньших сестер и братьев (да и старшую Аню) было очень заметным. Прислушивались к его мнению и родители. Он высказался против того, чтобы Володю отдавали в приготовительный класс гимназии, и родители согласились. А ему в то время было всего двенадцать лет!
Саша не терпел, когда кто-то пытался не убеждением, а силой повлиять на него, и никогда сам так не поступал. Это чувствовали те, кто общался с Сашей, и радостно тянулись к нему, готовы были, как говорил младший брат Митя, в огонь и в воду идти за него.
С детства Саша отличался большой вдумчивостью. Он обо всем старался составить свое мнение, каких бы трудов это ему ни стоило. Но если уж он уяснял какую-то идею, увлекался ею, он отдавался ей со всею страстью души.
Но было бы неправильно думать, что только влияние Саши сказывалось так ощутимо в семье. Нет. Талантливая семья Ульяновых была очень дружной. Развитие всех детей шло в ней гармонично. Все они постоянно обогащали и дополняли друг друга. Такая обстановка общего, духовного единения играла огромную роль в становлении характеров, в формировании общественных идеалов.
Мария Александровна все силы ума и души безраздельно отдавала детям. Подмечая плохие черточки в характере детей, она очень терпеливо и настойчиво боролась с ними. Она не только не прибегала к наказаниям, но даже голоса не возвышала, а дети беспрекословно слушались ее. Дети любили ее, учились у нее спокойствию и выдержке.
Саша никогда не слышал, чтобы отец и мать спорили и не сходились в чем-то. Если так даже и было, то дети об этом не знали. Перед ними отец и мать выступали «единым фронтом». Вообще же отец и мать проявляли исключительное внимание и заботу друг к другу. Постоянное согласие родителей, их нежная дружба создавали ту обстановку общего душевного спокойствия, в которой так хорошо жилось и работалось всем.
2
Илья Николаевич не имел особой канцелярии и всех принимал дома. Канцелярские дела он тоже вел сам. В дверь его кабинета постоянно стучали рассыльные, учителя, учительницы, крестьяне. Однажды Саша засиделся с отцом за шахматами. Часы в столовой пробили уже одиннадцать, когда послышался стук в дверь.
– Я посмотрю, кто там, – встал Саша.
– Нет-нет, – остановил его отец. – Я сам. Это, видимо, ко мне, что-то экстренное.
Он вышел и вскоре вернулся с телеграммой. Надел очки, прочел и озабоченно нахмурился, потирая лоб.
– Мда-а…
– Что случилось?
– Заболел один учитель. Тиф. Посылали в Покровское за врачом, а тот ехать отказался. Мда-а… Вот она, Саша, жизнь народного учителя. Никому до него нет дела. Получает он гроши – одному учителю за год земство выплатило всего сорок три копейки жалованья! – ютится в угарных, промерзающих насквозь сторожках, воюет со старшиной, с попом, с писарем, с мироедами даже за право песни петь с ребятами в школе. Именно за эту любовь к делу на него ополчаются все. Ему никак не могут простить то, что он вышел победителем в борьбе с законоучителем – человеком тупым, злобным, вечно пьяным и скандальным. И вот они хотят всякими правдами и неправдами выжить его.
– Куда ты, папа? – спросил Саша.
– На телеграф. Нужно сейчас же сообщить, что я приму все меры.
– Давай я схожу.
– Нет, я сам. Возможно, мне удастся с кем-то из земства переговорить. Дело ведь не терпит отлагательства.
– Я провожу тебя.
– Хорошо.
Ночь стояла тихая, но такая темная, что в двух шагах ничего не было видно. Взявшись под руку, Илья Николаевич и Саша с трудом добрались до телеграфа. Увидев Илью Николаевича, дремавший телеграфист засуетился.
– Зря волновались, – улыбаясь, говорил он, – ночью там все равно никто телеграмму не понесет. Это я доподлинно знаю. Доставят ее только завтра,
– Только завтра… – говорил про себя Илья Николаевич, уходя с телеграфа. – А когда же к нему врач доберется? Нет, придется все-таки сегодня побеспокоить…
Долго Илья Николаевич и Саша стояли у подъезд да председателя земской губернской управы. Наконец из-за двери послышался заспанный, раздраженный голос швейцара:
– Кого там носит?
– Откройте.
– Илья Николаевич? – узнав по голосу посетителя, спросил швейцар, распахивая дверь. – Простите, ваше превосходительство. Никак не думал. Никак не предполагал в такой поздний час… Проходите, ради бога… Прикажете доложить?
– Что случилось, Илья Николаевич? – запахивая на ходу халат, испуганно спрашивал председатель управы.
– Один учитель заболел. Тиф.
– И только? – удивленно поднял брови председатель. – А я, простите, думал, город опять горит.
– Он в тяжелом состоянии, – не обращая внимания на иронию председателя, продолжал Илья Николаевич, – а врач отказался посетить его. Я прошу вас, дайте распоряжение, чтобы врач немедленно выехал к больному.
– Хорошо, – сухо ответил председатель, – я завтра дам телеграмму.
– Я буду вам очень обязан, если вы сделаете это сегодня, – мягко, но настойчиво продолжал Илья Николаевич.
– Если вы так желаете, извольте! Никифор, подай мне бумагу и чернила! – председатель быстро написал текст телеграммы, сердито сунул ее швейцару: – Снеси сейчас же на телеграф!
– Я сам это сделаю, – сказал Илья Николаевич, – мне почти по пути.
– Как угодно.
– Прошу извинить за беспокойство. Потревожить вас я решился только потому, что боялся: завтра может быть уже поздно. Покойной ночи!
Вернувшись домой, Илья Николаевич долго не мог успокоиться, и Саша, уже засыпая, слышал, как он ходил тяжелыми шагами по кабинету, кашлял. Утром Саша проснулся рано, но отца уже не было дома. Вернулся он только к вечеру, усталый, но довольный. Врач поехал к больному и будет через день навещать его.
Учитель Волков вскоре поправился и приступил к занятиям.
3
В те редкие дни, когда поездка Ильи Николаевича выдавалась удачной, он возвращался домой веселый и счастливый. Он весь светился, смеялся, шутил. Обстоятельно, не замечая, что повторяется, рассказывал, как ему удалось сломить – упрямство местных властей и добиться денег для новой школы. Саша слушал отца, и ему невольно казалось: нет на свете более важного дела, чем строительство школ. Он радовался за отца, за ребят, которые будут учиться.
– Я только учительницей пойду, – горячо говорила Аня, – это сейчас самое главное! Самое трудное! Мне рассказывали об одной учительнице. Она не только учила ребят, но собирала крестьян по вечерам, читала им книги, рассказывала обо всем. Но тут кто-то донес на нее. Приехали с обыском, принялись допрашивать перепуганных крестьян. И хотя все только хвалили учительницу, ее все-таки арестовали. Когда ее увозили, вся деревня плакала! Ну, разве это не героиня?
После ужина Илья Николаевич приглашал Сашу к себе в кабинет сыграть партию в шахматы. Расставляя фигуры, спрашивал доверительным тоном:
– Как занятия?
– Отлично, – коротко отвечал Саша.
– Что нового прочел? Или все Пушкина штудируешь?
– Нет. Забросил.
– Надолго ли?
– Совсем.
– А-а, понимаю, – весело прищурился Илья Николаевич. – Ты Писарева прочел.
– Да, – немного смущенно, как бы стыдясь смены мнений под чужим влиянием, ответил Саша и сделал ход, чтобы отвлечь отца от этого разговора.
В детстве Саша без конца мог перечитывать стихотворения Пушкина и яростно спорил с Аней, которая предпочитала Лермонтова. Но после того как он прочел Писарева, его любовь к Пушкину значительно охладела.
Восторженный отзыв Писарева о романе Чернышевского «Что делать?» так взволновал его, что он не мог оставаться один в комнате и, хотя уже было поздно, пошел к Ане.
– Аня, ты отдыхаешь?
– А что случилось? – увидев Сашу, спросила Аня.
– Послушай! – не отвечая на ее вопрос, сказал Саша с той торжественностью, с которой преподносятся необычные открытия. – «Всем друзьям и врагам этого романа одинаково известно, что он произвел на читающее общество такое глубокое впечатление, какого не производило до сих пор ни одно творение патентованных поэтов».
– Очень хорошо сказано!
– А какие тут точные мысли о страстной, безграничной, даже безумной любви к идее! Слушай: «Если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примеры тех странных отношений, которые могут существовать между человеком и идеей, то вы должны будете обратиться не к художникам, а к исследователям или к политическим деятелям. К чести человеческой природы вообще и человеческого ума в особенности надо заметить, что до сих пор, кажется, ни один человек не пошел на смерть за то, что он считал красивым, и, что напротив того, нет числа тем людям, которые с радостью отдавали жизнь за то, что они считали истинным или общеполезным. У искусства не было и не может быть мучеников. Наука и общественная жизнь, напротив того, уже давно потеряли счет своим мученикам».
– Как у искусства нет мучеников? – горячо запротестовала Аня, не перестававшая мечтать о поэтических лаврах. – А Радищев? А Чернышевский? А сам Писарев?
– Они были в первую голову политическими деятелями.
– Да, но выражали они свои мысли через литературу, через искусство!
– Верно. Но искусство было для них только формой выражения своих идей. Да и стихи есть разные. Одни звучат, как набатные колокола, а другие убаюкивают, усыпляют и без того дремлющую гражданскую совесть. И тот же Гейне, которого ты так боготворишь, говорил, что его совсем не волновало то, хвалят или бранят его песни, но он всегда желал, чтобы на его могиле лежал меч, так как он считал себя вечным солдатом, воюющим за благо человечества. А как точно Писарев говорит о Рахметове! Слушай. «Такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастье; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать».
– Изумительно! – восторженно воскликнула Аня. – Я отказываюсь брать уроки музыки. У меня, может, действительно, как говорит Писарев, больше способностей шить башмаки, чем играть на фортепьяно. И в Москву на выставку не поеду: довольно того, что я и так до сих пор сижу на шее у родителей. Не знаю только, как мне эту беду одолеть. Я не могу прочитывать каждый день даже по пятьдесят страниц, а Писарев говорит: тот, кто не прочитывает ежедневно до ста страниц, никогда не будет образованным человеком!