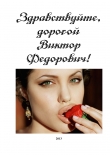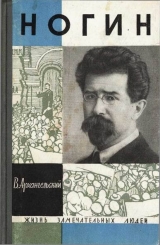
Текст книги "Ногин"
Автор книги: Владимир Архангельский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Передовые люди России и особенно Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Писарев дали понять ему, что истинная жизнь не в чинах и орденах. Правда, он не пошел в народ, но по-своему приблизился к нему: построил ремесленное училище для крестьянских детей, открыл в селе больницу, ясли. Потом пытался понять увлечение своей матери, которая толковала евангелие в духе английского проповедника Редстока. Но это были лишь поиски бескорыстной и полезной деятельности, а к тому времени, когда наметился разрыв с высшим светом, вышел он в жизнь без всяких определенных убеждений.
Семнадцать лет назад, осенью 1883 года, Чертков встретился с Толстым. Яснополянский мыслитель увидел в нем те черты, которые он ставил тогда превыше всего на свете: презрение к общественному мнению, независимость по отношению к власть имущим, настойчивость в достижении задуманного и готовность пострадать за свои убеждения. Дима, как называл Толстой Черткова, проникся убеждениями Льва Николаевича, смело порвал с высшим светом и стал зеркалом своего великого друга.
Виктору нравилась эта нежная преданность другу. Но он никак не мог понять, зачем, например, отдавать столько сил и воли сектантам-духоборам. Ведь именно их переправлял Чертков из России в Канаду, за что и был выдворен из России. И к чему тратить так много энергии на издание тощих книжек, трактующих евангельские тексты в толстовском духе?
Правда, Чертков напечатал полный текст «Воскресения», без цензурных урезок. И Виктор в первую же перлийскую ночь прочитал этот роман. И бесконечно был благодарен Толстому за беспощадное разоблачение всех социальных и моральных устоев царской России. Но почти инстинктивно сопротивлялся он той характерной черте «толстовства» в романе, которая раскрывалась в проповеди нравственного усовершенствования и непротивления злу насилием.
До глубины души ненавидел Ногин насилие над личностью, народом, классом и считал, что сопротивление режиму Николая II и капиталистам – истинное призвание лучших людей его поколения. Он доходил даже до крайностей и не раз говорил Андропову: а не рано ли отказываться от террора против таких мерзких типов, как Пирамидов и Клейгельс?
– И что же Чертков не подсказал Толстому, что всякое оправдание зла – во вред народу российскому? Народ пробуждается, а великий художник твердит ему: «Терпи зло, страдалец!» «Да на что это похоже?» – горячился Виктор.
– Чертков и сам так мыслит, и все толстовское ему дороже всех чудес мира. Он признает революцию духа, а не действия, внутреннего освобождения, а не насилия. В этом его жизнь. Поглядите, как он бережно хранит в сейфе каждую строчку своего друга. Но он способен и к активным действиям. Вспомните, как он поработал в «Посреднике», – напоминал Сергей.
Конечно, деятельность в «Посреднике» была большой заслугой Черткова: пятнадцать лет он выпускал в свет серьезную народную литературу с рисунками Сурикова, Репина, Кившенко. Дешевые сытинские выпуски рассказов Толстого, Тургенева, Лескова и других классиков подрубили корень у самого распространенного на Руси писателя Кассирова (Ивина), который заполонил книжный рынок такими лубочными повестями, как «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» и «Еруслан Лазаревич».
– Такую бы волю да такую преданность в дружбе Толстому направить бы в рабочее движение! Вот была бы база для наших изданий!
– Мечтатель вы, Виктор Павлович! – говорил Андропов. – Владимир Григорьевич никогда не уйдет от своего великого Льва! До самой смерти будет идти с ним, мне это ясно. Да и Лев Николаевич весьма ценит его влияние во всех делах, и даже в личной жизни…
В доме у Чертковых не было того подчеркнутого опрощения, с каким жил в Ясной Поляне и в Хамовниках Лев Николаевич Толстой. Но все тут шло под его знаменем, потому что в кабинете Черткова он и Андропов приводили в порядок дневники Толстого, вели переписку о сектантах и готовили новые материалы для периодического органа «Pree Age Presse». А рядом работала типография, и первые же оттиски направлялись в Хамовнический особняк в Москве.
Часто сиживал Виктор в типографии. Ему пришлись по душе наборщики-латыши Весман и Розен и особенно обрусевший немец Густав Шиллер.
Густав дорожил местом, но радости не выказывал:
– Работать, конечно, везде хорошо. Но тут слишком много бога и всяких проповедей. Погорячей бы чего-нибудь, чтоб жизнью пахло и светилось неугасимым огнем!
Через несколько месяцев по рекомендации Виктора и его лондонских друзей этот наборщик оказался в Германии, где печаталась «Искра». Нашел Густав дело, о котором мечтал!
Каждый день Виктор бродил по окрестностям. Он изучал английский язык и пытался беседовать с фермерами, жадно схватывая на лету каждое слово. А иногда заглядывал к Бонч-Бруевичу. Владимир Дмитриевич всегда был на месте: он, как и Андропов, помогал Черткову в его делах и вел большую переписку. Но всей душой стремился к Ульянову. Они встретились шесть лет назад в Москве, а недавно Ульянов прислал ему записку, приглашая заняться экспедицией «Искры».
– Уеду, скоро уеду! – говорил Бонч. – Вот приведем в порядок дневники Льва Николаевича за девятнадцатый век, и покачу! Поверите ли, я страдаю уже оттого, что не чувствую здесь биения марксистской мысли. То ли дело в Москве! Как мы тогда прокладывали путь!
И вспоминал о начале девяностых годов, когда он был участником первых марксистских кружков в древней столице, встречался с Анатолием Луначарским, Сергеем Мицкевичем и Мартыном Лядовым. Мицкевич и братья Масленниковы печатали тогда на автокописте первые оттиски пламенной книги «Что такое «друзья народа»…».
– Не хлебом единым жив человек, не хлебом единым! – Бонч взволнованно ходил по комнате. – Это, конечно, тоже дело, – он показывал Виктору свежие оттиски, только что принесенные из типографии. – Но нужно – к Ульянову, к Ульянову! Кряжист, умен и мыслит, как молодой Маркс!
В эти дни мать Черткова приобрела для своего ссыльного сына небольшой хуторок в районе Борнемауса в южной части Англии, возле местечка Крайстчарч. И семья Чертковых решила перебираться туда со всем издательским хозяйством.
Виктор предложил Сергею хотя бы на, время оставить службу и уехать вместе с ним в Лондон.
– Ведь все равно Чертков не платит вам ни копейки. А за одни харчи – какая это служба!
И Сергей согласился.
В последний перлийский вечер гуляли вчетвером: Ногин, Андропов, Бонч и Чертков. Это была замечательная группа: все, как на подбор, русские красавцы, словно гвардейцы в штатском платье, один выше другого.
Встретился им фермер. Он снял шляпу, поклонился и что-то сказал с удивлением. Трое засмеялись. Не понял лишь Виктор и спросил:
– О чем это он?
– Удивился, как это в России уродились такие молодцы, что им может позавидовать даже самый высокий лондонский бобби, – пояснил Чертков.
Когда уже подходили к дому, Владимир Григорьевич спросил Андропова:
– А может, вы вернетесь к нашим старым пенатам, как только обживется Виктор Павлович в Лондоне?
– Не обещаю. Посмотрим, – уклончиво ответил Андропов. – А за приглашение благодарю.
– И на Бонча надежды мало, – грустно сказал Чертков. – Ему нужен Ульянов. Я не знаю этого господина и ни о чем не берусь судить, но Толстого знают все, и работать с ним и для него – счастье!
– Не мутите душу, Владимир Григорьевич! – замахал руками Бонч-Бруевич. – Вы же отлично знаете, что я решился. И никакой оглядки назад!
В конце сентября 1900 года Сергей Андропов и Виктор Ногин покинули Перли и уехали в Лондон. В карманах у них было три фунта стерлингов и несколько пенсов.
Не успели друзья осмотреться в британской столице, как в далеком Питере на них уже завели новые досье.
27 сентября Ратаев – чиновник особых поручений при директоре департамента полиции Зволянском – записал для памяти: «Выбывший с надлежащего разрешения в минувшем августе из Полтавы в г. Смоленск для отбывания срока гласного надзора полиции мещанин Виктор Павлов Ногин эмигрировал за границу и на днях прибыл в Лондон».
В секретном списке № 1 циркуляра министерства внутренних дел за 1900 год Ногин числился под номером 34. И для розыска сего преступника всем «господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам жандармских губернских и железнодорожных полицейских управлений и на все пограничные пункты» были разосланы фотографии Виктора Ногина с подробным описанием его наружных примет: «Рост 2 арш. 9 вершков, телосложение среднее, волосы на голове и на бровях русые, почти рыжие, на усах и бороде рыжие, курчавые, глаза темно-серые, средней величины, близорук, носит пенсне № 1,75, рот средний, губы умеренные, подбородок круглый, лицо круглое, чистое, на верхней челюсти недостает одного зуба, походка ровная, на правой стороне шеи родинка».
Всем указанным чинам предписывалось: «Обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение смоленского губернатора, уведомив о сем департамент полиции».
Можно полагать, что основанием для слежки послужили строки из перлюстрированного письма сестры Андропова – Надежды Васильевны, по мужу Смирновой, которая доверительно сообщала 13 сентября своей петербургской знакомой О. П. Бернштам: «За Сережу я немного успокоилась и думаю, что эту зиму он еще проживет в Лондоне. Дело в том, что на днях туда эмигрировал Виктор Павлович Ногин. Сережа писал, что ожидает его каждый день и из-за этого собирается уехать от Черткова и поселиться в самом Лондоне. Теперь он, вероятно, поищет себе другой заработок».
Ни Сергей, ни Виктор не имели об этом ни малейшего представления. Они и не могли знать, что уже два десятилетия существует за рубежом «Заграничная агентура» царской охранки и что все ее нити держит в руках действительный статский советник Петр Иванович Рачковский, со своим шпионским штабом в Париже, на Рю Гренобль, 79. Ему-то и переслал Ратаев перлюстрированное письмо сестры Андропова.
В лондонской русской колонии люди старшего поколения весьма опасались слежки и словно страдали от модной болезни подпольщиков – пресловутой шпиономании. И Виктору и Сергею это казалось странным.
Знаменитый анархист и выдающийся географ князь Петр Алексеевич Кропоткин был убежден, что каждый его шаг отмечается в документах охранки. Он скромно жил в пригороде, не часто приезжал в Лондон, где вел научный отдел в небольшом двухнедельном журнале. Он избегал публичных выступлений и остерегался встреч с эмигрантами. Когда же начинали шутить по поводу его опасений, он потирал ладонью взмокшую лысину или комкал седую бороду, расходившуюся по груди двумя широкими клиньями, и говорил:
– Береженого и бог бережет!
Виктор Ногин и Сергей Андропов поселились в западно-центральной части Лондона, на Сидмаус-стрит, по соседству с трущобным районом британской столицы, где по вечерам, ночью и ранним утром не заглушались шумом большого города паровозные гудки у вокзала на Манчестер.
У Сергея Андропова на этой улице жил друг Николай Александрович Алексеев, социал-демократ, литератор. Он занимал комнату на первом этаже, а перлийцам подыскал комнатку этажом выше.
Алексеев – небольшого роста, брюнет, с полукруглой бородкой и усами, в старомодном пиджачке, в кепочке с жокейским козырьком – казался этаким поджарым круглолицым спортсменом. Он был большой шутник и очень оживлял эмигрантское житье и Сергея и Виктора.
У хозяйки дома на Сидмаус-стрит были две симпатичные дочери: девицы взрослые, на выданье. Общаться с ними не разрешалось, и квартиранты имели возможность видеть их лишь по субботам, когда приходили вносить квартирную плату. Одна из дочерей не без интереса поглядывала на Виктора. И Алексеев задумал разыграть невинную шутку: в день Валентина, когда англичанки могли открыто писать своим суженым, он подложил Виктору под подушку нежное письмецо. Свидание назначалось в ближайшем скверике, ровно в четыре часа дня. Но в этот час социалист Гайндман выступал на митинге, и Алексеев утащил туда с собой Виктора и посмеивался, когда тот поглядывал на часы и вздыхал. И только через восемнадцать лет, уже в Москве, на теперешней площади Ногина, при случайной встрече с Виктором Павловичем, Николай Александрович напомнил ему о той маленькой шутке в 1901 году.
Николай Александрович давно дружил с семьей Тахтаревых. Тахтаревы (или просто Тары) были друзьями и Андропова и скоро стали близкими людьми и для Виктора. Константин Михайлович одно время редактировал «Рабочую мысль», когда приложением к ней печаталась брошюра Ногина «Фабрика Паля». А Аполлинария Александровна оказалась той самой Нарочкой Якубовой, что дружила с Крупской. Виктор не застал ее в 1897 году в воскресной школе села Смоленского, за Невской заставой. Она почти одновременно с Ульяновым отправилась в енисейскую ссылку и отбывала срок в селе Казачьем неподалеку от Шушенского вместе с Лепешинским и Ленгником.
У гостеприимных Таров собирались чаевничать. Спорили о путях революции, гадали, какой будет «Искра». Якубова хорошо рассказывала о Крупской, об Ульянове. Виктору очень запомнился рассказ о том, как Владимир Ильич Ленин увековечил память о своем друге Анатолии Ванееве.
В селении Абаза лет тридцать пять назад владелец угольных копий Колчугин построил чугунный завод ’и рабочий поселок. Потом все это хозяйство перешло в руки непутевого человека – золотопромышленника Пермикина. Что с ним вышло, никто не знает. Только этот чудной делец сбежал и никому не завещал вести дело. Рабочие и служащие завода решили создать артель.
– Понимаете, вовсе без хозяина! – взволнованно говорила Аполлинария Александровна. – Руду добывают прямо с поверхности горы, с помощью клиньев и кувалд, делают листовое железо, сковородки, котлы, гири. Владимир Ильич как-то поехал к рабочим и попросил их отлить надгробие на могилу революционера Ванеева. Они согласились и денег не взяли. И теперь на кладбище села Ермаковского лежит чугунная плита: «Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 года. 27 лет от роду. Мир праху твоему, Товарищ!..» А вы знаете, меня всегда покоряла эта черта Ульянова: бдительно оберегать друзей от сыска и всяких напастей и верно хранить память о них, коль суждено им погибнуть…
Заходил к Тарам Алексей Львович Теплов – старый народник, один из злополучных парижских «бомбистов» 1891 года, которого предал Геккельман-Ландезен-Гартинг – агент Рачковского. Теплов основал библиотеку в Уайт-Чепеле, где собирались русские и еврейские рабочие лондонского Ист-Энда. Он был человек редкой сердечности и отдавал библиотеке и нуждающимся товарищам все свои ничтожные средства. Но библиотека его ютилась на втором этаже грязного, убогого дома, стульев не было: кое-как обходились одной грубо сколоченной скамьей. И все это убожество освещала и днем и вечером жалкая керосиновая лампа.
Да и район был страшный: на каждом шагу кабачки, пьяная ругань – явление самое обычное. Вдоль тротуаров кишели торговцы с лотками, между ними сновали босяки, жулики. Они привязывались к женщинам – в рубищах, в деревянных башмаках на босу ногу. Где-то возникала очередная драка: ничем не прикрытая нищета не скрывала ни своих язв, ни пороков.
– Вы уж того… Аполлинария Александровна… порадейте старику… совсем я замучился в этих трущобах, – медленно и не очень внятно излагал свою просьбу Теплов.
– Ну, Алексей Львович, голубчик! – отвечала Якубова. – Будто мы не знаем, как вам неуютно. Бегаю, ищу! Да ни один хозяин не желает сдавать помещение социалистам!
Изредка появлялся у Таров и еще один из когорты последних могикан, Феликс Вадимович Волховский, мужчина крупный, шумный, с раскидистыми длинными усами, с могучей шевелюрой Маркса. Он ходил в пиджаке с шелковой окантовкой и бархатном жилете, застегнутом под самым горлом.
Когда-то Феликс дружил с Германом Лопатиным, состояли они в «Рублевом обществе» первых народников. Называлось оно так по той причине, что вступительный взнос там был один рубль. Дружил Феликс и с Желябовым. Вместе проходили они по известному «процессу 193-х», и Волховский на суде произнес речь, полную негодования и сарказма, за что был удален из зала заседания. Трижды побывал он в Петропавловской крепости. А в одной из ссылок помогал американскому журналисту и путешественнику Джорджу Кеннану написать нашумевшую книгу «Сибирь и ссылка». Он дружил и со Степаном Кравчинским, который умер в Лондоне пять лет назад, оставив умную и благородную книгу «Андрей Кожухов». А сейчас Феликс Вадимович – обычно бывал в обществе Чайковского и Бурцева, частенько шумел в английском «Обществе друзей русской свободы» и редактировал его орган «Свободная Россия».
Теперь он завязал связи с «Аграрно-социалистической лигой», которая еще не высказала своих определенных убеждений. И вообще у Феликса Волховского ясных политических целей не было. Но Виктору он нравился как «экспонат» из уникального музея восковых фигур и как живая реликвия ушедших давних лет.
Все эти лица и составляли ближайшее окружение Андропова и Ногина в Лондоне. Был еще Серебряков, он издавал вольный листок «Накануне», где Ногин, Чайковский и Волховский по поручению русской колонии напечатали протест против сдачи киевских студентов в солдаты. Да вошла в жизнь друзей молодая девица Софья Николаевна Мотовилова из Симбирска. Она приехала пополнять образование, никак еще не определила своего идейного «кредо», но явно симпатизировала Андропову. Виктор считал, что лучшей невесты для Сергея и не сыскать.
В Лондоне Сергей Андропов попытался восстановить связи с М. В. Лурье – своим давним единомышленником. Но добрые отношения долго не складывались. Виктор подозревал, что этот старый приятель Сергея занимается неблаговидными делами.
Лурье, часто называемый в переписке друзей Люри, был активным членом первой группы «Рабочего знамени», которая во второй половине 1897 года сформировалась из оппозиционных элементов петербургского «Союза борьбы» и первоначально называлась «Группой рабочих революционеров». Она выдвигала на первый план социалистическую и политическую пропаганду среди рабочих, опубликовала № 1 газеты «Рабочее знамя», брошюру «Задачи русской рабочей партии» и несколько прокламаций. Опиралась она на белостокскую типографию, где Лурье играл ведущую роль.
В июле 1898 года белостокская типография подверглась разгрому. Но Лурье удачно избежал ареста и укрылся за рубежом. Там он считал себя полномочным представителем «Рабочего знамени» и создал издательство.
А Сергей Андропов в декабре 1898 года создал вторую группу, которая заняла резко враждебную линию к экономизму «Рабочей мысли». И год спустя появился в Лондоне тоже с полномочиями своей группы. Он выпустил до приезда Виктора второй номер газеты «Рабочее знамя» и вступил в переписку с Г. В. Плехановым о совместных действиях с группой «Освобождение труда». На этой почве у Андропова и Лурье начались расхождения.
Они особенно обострились, когда Виктор Ногин и Сергей Андропов задумали напечатать книгу Фридриха Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» в переводе их лондонского друга Николая Алексеева.
Лурье напечатал книгу Энгельса, но заявил, что не выдаст тираж, пока с ним не рассчитаются за типографские расходы. Алексеев отказался от гонорара за перевод, Сергей и Виктор вывернули свои карманы, но долг продолжал висеть. Они списались с Берлином и с Парижем, где книгу можно было продать с успехом, но Лурье упорно не выпускал из рук готовое издание.
Друзья обнищали до крайности. Они отказались от комнаты на Сидмаус-стрит, где жил Алексеев, бесплатно прожили один месяц в квартире у Таров, когда те на время уехали из Лондона. Там Сергей и Виктор сами готовили скудную пищу и стирали белье, а грязную воду носили с третьего этажа к сточной канаве, так как в этой части британской столицы, не очень отдаленной от центра, водопровода не было.
20 ноября 1900 года Виктор получил от Варвары Ивановны и брата Павла пятьдесят рублей. На эти деньги Сергей уехал в Крайстчарч к Черткову, а Виктор перебрался от Тахтаревых в свою комнатку на Сидмаус-стрит.
Оживленная переписка завязалась между Лондоном и Крайстчарчем. Софья Мотовилова сумела сохранить ее, когда друзья покинули Англию.
Все, чем жил эмигрант Василий Новоселов, все, что беспокоило, волновало, угнетало и радовало его, раскрылось в этих искренних письмах к другу.
Виктор сблизился с Алексеевым и с Мотовиловой и честно продолжал борьбу со «злым гением» Люри, который так безжалостно поверг их в нищету и заставил разлучиться на долгие семь месяцев.
Часто пропадал Новоселов в «Университетском поселении» неподалеку от Сидмаус-стрит, где читались публичные доклады для горожан. Он ценил эти собрания: они расширяли его кругозор и помогали тренироваться в английском языке. И вскоре он уже смог написать Сергею: «Поздравьте меня: вчера мы были на приветственном митинге, и я понял одну из речей».
Изредка можно было видеть его в библиотеке Британского музея, но чаще – на «чердаке» у Теплова, где неугомонный Алексей Львович сумел собрать много хороших книг. А с Мотовиловой бывал Ногин в галерее английского национального искусства.
Константин Тахтарев предложил заниматься два раза в неделю английским языком. Поначалу Виктор только читал и писал под его диктовку, а через месяц они вместе взялись изучать синтаксис. Виктор занимался с воодушевлением и уже накануне нового года поставил себе вполне определенную и достижимую цель: к марту 1901 года непременно научиться читать по-английски.
27 декабря 1900 года Виктор ходил с Алексеевым на собрание русской колонии, когда отмечалась семьдесят пятая годовщина восстания декабристов.
Проходило собрание в баре, который принадлежал ветерану английского рабочего движения Тому Манну. И поначалу все шло весьма благопристойно: честь честью говорил Кропоткин, за ним выступали другие вежливые, накрахмаленные старички – вспоминали что-то, рассказывали кое-что и обращались друг к другу так почтительно, словно в великосветском салоне.
Но они крайне рассердились, когда выступил Алексеев. Он попытался ответить на один вопрос: почему не удалось движение декабристов? И обозвал дворянских революционеров либералами. А к ним прихватил и тех, чье поколение представляли в этом зале Кропоткин и его друзья.
Шумный скандал погасили с большим трудом. А на улице Виктор сказал Николаю Александровичу:
– Встречали мы нынешний год в Полтаве, так я тоже повздорил со стариками. Круто сказал им о рабочем классе. И тоже пришлось уйти вот так, без «галантерейных» поклонов. Да ничего, должны же они знать, кто им идет на смену!
Софья Мотовилова часто спорила с Виктором о Черткове. Она разочаровалась в толстовстве, и барин из Крайстчарча претил ей до крайности, был он холеный, с холодными глазами и чем-то напоминал ей Ивана Грозного. Особенно возмущало ее то, что он поставил Сергея в унизительные условия. Денег за работу не платил да еще был недоволен, если Сергей не садился с ним за шахматную доску или не желал играть на рояле сочинения, написанные женой хозяина.
– Отвратительно, Виктор Павлович! Ведь Сережа все делает даром. Он иногда даже посуду моет на кухне! И все лишь за одну еду. И терпит чванство и фанаберию этого ужасного человека.
Виктор никак не мог согласиться с такой оценкой Черткова. Сам он – человек духовно чистый, красивый в своих помыслах, искренний и добрый – с очень щедрой мерой относился к людям. И у него не укладывалось в голове, что такой человек, как Чертков, может пользоваться затруднительным положением Андропова и корчить из себя поборника правды и благодетеля, когда надо платить наличные деньги за присвоенный труд работника.
Но Сергей написал между строк, что его жизнь у Черткова становится ужасной, и Виктор стал думать, как бы вызволить друга. Он решил искать заработка и подумал про Манчестер, где могла быть нужда в красильщиках. А одновременно начал хлопотать о паспортах для отъезда в Россию. Владимир Бурцев посоветовал ему достать два студенческих свидетельства, которые выдаются в университетах для прожития:
– Сделайте хорошие дубликаты и живите по ним. Да не забудьте приобрести соответствующую студенческую форму. Иначе провалитесь в два счета!
Но Виктор еще не имел никакого понятия, где достать такие свидетельства. И по зрелом размышлении решил написать о паспортах товарищам в Германию.
Варвара Ивановна прислала еще пятьдесят рублей. Виктор закончил все расчеты с Люри по изданию книги Энгельса, стал обладателем большей части тиража этого издания и активно занялся его распространением.
К 15 января 1901 года у него сложилось мнение, что в Россию надо ехать летом. Об этом он написал Сергею, прося его закончить весной все дела в Крайстчарче.
Итак, наступил последний этап эмигрантского житья Василия Петровича Новоселова.
О чем мечтал он в Лондоне? О многом, о разном. Но все сводилось к тому, что надо окончательно самоопределиться в политическом смысле и подготовить себя для серьезной подпольной работы в России.
На митингах и в шумных дискуссиях лондонских социалистов он мог видеть, какие задачи хотят решать английские рабочие; он присмотрелся к старым деятелям русской революции и сложил ясное представление, что все они – героический, но вчерашний день новой России. Он завязал переписку с Юлием Осиповичем Мартовым, который досиживал последние недели в Полтаве перед выездом за границу. С помощью Мартова, Сергея Цедербаума, Ольги Звездочетовой, брата Павла и других товарищей, поставлявших информацию, он смог разобраться в тех событиях, которые волновали социал-демократов в России.
Но самым важным было то, что он связался с Мюнхеном, стал получать дружеские письма от В. И. Ульянова и окончательно пришел к выводу, что без «Искры», без ее пропагандистской и организаторской деятельности нечего и помышлять о такой партии, которая может сплотить рабочий класс Российской империи и повести его на штурм царизма и капитализма.
Намереваясь уехать в Манчестер, Виктор уже не сомневался, что за каждым шагом будущих искровцев тайно следит русская полиция и что в Англии тоже необходима та строгая конспирация, о которой он уже писал Андропову.
Правда, Андропов не афишировал свое пребывание на Британских островах. Он проживал под фамилией Альбина и держался у Черткова без того легкомыслия, которое характеризовало некоторых эмигрантов-неофитов. Тем стоило оторваться от пресловутого «хвоста» из охранки на русской границе, и они уже наивно полагали, что за рубежом все им трын-трава! Но в письмах к сестре Надежде в глухой городишко Бирск Сергей писал кое о чем с излишней откровенностью. А охранка не дремала. И уже 12 марта 1901 года господин шеф Зволянский сообщал всем своим периферийным полицейским чинам: «Ввиду полученных указаний, что разыскиваемый циркуляром от 22 января 1900 года за № 137 дворянин Сергей Васильев Андропов предполагает прибыть из-за границы в Россию по чужому паспорту, департамент полиции считает полезным разослать вместе с сим фотографические карточки, в двух видах, названного Андропова».
К этому времени Альбин был уже расшифрован заграничной агентурой, а Виктор все еще оставался для нее только Новоселовым, потому что ни разу в Англии не именовал себя Ногиным.
Новоселовым он представился и в первом письме к Петрову: такая фамилия была у Владимира Ильича для общения по почте с плехановской группой «Освобождение труда».
Писем от Петрова к Новоселову известно семь: с октября 1900 по апрель 1901 года. Тон их архидружественный, подчеркивала Крупская, потому что Ногин был рабочим, умел самостоятельно мыслить, а Владимир Ильич это весьма ценил.
Диалог в этих письмах между Германией и Англией длился шесть месяцев. Идейные позиции двух корреспондентов сблизились настолько, что личная встреча их стала неизбежной.
10 октября 1900 года. Мюнхен: «Дорогой Василий Петрович! Только вчера получил от П[авла] Б[орисовича] (Акс[ельро]да) Ваш адрес и резолюцию 23-х против credo. Алексей давно уже мне писал, что Вы будете заграницей, но я не мог Вас найти (чудак он, что не дал Вам адреса для писем мне!). Пожалуйста, откликнитесь и напишите поподробнее о том, как живете; давно-ли в Лондоне, что поделываете, какова публика в Лондоне, каковы Ваши планы, когда думаете ехать? Почему выбрали Лондон?
…Жму крепко руку. Петров. Отвечайте по адресу: Herrn Philipp Roegner, Cigarrenhandlung, Nene Gasse, Nürnberg.
В 2-х конвертах, на втором: для Петрова.
Р. S. Дайте, пожалуйста, 2–3 адреса вполне надежных людей (сторонних, не революционеров) для того, чтобы явиться к ним в Полтаве и узнать об Алексее».
Виктор ответил немедленно, 17 октября. Но, к сожалению, это первое письмо, адресованное Владимиру Ильичу, не обнаружено. Видимо, он ответил на вопросы Петрова, рассказал об Андропове, и о «Рабочем знамени», и о журнале своей группы, о котором он думал вместе с Андроповым, пока не занялся изданием книг и брошюр. В письме содержалась и просьба: не смогут ли товарищи из Германии достать два надежных паспорта и помочь лондонцам переправиться нелегально в Россию?.
2 ноября 1900 года. Мюнхен: «Пожалуйста, простите, дорогой Нов[оселов], что я так безобразно запаздываю с ответом на Ваше письмо от 17 X: все отвлекали «мелкие» дела и делишки здесь, да еще ждал ответа от Алексея. А ответа необходимо было дождаться, чтобы выяснить вопрос о нашем редакционном заявлении. Алексей решил не распространять его пока. Поэтому я, посылая Вам один экземпляр, очень прошу Вас держать его в секрете, не показывая никому (кроме разве того близкого Вашего друга к[ото]рый имеет полномочия от СПб. группы и о к[ото]ром Вы пишете) и безусловно не отдавая ни в чьи руки. Мы вообще решили не распространять этой вещи за границей, пока она не разойдется в России, а раз Алексей попридерживает ее и там, – нам особенно важно достигнуть того, чтобы не дать ей хода здесь. Рассчитывая на Ваше близкое участие в нашем деле, я решил сделать исключение и познакомить Вас с заявлением. Примите во внимание, при чтении его, что предполагается издавать и газету и журнал (или сборник), но о последнем заявление молчит по некоторым особым соображениям, связанным с планом издания журнала. Нек[ото]рые места заявления надо поэтому относить не к одной газете.
Напишите, пожалуйста, какое впечатление произвело заявление на Вас и Вашего друга.
Какого типа «агитационный журнал» предполагают издавать члены группы «Раб[очего] Знамени» (ведь Вы о них писали?)? Какого характера и с какими сотрудниками?
Насчет переправы через границу в Россию я думаю, что это всегда легко будет сделать: у нас есть сношения с несколькими группами, ведущими переправу, и кроме того недавно один член нашей группы получил обещание (по всему судя, солидное), что смогут переправлять кого угодно в Россию без паспорта. Это, я думаю, легко устроить.