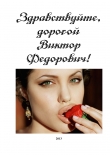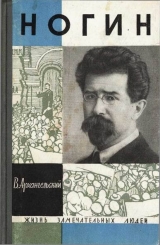
Текст книги "Ногин"
Автор книги: Владимир Архангельский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Завтра я уезжаю на совещание с главным организатором «предприятия», – говорил Мартов, – а вам даю конкретное поручение: превращайте ваши полтавские кружки в группу наших единомышленников.
Друзья загорелись новым делом. Они провели маевку на берегу Ворсклы: вечером собралось человек двадцать, в основном кружковцы Виктора. Играла для отвода глаз гармоника, и звучала песня, когда замолкали ораторы. Договорились о сборе средств для газеты, и Сергея определили казначеем. Так в Полтаве у Ногина и Цедербаума был создан первый опорный пункт газеты. А через месяц такой же пункт создал в Пскове Пантелеймон Лепешинский.
И словно а подтверждение основных «искровских» мыслей о политическом и революционном характере рабочего движения в новом столетии выступили харьковчане на Конной площади. Это было выдающимся событием не только на юге России: рабочие объявили майскую забастовку и прошли по улицам с красными знаменами. А на них – лозунги: восьмичасовой рабочий день и политическая свобода!
В первых числах июня Сергея и Виктора взбудоражил чей-то грубый голос у входной двери, они решили, что снова идут с обыском. Но сейчас же послышался спокойный баритон Мартова:
– Не пугайтесь, мальчики, этот джентльмен из охранки прибыл со мной. Я позволил себе роскошь и доставил его в Полтаву на свой счет. Надеюсь, вы удостоверились, что я дома, – обратился Юлий Осипович к конвойному. – А засим прощайте! Не говорю – до свидания: это было бы просто лицемерием!
– Чудно, ей-богу, чудно! – сказал страж, откозырял и вышел.
– Больше суток я орудовал стамеской в его деревянных мозгах, – усмехнулся Мартов. – Не знаю, что он запомнил, но бесследно пройти это не могло… Ставьте самовар, мальчики, я расскажу вам новеллу… о конспирации.
Это был живой рассказ о встрече с Ульяновым. Мартов очень ценил своего друга по «Союзу борьбы»: тот был в его представлении прообразом подлинного марксиста – и теоретик и практик, человек конденсированной воли, не сгорающий в пламени мимолетного увлечения, деловой – как хозяин, и страшно определенный – как древний пророк.
– Как и было условлено, мы встретились на берегах реки Великой, под древними стенами Пскова. И обо всем договорились. На почтовом листке, где бакалейщик выставил нам счет, Владимир Ильич набросал химическое письмо Плеханову: оно должно было отправиться вслед за Старовером – это кличка Потресова. Потом мы загрузили нелегальной литературой довольно большую фамильную корзину Ульяновых и решили навестить Питер: в Пскове все было устроено, и даже найдена должность статистика для Пантелеймона Лепешинского – ему надлежит быть опорным и пересыльным пунктом «Искры». Мы отлично ехали: в майских лесах распевали соловьи, и настроение было приподнятое. Но я спросил: «Не стоит ли нам замести следы? Не исключено, что на Варшавском вокзале нас мило заключат в объятия столичные охранники». Ульянов заметил, что придумано недурно и хорошо бы пересесть в Гатчине на другой поезд, который приходит на Царскосельский вокзал. Пересели. Но как-то не подумали, что придется ехать через Царское Село. А там – на беду – оказался Николай Второй, и слежка была поставлена так, что под каждым кустом сидел охранник. И мы – два бородатых господина неопределенного вида, довольно часто бросающие взгляды на заветную корзину, – конечно, не остались без надзора. К счастью, корзину я успел наспех сбыть в надежные руки, и день незаметно прошел в хлопотах и беготне по городу. Ночевать отправились в Казачий переулок: там держала небольшую квартиру мать нашего друга Малченко. Утром же четыре дюжих молодца крепко схватили нас за локти на улице, сунули в пролетку и доставили к Пирамидову. А у него в каталажке вонь, клопы, вши, шум, гам, ругань! И каждую ночь возле камеры филеры и городовые режутся в «шмен-де-фер» и в «очко». На первом же допросе Пирамидов рассмеялся нам в лицо: «Перегнули, господа конспираторы! И какой черт дернул вас делать крюк на Царское Село, где у меня охранники, как сельди в бочке!» Владимир Ильич очень опасался, что в охранке догадаются проявить письмо к Плеханову, это была бы серьезная улика. Да и денег у него для «Искры» было больше тысячи рублей. Но все закончилось удачно, только меня – в Полтаву, а Ульянова – в Подольск: это за самовольный въезд в столицу. И заставили нас выложить деньги из кармана на «конвоиров в статском платье».
Мартов намеревался остаться в Полтаве до конца года, чтоб завязать связи с Одессой, Харьковом и Екатеринославом. Сергей и Виктор передали ему все свои явки и стали собираться за границу. Но неожиданно пришел приговор по делу «О преступном сообществе», присвоившем себе наименование «Группа «Рабочего знамени». Ногину и Цедербауму назначалось по три года гласного надзора в Полтаве, а Сергею – дополнительно – три месяца отсидки в тюрьме за долгую самовольную отлучку и недозволенный визит в Санкт-Петербург. И его немедленно отвели в тюрьму.
Виктор не мог бросить товарища. Он предложил Мартову попроситься на прием к вице-губернатору Балясному, чтоб Сергея поместили в хорошую камеру и разрешили свидания хоть раз в неделю.
– Ноги не идут! – отмахивался Мартов. – Этот Бал ясный – отъявленный негодяй: дружок великого князя Сергея Александровича и монархист больше, чем сам Николай Романов. А к тому же ёрник, пьяница и шулер! Мне даже противно видеть его сытую, холеную рожу.
– Попробуем, Юлий Осипович! – настаивал Виктор.
Балясный принял, согласился дать большую одиночку, где до Сергея выжидали срок два десятка уголовников, разрешил свидание и вдруг огорошил:
– Уступаю вашей просьбе только потому, что означенный Цедербаум прямо из тюрьмы отправится на призыв.
– Позвольте, ваше превосходительство, но ведь он же почти слепой. Какой же из него солдат? – Мартов не мог скрыть удивления.
– Он пойдет в мою конвойную команду, господин Цедербаум, и будет служить в Полтаве. А потеряет очки, так вы ему купите новые, хе-хе! Вопрос о нем решен. Этот господин, – Балясный указал на Виктора, – тоже не отличается похвальным зрением. Но и его придется забрить осенью. Армия – отличная школа верноподданнического воспитания! Глядишь, и отстанут ваши молодые друзья от вредных идей.
Дома Мартов сказал:
– Вам придется бежать без Сергея. Я постараюсь добыть паспорт, брат догонит вас в Германии. Или в Швейцарии, у Аксельрода: я дам письмо.
Виктор задержался на три недели. Он придумал удачный ход: просить перевода в Смоленск. Но туда не являться, а лишь замести следы этим переводом и ехать на Вильно, где у Мартова был верный адрес для перехода границы.
Пока пришло разрешение на отъезд из Полтавы, тюрьму забили рабочими из Екатеринослава. Опасных преступников рассадили по одиночкам, на окна поставили деревянные ящики. Свиданий и прогулок не разрешали и всех лишили даже табачного довольствия.
Алфимов, Мазанов, Чугунов и Петровский сидели неподалеку от Сергея. Он нашел к ним доступ: товарищи держались стойко, на допросах все отрицали начисто. Но Григорий Петровский очень переживал из-за жены и ребенка: они остались без куска хлеба. Из первых «искровских» денег Виктор отправил им десять рублей.
Екатеринославцы объявили голодовку. С легкой руки Мартова, Ногина и Флерова пополз по городу слух, что в тюрьме издеваются над политическими заключенными. И кружковцы Виктора – полтавские железнодорожники – послали к начальнику тюрьмы представительную делегацию.
Голодовка прошла успешно: через пять дней сняли ящики с окон, вывели людей на прогулку. А тюремное начальство даже перестаралось: всем екатеринославцам выдало по чайнику с черным кофе – для подкрепления сил – и по большой пачке табаку. Это была победа, и Виктор мог гордиться ею.
Калязинский мещанин Василий Петрович Новоселов не объявился в Смоленске, как поднадзорный Виктор Ногин. Он миновал город на Днепре, сделал остановку в Вильно. А потом просидел трое суток в телеге еврейского балагулы, совершил путешествие через Ковно в Мариамполь, Вильковишки и Вержболово. Там был сдан на руки щетинщикам, которые имели право раз в неделю переходить границу. И на рассвете 31 августа 1900 года, вымокший в болоте, изъеденный комарами Виктор оказался уже на землях Восточной Пруссии.
На другой день он был в Кенигсберге и отправил в Лондон письмо к Андропову:
«Кенигсберг, 1.IX. 1900. Милый и дорогой Сергей Васильевич! Вчера я перешел границу и теперь еду в Цюрих. Я хотел сперва ехать прямо к Вам, в Англию, но перед отъездом узнал, что Вы в сентябре хотите уехать из Англии. Поэтому я решил сперва заехать в Швейцарию и узнать, как можно там устроиться, тем более что немецкий язык мне хотя немного, но знаком, а английский совсем нет. Пишите скорее мне о том, долго ли Вы проживете в Англии, могу ли я найти там какую-либо работу, или, может быть, Вы найдете более удобным приехать ко мне в Цюрих.
Переход мой совершился очень благополучно, без одной неприятности.
Так как я переменил имя для заграницы, то пишите так: Цюрих, до востребования, Василию Петровичу Новоселову.
Мне страшно хочется Вас видеть. Итак, до свидания. Целую крепко. Ваш Виктор».
Цюрих был выбран с умыслом. Там жил П. Б. Аксельрод, на которого Виктор хотел опереться в первые недели заграничной жизни. 16 июля в Швейцарию уехал Ульянов, и его можно было встретить у Аксельрода. В Цюрихе мыслилась встреча с Сергеем Цедербаумом, как только он удерет из конвойной команды Балясного. Да и жить в Швейцарии было куда проще и легче, чем в других странах Европы.
Немцы требовали заграничный паспорт, выданный губернатором. Затем они вызывали в полицейский участок заполнить длинную анкету и очень интересовались, есть ли у эмигранта наличные деньги или текущий счет в банке. Французы и бельгийцы анкетой не запугивали, но требовали показать деньги и предъявить трех поручителей. Англичане не заглядывали в кошелек, им было достаточно, что у беглеца из России есть хорошая профессия и, значит, он не будет торговать спичками на улицах и выклянчивать пенсы у подданных английской королевы. А в Швейцарии порядки были отменные: заяви, что ты политический эмигрант без документов. А если найдутся два свидетеля, что ты не выдаешь себя за другое лицо, живи сколько хочешь!
4 сентября 1900 года Виктор Ногин сошел с поезда в Цюрихе…
ЖИЗНЬ ЭМИГРАНТА ВАСИЛИЯ НОВОСЕЛОВА
Был бы Виктор Ногин богатым туристом, очень бы понравился ему старинный город Цюрих.
В Большом городе, у подножья горы Цюрихберг, тесно сбились в кучу средневековые дворцы и замки времен рыцарских турниров и демократического правления могучих ремесленных курий. Неподалеку от них – нарядные дома нуворишей, тенистые улицы и многочисленные кафе, рестораны и магазины. А заводской пейзаж Малого, города за рекой Лиммат чудесно вписывался в красноватые отроги Альп, где синим облаком лежала в поднебесье широкая полоса густых лесов. Берега голубого Цюрихского озера были обрамлены садами и парками.
Цюрих жил спокойным и деловым ритмом. Рано утром улицы его заполнялись рабочим людом. Тысячи, десятки тысяч мастеровых, переговариваясь, торопливо двигались к фабрикам: там плавился металл, создавались станки, химикаты, бумага, шерсть и шелк. Чем-то родным веяло от этой армии торопливых людей, словно Виктор переносился на крыльях в Северную Пальмиру и попадал в привычную толкотню своих текстильщиков за Невской заставой. Найдет ли он место среди этих товарищей? Едва ли!
Дыхание большого спада докатилось сюда из России: нет объявлений о найме, у фабричных ворот идут тревожные разговоры о предстоящем расчете.
Перед вечером вновь валила по улицам рабочая толпа: ритмично шел в городе этот прилив и отлив. Кто-то из мастеровых катил на самокате с резиновыми шинами. Но, видать, и здесь это была новинка XX века: за велосипедистом всегда мчались подростки и бились об заклад, что зароется он носом в мостовую с высокого и узкого седла.
По утрам, когда мастеровые начинали смену, в городе шумели студенты. Они громко болтали на всех языках Европы, скапливались на скамьях возле университета и на широких приступках федеральной политехнической школы или в скверике у консерватории.
В полдень стремительно выбегали из контор расторопные клерки в черных костюмах и усаживались за кофе в летних ресторанчиках. А под каштанами и платанами появлялись фланирующие бездельники – в канотье и с тростями – и молодые дамы с собачками или с детьми. В экипажах разъезжали деловые люди в котелках или модницы в широких соломенных шляпах с метелками трепещущих от ветра перьев страуса.
Обыватели не лезли в душу с докучливыми расспросами. Мастеровые, студенты и клерки – в кафе или в парке – заговаривали непринужденно и все больше о том, что волновало тогда весь мир, – об англо-бурской войне и о боксерском восстании в Китае. И никто не скрывал возмущения, что восемь крупнейших держав послали войска для жестокого подавления китайских повстанцев.
Город был мил и приятен русскому сердцу молодого революционера: здесь живали Плеханов и Засулич; тут была штаб-квартира Аксельрода; здесь семь лет назад последнюю публичную речь произнес Фридрих Энгельс на конгрессе II Интернационала: верный друг Маркса еще верил тогда в революционный подвиг этой международной организации. А теперь она открыто якшается с Эдуардом Бернштейном.
В главной библиотеке Цюриха Виктор был удивлен неслыханно: бери любую книгу, за которую в России неминуемо потянули бы в участок!
И жилось в этом городе дешево. Даже в отеле, где снимал Виктор небольшой номер, и в кафе, где кормили неплохо, хотя хлеба вдосталь и не давали.
В Лондон было отправлено письмо Андропову: «Цюрих, 5.IХ.1900. Милый и дорогой друг! Наконец и я на свободе! Мне страшно хочется Вас видеть как можно скорее, но как это сделать, я не знаю. Если бы я знал, что Вы останетесь жить в Англии и я сумею устроиться там, то, конечно, я приехал бы к Вам сейчас же. Но Вы, как говорят, решили ехать в Россию: ведь это очень хорошее решение, и я не могу Вас отговаривать от него. Только Вы, конечно, не уедете, не повидавшись со мною: мне так хочется увидеть Вас, и я так давно жду этого, что будет слишком больно для меня, если мы не увидимся. О тех побуждениях, которые заставили меня уехать из России, Вы уже знаете несколько, а подробно я расскажу лично.
Увидеться нам необходимо еще потому, что я должен сообщить Вам о новом большом деле, начинаемом в России, в котором Вы могли бы с большой пользой работать. Подробно – лично; если Вам нельзя будет приехать сюда (может быть, Вы поедете в Париж? Так по дороге), то я обязательно приеду к Вам, хотя не надолго.
За границей я думаю прожить с год-полтора, а может быть, только до мая будущего года.
Русские новости – или лично, или в следующем письме.
Сообщите мне, пожалуйста, адрес Ольги Аполлоновны для писем из-за границы: я не успел списаться с ней об этом, а мне очень хочется поскорее известить ее.
Крепко, крепко жму Вам руку. Ваш Виктор.
Здесь еще нигде не был: страшно устал. Сейчас иду к Аксельроду. Живу в гостинице, адрес до востребования…»
Добрые ожидания и маленькие радости свободной жизни в Цюрихе сменились досадой. Павел Борисович Аксельрод домой не появлялся – как в воду канул. Виктор разыскал кефирное заведение, которое держал Аксельрод, чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами. Молодая служительница сказала, что здесь жил два-три дня очень живой, экспансивный худощавый господин из России – с бородой и с лысиной – и дней двадцать назад увез с собой Аксельрода на юг, возможно в Женеву. Виктор немедленно помчался бы вслед, если бы знал, что этим господином был Ульянов. Именно он уехал с Аксельродом к Плеханову, чтобы составить проект договора группы «Искра» с группой «Освобождение труда», а главное, распределить обязанности между будущими редакторами газет. И уже отбыл в Германию.
У Виктора была мысль: а не махнуть ли в Женеву, вдруг Аксельрод еще там? Он даже посмотрел по карте маршрут: это через Баден, Ольтен, Биль, Берн, Фрибур, Лозанну. По российским масштабам – сущие пустяки: две поездки из Москвы в Калязин и обратно. Но денег было в обрез, да и боялся он разминуться с Аксельродом. А о встрече с Плехановым и не помышлял. Георгий Валентинович казался недоступным, как Монблан. И это отвечало правде: в женевском укрытии явно сторонились назойливых, незнакомых эмигрантов.
Виктор решил ждать. Иногда угнетало отсутствие собеседников. С горожанами он общался мало: они говорили на каком-то трудном для него швейцарском наречии немецкого языка. Вывески читал он свободно, газеты понимал не плохо, а при разговоре иной раз попадал впросак.
Русской колонии не было. Ее отсутствие восполняла библиотека. Он прочитал пламенную речь Петра Алексеева, который на суде в 1887 году сказал пророческие слова: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!» Интересной новинкой был первый номер «Былого»: этот альманах начал выпускать в Лондоне
Владимир Бурцев. Но настроение резко изменилось, и Виктору стало не по себе, когда в восьмом номере журнала «Новое слово» он прочитал статью П. Струве «Еще раз о свободе и необходимости»: приват-доцент открыто выступал против марксистского учения о пролетарской революции.
«Что делает время? – размышлял Виктор. – Оно работает на нас, и безжалостно! Летят в мусорную яму любые «корифеи», у которых ощущается ералаш в мозгах от успешных выступлений рабочего класса!»
Он вспомнил: еще три года назад камерные лекции этого Струве устраивали у себя на Фурштадтской, в доме № 20, Стасовы – Поликсена Степановна и Дмитрий Васильевич – ив доме № 27 на той же улице присяжный поверенный Николай Платонович Карабчевский. Виктор слыхал об этом от Лидии Канцель – единственной знакомой, которая бывала на лекциях, по поручению подпольного Красного Креста. Но уже и тогда Ульянов увидел, что придется бороться со Струве, как и с его идейным дружком Эдуардом Бернштейном!..
Так миновали еще три дня.
В день четвертый произошли небольшие события в жизни Виктора, и с Цюрихом было покончено. Три дня ходил он к Аксельроду – и домой и в кефирное заведение, но бесплодно. А от Андропова пришло письмо, и в нем содержался намек, что адресату придется задержаться на время в Англии. Из Цюриха в Лондон пошло последнее письмо:
«9. IX.1900 г. Мой милый и дорогой друг! Спешу ответить Вам на все Ваши вопросы. Главный вопрос и, нужно сказать, самый мучительный, – почему я поехал за границу? Потому что, когда я представлял себе, как я буду жить, исполняя волю начальства где-нибудь под надзором, зная, что, кроме такой жизни, есть жизнь другая и что стоит мне только захотеть жить этой другой жизнью, так никакие «предержащие» меня не удержат/ мне казалось, что жизнь поднадзорного так искалечит меня, что потом я буду никуда не годен. А теперь я могу работать, и так как силы всюду и везде нужны, то совестно было бы сидеть сложа руки.
17 июля нам объявили приговор: Сергею Осиповичу Цедербауму – 3 месяца отсидки в Полтавской тюрьме и 3 года надзора, а мне – 3 года надзора. Вот прожить эти три года хотя бы в Полтаве я и побоялся и посовестился.
В Полтаве вообще жить можно: там и климат хороший, и люди иногда бывают, и микроскопическое дельце можно делать.
Но за те полгода, которые я прожил в Полтаве, она мне надоела, и я видел, что все то, что я мог получить от нее, я получил, и мне делать больше нечего в ней.
Мне хотелось и хочется жить в настоящем, хорошем смысле слова, то есть хотелось не сидеть и «дрожать», как благоразумный пескарь, а жить и работать. Я говорил себе, что раз я вступил в революционное дело – должен ли я выжидать и жить не так, как мне хочется, а как велит начальство? Вы, вероятно, скажете, что, делая прямой вывод из этих рассуждений, найдешь, что более правильно прямо поступить на нелегальное положение. Я хотел это сделать прямо, но за полгода не мог найти паспорт, а жить дальше в Полтаве я не мог еще потому, что на днях меня должны были взять в солдаты. Правда, я надеялся, что меня не возьмут: может быть, не вышла бы грудь, но я побоялся рискнуть: во всяком случае, идти в Китай – незавидная участь.
Кроме того, мне хотелось посмотреть, как люди живут на свободе; пополнить свои знания теми наблюдениями, которые можно сделать, живя за границей. Вот поэтому я поехал за границу.
Теперь почему я поехал в Швейцарию? Раньше я хотел ехать к Вам, в Англию, но потом узнал, что Вы думаете вскоре возвращаться в Россию, и один – без близких людей – я могу легче прожить там, где говорят по-немецки, и там, где дешевле жизнь, а в Англии, говорят, страшно дорого жить. Я хотел сделать так: прожить несколько месяцев в Швейцарии, научиться языку, завести знакомства и поехать в какой-либо немецкий городок – в Германию – и там поступить на фабрику, или же поступить в техническое училище для того, чтобы в России я мог скорее поступить на какую-либо фабрику. Я предполагал, что здесь, имея знакомство, может быть, можно достать немецкий паспорт; имея его и аттестат какого-либо училища, в России можно смело жить. Итак, я хотел прожить в Швейцарии месяца 2–3, на какой-нибудь фабрике месяцев 6–9, итого 8 мес. – 1 год. Или вместо фабрики – в училище года 1½—2. Но последнее, т. е. училище, только мечта: у меня своих денег очень мало, и на училище мне обещал присылать брат, но так как у него денег тоже немного, то я думаю отказаться от мысли об училище. Если же мне не удалось бы попасть на фабрику или достать другую интересную работу, то я проживу за границей не более полугода или самое большое до мая будущего года…
Сегодня ходил три раза на квартиру к Аксельроду, и все никого нет дома. Мне очень хотелось послать Вам это письмо, зная, что скажет Аксельрод. Но мне так хочется поехать к Вам, что я все-таки поеду к Вам, если даже он скажет, что здесь можно скоро устроиться.
Я страшно досадую на себя, что не поехал прямо к Вам.
У меня есть поручение к Аксельроду, и я не могу уехать, не видев его, а жить здесь мне уже надоело. Если Аксельрода опять нет в Цюрихе, то я оставлю ему письмо и еду завтра; если же он здесь, то ответ будет зависеть от того, что он скажет, т. е. я уеду, может быть, через несколько дней.
В начале этого письма я написал, что вопрос о том, почему я уехал из России, для меня мучительный. Долго писать – почему, но он и сейчас меня мучает. Я знаю, что все те доводы, которые я сам же говорил, достаточны, и мое решение хорошо, но все же что-то на душе не ладно. Целую Вас крепко, крепко, до свидания. Ваш Виктор».
Слов нет, письмо получилось сумбурное, немного наивное. Но оно отразило почти все, чем жил тогда Виктор, – и юношескую влюбленность в старшего друга, и надежду на то, что лишь по совету с ним должно принять самое важное решение – о выборе жизненного пути.
Это решение – стать профессиональным революционером – окончательно сложилось в Англии, куда он и направился 10 сентября 1900 года.
В Мюнхене зарождалась «Искра», в Лондоне жадно набирался знаний ее будущий агент. И встреча с Владимиром Ильичем летом 1901 года в Мюнхене навсегда решила его судьбу.
Сумрачным уезжал Виктор из Швейцарии. И не только потому, что утратилась надежда повидать Аксельрода, – огорчили известия из Санкт-Петербурга.
В Цюрихской библиотеке попался ему на глаза «Листок Красного Креста» за 1899 год: царевы приспешники все круче и круче «завинчивали гайку», в длинном мартирологе мелькали имена друзей и знакомых, отправленных в медвежьи углы России. И в этих углах беззастенчиво нарушались права ссыльных.
Самая невинная прогулка за околицу поселка, где ссыльному было назначено жить пять-семь-десять лет, или кратковременная вылазка на охоту отныне признавались самовольной отлучкой. И ретивый исправник, одичавший в далекой глуши, назначал за это арест до семи дней. Подозрительной считалась вечеринка в доме ссыльного и даже частая переписка с друзьями. Наказание применялось немедленно – обыск, блошница или высылка в еще более глухие места.
Было о чем поразмыслить Виктору. Он уже не сомневался, что на исходе весны вернется в Россию, будет ставить на ноги организацию в одном из крупных городов и, конечно, попадет в лапы к какому-нибудь Пирамидову из охранки. А уж тогда не миновать забытых богом глухоменных поселений в морозной, таежной Сибири.
Но самой тяжелой была весть из села Ермаковского Минусинского уезда Енисейской губернии – ровно год назад там скончался от чахотки верный друг Ульянова, один из создателей петербургского «Союза борьбы», Анатолий Александрович Ванеев…
А поезд мчался на северо-запад и уже миновал границу Швейцарии. Франция – осенняя, плодородная, только что снявшая урожай фруктов, пропахшая виноградными соками, рассвеченная лимонной листвой деревьев – немного успокоила Виктора.
Неподалеку от Лангра и Шомона, за левым берегом быстрой, пенистой Марны, окончились отроги французских Альп, и поезд понесся по зеленой равнине вдоль Сены, на Париж.
Потемневшие от времени средневековые замки на холмах; маленькие таверны или белоснежные гипсовые мадонны на перекрестках дорог; ослики, мулы и кони с телегами, на которых громоздятся высокие корзины с ароматным виноградом; торговцы вином на каждой станции, зазывающие к себе пассажиров; крестьянские свадебные кортежи на булыжных мостовых проселка: красные и черные бархатные безрукавки, кружева на женщинах, старинные коты на пожилых виноделах; гитара или мандолина в руках у шафера; смеющиеся физиономии и веселая песня – беззаботная на вид и вечно неунывающая страна отрадных мудрецов и острословов!
В прозрачном утреннем воздухе мелькнула стрела великолепной ажурной башни Эйфеля, поставленной не так давно над Сеной, у Марсова поля.
Поезд на север уходил в полдень, и Виктор решил нанять маленький одноконный фиакр с извозчиком в смешной пелерине и высоком клеенчатом цилиндре. Договорились о цене, извозчик нехотя спрятал под себя газету, и тронулись в путь.
«А ведь прав российский юморист Николай Лейкин: все извозчики читают газету! И лопочут по-французски!» – усмехнулся Виктор.
Поначалу город показался трущобным и грязным. Чумазые ребятишки гоняли мяч вдоль серого, облезлого дома, на балконах сушилось белье, группами толпились люди вокруг гитариста, певца и продавца нот и, притопывая в такт песне, поднимали облако пыли. На булыжной мостовой валялись огрызки фруктов, клочки бумаги, куски щебня: никак не шел Париж в сравнение с опрятным Цюрихом и чистым, чопорным Петербургом. Но все простилось парижанам, когда фиакр добрался до центра и замелькали по сторонам красивые особняки, щедро украшенные нимфами, амурами и колоссами, нарядные храмы, стройные колонны, висячие горбатые мосты, широкие бульвары, фонтаны в гранитных чашах и унеслась в голубое небо стальная и словно невесомая громада знаменитой башни. И маленькими букашками показались люди, толпившиеся на ее верхней площадке, под шпилем.
Эспланада Дома Инвалидов, площадь Звезды, Собор Парижской богоматери, Лувр, Гранд-Опера и Елисейские поля – такого архитектурного богатства было вполне достаточно даже не для одного города. А фиакр продвигался вперед, и в каждом квартале можно было видеть неповторимое сооружение, типичное только для Парижа.
И всюду крикливая реклама. В Латинском квартале, у бульвара Сен-Мишель, с разноцветной афиши глядел на парижан живыми выпуклыми глазами седеющий бородатый крепыш с короткой толстой шеей: это Жан Жорес объявлял о своей речи в Большом манеже.
Когда завернули к вокзалу, Виктор с удивлением заметил, как одиночками, группами и даже большим потоком вылезали люди из-под земли по широкой лестнице и растекались по тротуарам.
– Что это? – спросил он у возницы.
Тот махнул рукой:
– На днях открыли. Новинка века, мсье, железная дорога под землей. И назвали чудно, по-гречески: метрополитен; значит – главный город, столица. А нам эта штука – конкурент. Только солидный человек туда не полезет, ему пристойней на фиакре ездить. Придумывают люди! В Лондоне есть, в Нью-Йорке и в Будапеште есть, а мы чем хуже? Француз, мсье, никогда не отстанет от моды!..
«Да, плетемся мы в хвосте, – подумал Виктор. – В Петербурге пошел трамвай, в Москве – все еще конка. А в деревне и о керосине понятие столь слабое, что наивный мужик может выпить его вместо водки, как это картинно изобразил Щедрин в сказке о двух мальчиках. И работают здесь на фабриках всего десять часов, и Жорес открыто говорит о социализме…»
В полдень поезд ушел на север. За окном вагона развернулась низменная Нормандия, засверкала петляющая по равнине Сена. Затем промелькнул Руан – прекрасный памятник нормандской готики, город текстилей и судостроителей. И когда-то в этом городе пылал самый памятный костер Франции: на нем сожгли Орлеанскую деву – Жанну д’Арк.
Из Гавра в Портсмут пароход шел ночью. Беспокойный осенний Ла-Манш не давал уснуть. Но даже после бессонной ночи Виктор в бодром настроении занял сидячее место в поезде и, не сделав остановки в Лондоне, добрался до Молдона, в графстве Эссекс, где Сергей Андропов уже поджидал его на станции: неуклюжий, в выцветшей голубой косоворотке навыпуск, с длинными волосами дьячка, но такой родной и желанный!
За все время разлуки Виктор думал об Андропове как о самом близком друге. Связывала его с Сергеем действительно пламенная дружба: в ней были и восхищение, и соревнование, и преданность. И глубокая симпатия и идейное родство.
Давным-давно Бенедикт Спиноза говорил о том, что человеку полезнее всего человек. Один – всегда один, как перст, а два, да связанные высокой целью, – это уже не два, а три или четыре, потому что к помноженным человеческим чувствам – нежным и добрым – вовсе неприложимы законы простого арифметического счета. А там, где действуют в обществе два друга, связанные общностью высоких и благородных интересов, есть уже коллектив, способный сдвинуть горы!
Может быть, и не так говорил Спиноза, но Виктор вспомнил его изречение именно так и чувствовал себя сильным и радостным, потому что рядом сидел Сергей и разделял его мысли о том, что нет необходимости болтаться за границей, когда в России так остро нужны люди революционного подвига.
В непринужденной болтовне с близким человеком незаметно– пролетели пять километров до местечка Перли, где Андропов жил и работал у толстовца Владимира Черткова.
Владимир Григорьевич Чертков произвел на Виктора двойственное впечатление, словно это был Дон-Кихот Ламанчский – человек правильный и волевой, способный на подвижничество, но занятый бесполезной войной с мельничными крыльями где-то на подступах к Иберийским горам.
Чертков был человек высокий и плотный, с орлиным носом, серыми холодными глазами навыкате и великолепной шевелюрой. Некогда конногвардеец из свиты императора, он был богат и знатен. И его весьма эффектно нарисовал Крамской, когда он еще прожигал жизнь в русской столице, жуировал напропалую и крупно играл в карты. Родовые связи давали ему возможность стать флигель-адъютантом или генерал-губернатором. Но он не стал делать служебную карьеру.