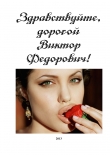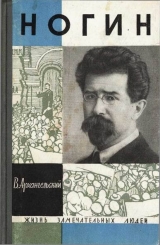
Текст книги "Ногин"
Автор книги: Владимир Архангельский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
В тот же день Ильич выступал с большой речью. Он разбил все доводы соглашателей. Их программа, говорил он, не программа революционной демократии, а программа буржуазной парламентской республики. Но рядом с буржуазным правительством не может существовать новый тип власти. Одно из двух: либо идти вперед, к пролетарско-крестьянской демократической республике, в которой власть принадлежала бы только Советам, либо назад – к обычному буржуазному правительству. И тогда Советы будут разогнаны контрреволюционными генералами или умрут бесславной смертью.
– Партия большевиков не отказывается от власти, каждую минуту она готова взять власть целиком, чтобы осуществить свою программу, – заявил Ленин.
Но съезд выразил доверие коалиционному правительству, одобрил резолюцию об «обороне отечества» и дал согласие начать наступление на фронте.
С такими Советами, где решающий голос принадлежит соглашателям, большевикам было не по пути.
4 июля 1917 года петроградские рабочие и солдаты предприняли еще одну попытку побудить Совет взять власть. 500 тысяч человек вышло на мирную демонстрацию со знаменами «Вся власть Советам!».
Временное правительство встретило демонстрантов пулеметным огнем. На углу Садовой и Невского было убито и ранено 400 человек. Отряды контрреволюции разгромили дворец Кшесинской, где помещался Центральный Комитет большевиков, и типографию «Правды» на Ивановской улице. Ленин был объявлен вне закона – за «государственную измену» и подготовку «вооруженного восстания».
Керенский стал премьером – главным козырем в руках контрреволюции. Меньшевики и эсеры из Петроградского Совета склонили перед ним голову. «Обе партии свободы – эсеры и меньшевики – сообща создадут следственную комиссию для разбора «дела Ленина», – заявил Ираклий Церетели. Двоевластие кончилось. Большевики временно сняли лозунг «Вся власть Советам!».
Ногин находился в Петрограде, когда надо было решать сложнейший вопрос дня; являться Владимиру Ильичу на суд контрреволюции или надежно укрыться в подполье? Ногин был в тот час возле Ильича в квартире Сергея Аллилуева на 10-й Рождественской улице.
«Ленин и Крупская там, – вспоминал Серго. – Не успели мы сесть, как вошли Ногин и В. Яковлева. Пошли разговоры о том, надо ли Владимиру Ильичу явиться и дать себя арестовать».
Никогда в жизни не переживал Ногин такой ужасной минуты, он не видел категорически точного решения. На любую жертву готов он был для Ильича. Но всякая жертва сейчас не казалась оправданной. Да и не в ней дело: запятнана партия, о Ленине говорят на всех углах, что этот германский шпион удрал к Вильгельму. «А коли он тут, почему хоронится? Видать, совесть и впрямь нечиста?» – рассуждали даже те солдаты, которые не раз заявляли о своих симпатиях большевикам. Жить с таким обвинением ее вождя партия не может. Как оправдаться перед широкими массами? Они же шарахнутся в сторону, как только утвердятся в мысли, что Ленин не желает снять с себя обвинение. Да и кто может сделать это лучше его?
«Ногин довольно робко высказался за то, что надо явиться и перед гласным судом дать бой. Ильич заметил, что никакого гласного суда не будет, Сталин добавил: «Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге». Ленин, по всему видно, тоже против, но немного смущает его Ногин.
Как раз в это время заходит Елена Стасова. Она, волнуясь, сообщает, что в Таврическом дворце вновь пущен слух, якобы по документам архива департамента полиции Ильич – провокатор! Эти слова произвели на Ленина невероятно сильное впечатление. Нервная дрожь перекосила его лицо, и он со всей решительностью заявил, что надо ему сесть в тюрьму. Ильич объявил это нам тоном, не допускающим возражений».
Ленин уже попрощался с Крупской:
– Может, не увидимся уж… – И они обнялись.
Но тогда заколебались товарищи. Страшной до ужаса казалась им мысль, что они видят вождя в последний раз: ведь в угаре чудовищной политической сплетни каждый дурак может пустить в него пулю. Нет, выпускать Ленина из квартиры нельзя!
Долго сидели молча. Затем обсудили всю ситуацию еще раз. И пришли к выводу: Ногин – член Президиума ЦИК от большевиков Москвы; он должен поехать вместе с Серго к другому члену Президиума – Анисимову – и договориться с ним об условиях содержания Ильича в тюрьме.
«Мы должны были добиться от него гарантий, что Ленин не будет растерзан озверевшими юнкерами, – вспоминал Серго. – Надо было, добиться, чтобы Ильича посадили в Петропавловку (там гарнизон был наш), или же, если посадят в «Кресты», добиться абсолютной гарантии, что он не будет убит и предстанет перед гласным судом. В случае утвердительного ответа Анисимов под вечер на автомобиле подъезжает к условному подъезду на 8-й Рождественской, где его встречает Ленин, и оттуда везет Ильича в тюрьму, где, конечно, его прикончили бы, если бы этой величайшей, преступной глупости суждено было совершиться.
Мы с Ногиным явились в Таврический и вызвали Анисимова. Рассказали ему о решении Ильича и потребовали абсолютной гарантии. На Петропавловку он не согласился. Что касается гарантии в «Крестах», заявил, что, конечно, будут приняты все меры. Я решительно потребовал от него абсолютных гарантий (чего никто не мог дать!), пригрозив, что в случае чего-либо перебьем их всех. Анисимов был рабочий Донбасса. Мне показалось, что его самого, охватывает ужас от колоссальной ответственности этого дела. Еще несколько минут, и я заявил ему: «Мы вам Ильича не дадим». Ногин тоже согласился с этим».
И ушла великая тоска, и словно гора упала с плеч, когда в тот же вечер Ногин узнал, что Владимир Ильич благополучно вышел из города.
Теперь надо было всей партии брать на себя защиту Ленина. И это мог сделать только съезд партии.
VI съезд открылся полулегально 26 июля 1917 года в доме № 62 по Сампсониевскому проспекту, на Выборгской стороне. Он представлял 240 тысяч членов партии – в три раза больше, чем в дни Апрельской конференции большевиков.
Открыл съезд Михаил Ольминский. О явке Ленина в суд сделал доклад Серго Орджоникидзе. Он заявил: партия не может допустить, чтобы из «дела Ленина» контрреволюция сотворила второе дело Бейлиса. И съезд единодушно высказался за неявку Ленина в суд. Он послал приветствие Владимиру Ильичу и избрал его почетным председателем.
Ленин в то время жил в Разливе и из своего «зеленого кабинета» – из последнего подполья – направлял работу делегатов.
Заседал съезд в напряженной обстановке; 25 августа генерал Корнилов двинул мятежные войска на Петроград, рассчитывая задушить революцию и стать военным диктатором. Делегаты съезда обсуждали не только важнейшие проблемы политического момента, но и беспрерывно выступали на митингах, поднимая рабочих и солдат на защиту красного Питера. Корнилова удалось опрокинуть до закрытия съезда. И широкие массы смогли убедиться, что только большевики отстаивают революцию.
Все резолюции VI съезда были подчинены главной задаче – подготовке вооруженного восстания. По поручению съезда новый ЦК обратился с манифестом ко всем трудящимся, призывая их готовиться к решающим боям с диктатурой буржуазии: «…грядет новое движение и настает смертный час старого мира.
Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»
Виктор Павлович Ногин – один из старейших членов партии и член Центрального Комитета – получил слово для закрытия съезда.
– Наш съезд является… первым съездом, наметившим шаги к осуществлению социализма, – сказал он. – Как бы ни была мрачна обстановка настоящего времени, она искупается величием задач, стоящих перед нами, как партией пролетариата, который должен победить и победит.
А теперь, товарищи, за работу!
Как и десять лет назад, он теперь беспрерывно курсировал в поездах «Москва – Петроград». В Москве он выступал на митингах и предлагал резолюции, которые вытекали из решений съезда, и добивался изгнания из Московского Совета меньшевиков и эсеров. Их влияние заметно падало, так как Московские рабочие и солдаты резко повернули влево – к большевикам.
В Петрограде Ногин активно работал в ЦК и во Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.
5 августа ЦК выделил Ногина для руководства партийной работой в Московской области, а затем направил в Демократическое совещание, которое будто бы должно было решить вопрос об организации власти на демократических началах.
Совещание открылось 14 сентября. А на другой день ЦК партии получил для обсуждения два письма Владимира Ильича Ленина: «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». Партия объявила бойкот Демократическому совещанию и снова выдвинула лозунг «Вся власть Советам – в центре и на местах!». И призвал рабочих, солдат и крестьян бороться за созыв II Всероссийского съезда Советов.
Этот лозунг был весьма оправдан: в Петрограде, в Москве и в ряде других крупных центров большевики добились победы в Советах. 19 сентября Виктор Павлович Ногин стал первым большевистским председателем Московского Совета.
Демократическое совещание не осмелилось идти на сговор с кадетами. Но не поддержало и требований партии Ленина. И выделило из своей среды Совет Российской Республики (предпарламент), который мог быть только совещательным органом при Временном правительстве.
21 сентября в ЦК обсуждался вопрос: как быть с этим эсеро-меньшевистским детищем? Оставаться в нем или выходить из него? Голоса разделились почти поровну. ЦК обратился к большевистской фракции Демократического совещания. За участие в предпарламенте высказалось 77 человек, среди которых был и Ногин, 50 – против.
Владимир Ильич, обеспокоенный таким исходом дела, выступил с резким письмом за бойкот. Он обозвал предпарламент «революционно-демократическим» совещанием публичных мужчин» и высказался за то, чтобы быстрее разогнать «бонапартистскую банду Керенского с его поддельным предпарламентом».
«Невозможны никакие сомнения насчет того, что в «верхах» нашей партии заметны колебания, которые могут стать гибельными, ибо борьба развивается, и в известных условиях колебания, в известный момент, способны погубить дело. Пока не поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстоять правильную линию партии революционного пролетариата.
У нас не все ладно в «парламентских» верхах партии; больше внимания к ним, больше надзора рабочих за ними; компетенцию парламентских фракций надо определить строже. Ошибка нашей партии очевидна. Борющейся партии передового класса не страшны ошибки. Страшно было бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания и исправления ее».
Виктор Павлович не сделал выводов из этого строгого предупреждения вождя. Он опасался, что партия может потерять все связи даже с теми элементами, которые способны пойти с ней до определенного рубежа. Ему иногда казалось, что слишком смелые шаги Ленина могут послужить основанием для гражданской войны. Но у него не было коренных расхождений с ЦК, и он, не кривя душой, согласился с мнением товарищей о выходе из предпарламента.
События развивались стремительно.
Владимир Ильич шел вперед с той ясностью перспектив, которая подчеркивала всю гениальность его предвидений. Он уже слышал, как клокочет лава в вулкане революции, готовая вырваться наружу с невиданной силой. И прекрасно понимал, что близок тот исторический час, когда надо идти на восстание и брать власть в свои руки.
И Виктор Павлович видел, что час восстания близок. Но его страшила мысль, что одним большевикам придется формировать новую, революционную власть. Удержат ли они эту власть без поддержки других социалистических партий?
Иногда ему казалось, что одни большевики не смогут ликвидировать тот несусветный хаос, который поставил страну на грань краха.
Старая Россия и впрямь разваливалась на глазах. В Москве и в Петрограде почти не было хлеба, и в длинных очередях к продовольственным лавкам каждый день подбирали истощенных людей. Транспорт парализовался. Безработица добивала голодающих. Стачки и локауты сотрясали обе столицы, угольный Донбасс и Одессу. Солдаты донашивали опорки и бросали оружие. В Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, в Екатеринославе распадались Советы под натиском контрреволюции. Буржуазная Рада в Киеве формировала армию против России. Национализм поднял голову в Польше, в Финляндии, в Прибалтике. Кубань объявила себя независимым казачьим государством. Генерал Каледин собрал три армии казаков и грозил выступлением с Дона. Вильгельм II готовил наступление на Петроград. Лидер правых кадетов Родзянко писал в газете «Утро России»:
«Я думаю, бог с ним, с Петроградом! Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения (т. е. Советы и т. д.). На это я возражаю, что очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли…»
В такой ситуации Владимир Ильич направил 1 октября письмо членам ЦК и большевикам в обеих столицах: «Большевики не вправе ждать съезда Советов, они должны взять власть тотчас…
Медлить – преступление. Ждать съезда Советов – ребячья игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции.
Если нельзя взять власть без восстания, надо идти на восстание тотчас. Очень может быть, что именно теперь можно взять власть без восстания: например, если бы Московский Совет сразу тотчас взял власть и объявил себя (вместе с Питерским Советом) правительством. В Москве победа обеспечена и воевать некому. В Питере можно выждать. Правительству нечего делать и нет спасения, оно сдастся».
Жаркие дебаты развернулись в связи с этим письмом в Москве. Алексей Рыков, который наиболее определенно развивал взгляды товарищей из правого крыла МК, и «левые» из Московского областного бюро – Бухарин, Сапронов, Осинский – добились решения: Москва не может взять на себя почин выступления. Виктор Павлович Ногин согласился с таким выводом.
Наступило 16 октября. В этот день состоялось знаменитое заседание ЦК, на котором окончательно решился вопрос о вооруженном восстании в Петрограде. Руководить восстанием поручалось Военно-революционному центру в составе Бубнова, Дзержинского. Свердлова, Сталина и Урицкого.
18 октября Зиновьев и Каменев дали интервью сотруднику газеты «Новая жизнь», которая считалась, внепартийной, но часто склонялась к меньшевикам.
В интервью было много тумана. Но между строк можно было увидеть, что два цекиста знают о подготовке восстания и относятся к нему неодобрительно.
Владимир Ильич пришел в ярость. «Подумать только! – писал он членам партии большевиков, – …двое видных большевиков выступают против большинству и, явное дело, против ЦК. Это не говорится прямо, и от этого вред для дела еще больше, ибо намеками говорить еще опаснее».
Ленин заявлял, что «молчать перед фактом такого неслыханного штрейкбрехерства было бы преступлением». И делал вывод: «Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии».
Через три года Владимир Ильич снова вспомнил об этих событиях 18 октября 1917 года: «Если колеблющиеся вожди отходят прочь в такое время, это на ослабляет, а усиливает и партию, и рабочее движение, и революцию».
Но Зиновьев и Каменев не желали уходить. Да и некоторые члены. ЦК, в том числе и Сталин, при обсуждении вопроса об исключении из партии этих двух болтливых и колеблющихся цекистов предложили отложить решение до пленума ЦК, но запретили им выступать от имени партии.
24 октября – на последнем пленуме в канун победы – никто не отрицал, что власть надо брать в ночь на 25-е, как этого требовал Владимир Ильич. Было внесено предложение: всем членам ЦК быть на месте, и никому не отлучаться из Смольного без разрешения Центрального Комитета. А Ногин одновременно рекомендовал выяснить, на какие действия может пойти ЦИК, когда восстание победит.
– Меня беспокоит, какую позицию займут железнодорожники в этот исторический момент. Они признают власть одного лишь Центрального Исполнительного Комитета, и, если после восстания выступят против нас, мы будем отрезаны от всей России.
Центральный Комитет большевиков фактически заседал всю ночь. Но это было необычное заседание: оно прерывалось, когда надо было послать группу товарищей к морякам, солдатам или красногвардейцам, и возобновлялось вновь, как только поступали серьезные известия о ходе восстания. С огромной энергией действовал Военно-революционный комитет Петроградского Совета, душой которого был Военно-революционный центр партии. Но мозгом и сердцем восстания был великий Ленин. Он был оживлен, весел, светился весь изнутри каким-то особенным светом, был непоколебим, уверен и тверд, отмечали товарищи, работавшие с ним в ту ночь. Анатолий Васильевич Луначарский отмечал героические усилия помощников Владимира Ильича: «Я не могу без изумления вспомнить эту ошеломляющую работу и считаю деятельность Военно-революционного комитета в Октябрьские дни одним из проявлений человеческой энергии, доказывающим, какие неисчислимые запасы ее имеются в революционном сердце и на что способно оно, когда его призывает громовой голос революции».
К 10 часам утра 25 октября вся столица находилась под контролем ВРК. Только Зимний дворец, Главный штаб и Мариинский дворец да еще несколько зданий в центре города оставались в руках правительства. Военно-революционный комитет опубликовал обращение «К гражданам России», написанное Владимиром Ильичем. Оно возвещало о победоносном ходе социалистической революции, о низложении Временного правительства.
Виктор Павлович отправился на почтамт и передал по телефону текст обращения в Московский комитет большевиков.
Ночью на пленуме ЦК было решено, что он уедет в Москву вечером 25 октября. А до этого будет заседать в Президиуме II Всероссийского съезда Советов, который откроется в Смольном в два часа дня. Оставалось слишком мало времени, чтобы самому лично убедиться в обстановке, сложившейся в столице. В переполненном трамвае, где страсти кипели, как в огромном котле, где воздавали хвалу Ленину и с той же горячностью проклинали его, он добрался до Невской заставы, повидал старых друзей и выступил перед ними на митинге. Он особенно подчеркнул, что нигде не слышал стрельбы, не видел убитых и раненых.
– Это великое благо, товарищи, что восстание развивалось бескровно и с такой поразительной быстротой. С первым днем рождения нового мира поздравляю вас, дорогие друзья! – закончил он свою речь.
Съезд не открылся ни в два часа дня и ни в девять часов вечера, когда пришлось отправляться на вокзал. Делегаты съехались близко к одиннадцати. А далеко за полночь прибыли участники штурма Зимнего дворца. И весь зал восторженно приветствовал сообщение о падении Зимнего и об аресте членов Временного правительства.
Когда же поезд, увозивший Ногина, миновал Бологое, II съезд Советов одобрил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!». И в нем говорилось: «Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки».
Едва узнали в Москве о сообщении Ногина из Петрограда, как на экстренное заседание собрались два комитета большевиков – городской и окружной, и областное бюро.
В боевой центр по руководству восстанием выдвинули «пятерку»: Владимирский, Подбельский, Пятницкий, Стуков и Соловьев. А старая ленинская гвардия – Ярославский, Ольминский, Скворцов-Степанов, Землячка, Лихачев и Штернберг – раскреплялась по районам – руководить революционными комитетами и готовить отряды Красной гвардии.
Во втором часу дня Алексей Ведерников с группой красногвардейцев и солдат 56-го полка оцепил почту и телеграф. Но его ввели в заблуждение почтовые служащие. Они сказали, будто бы получена телеграмма из Питера, что там большевики добровольно сняли охрану в столичном телеграфе. И отряд Ведерникова отступил.
Только поздно вечером удалось собрать на заседание членов двух Советов – рабочих депутатов и солдатских. До полуночи меньшевики – во главе со старым оппортунистом Исувом – и эсеры топили важнейшее дело в словесной шелухе. Но большевики сумели сплотиться и создали Военно-революционный комитет. Основным ядром его стали Усиевич, Аросев, Будзинский и Ногин. Но два места получили меньшевики.
Пока формировался ВРК, какой-то важный момент в борьбе за власть был упущен: именно в эти часы был создан контрреволюционный «Комитет общественного спасения» под эгидой начальника московского гарнизона полковника Рябцева и городского головы Руднева. И не все сразу поняли, что это за «комитет», так как в него вошли и меньшевики, еще считавшиеся представителями социалистической партии.
В ночь на 26 октября Военно-революционный комитет разослал приказ о приведении в боевую готовность революционных сил. В рабочих районах – на Пресне, в Сокольниках, Хамовниках и в Замоскворечье – ревкомы быстро стали хозяевами положения.
Но в центре города ясности не было. Солдаты «двинцы», арестованные Временным правительством за выступление против войны и выпущенные в сентябре из Бутырской тюрьмы по настоянию председателя Моссовета Виктора Павловича Ногина, охраняли МК, Московский Совет и Военно-революционный комитет. За спиной Рябцева стояли юнкера. Два лагеря четко размежевались, но боевых действий не начинали.
Полковник Рябцев, чтобы выиграть время, предложил ВРК переговоры. Он обещал не препятствовать вооружению рабочих и отвести юнкеров от Кремля.
Не успел Виктор Павлович обстоятельно рассказать на пленуме Московского Совета о ходе победоносного восстания в Петрограде, как пришлось ему идти 26 октября вечером на переговоры с Рябцевым. Обе стороны говорили о том, что недопустимо доводить в Москве дело до кровопролития. Делегация Ногина искренне верила в бескровную победу в Москве. И предлагала Рябцеву сложить оружие, так как в Петрограде уже создана II Всероссийским съездом Советов новая, законная власть.
А у Рябцева на столе лежало провокационное сообщение старого, эсеро-меньшевистского ЦИК о том, что II Всероссийский съезд всего-навсего частное собрание делегатов-большевиков и его постановления не обязательны для местных Советов и армейских комитетов. И полковник хитрил и изворачивался. И он сказал, что подумает. Хотя вполне определенный ответ у него уже назрел. Час назад он получил уведомление, что через сутки Керенский и Краснов начнут наступление на Петроград. В тот же день и он хотел ударить по большевикам Москвы.
Когда-то Владимир Ильич сказал в Народном доме графини Паниной:
– Что такое переговоры? Начало соглашений. А что такое соглашение? Конец переговоров!
Но в ситуации с полковником Рябцевым переговоры отнюдь не привели к соглашению, а еще больше усугубили положение. Все оставалось без изменений: 56-й полк не уходил из Кремля, отряды юнкеров не занимали Кремль. А как только Керенский стронул части Северного фронта в сторону Гатчины и Царского Села, Рябцев объявил Москву на военном положении и предъявил ультиматум: немедленно ликвидировать Военно-революционный комитет и вывести солдат 56-го полка из Кремля. Так началась гражданская война в Москве.
Это было в пятницу, 27 октября, в восемнадцать часов. А четыре часа спустя юнкера напали на отряд «двинцев», который проходил по Красной площади из Замоскворечья к Московскому Совету. В ожесточенной схватке и «двинцы» и юнкера понесли серьезные потери. В перестрелку с отрядом красногвардейцев вступили студенты коммерческого института возле Стремянного переулка.
Рябцев перехватил инициативу: 28 октября юнкера взяли Кремль и учинили кровавую расправу над солдатами 56-го полка. Бои стали завязываться во всех районах. 29 октября Военно-революционный комитет снова овладел почтой и телеграфом. Красногвардейцы захватили здание градоначальства на Тверском бульваре и Симоновские пороховые склады. Горячие бои завязались на Сухаревской площади и на Садовой, у Никитских ворот, на Остоженке и Пречистенке. Загрохотали орудия, полыхнули пламенем горящие дома; юнкера с крыш и чердаков поливали свинцом перекрестки улиц и вели обстрел площадей. Красная гвардия развернула осаду Алексеевского военного училища в Лефортове, корпуса рассыпались и горели под артиллерийским огнем. А в ничейной полосе заметались мародеры и кинулись грабить лавки.
Всероссийский Исполнительный Комитет железнодорожного союза (Викжель) и митрополит православной церкви Тихон предложили объявить перемирие хотя на одни сутки.
– Нужна передышка! – страстно говорил Виктор Павлович на заседании ВРК. – Надо еще раз идти на переговоры. У Рябцева силы на исходе, он должен сдаться. Нужно прекратить кровопролитие и сохранить Кремль. Иначе мы дойдем до того, что каждый честный социалист перестанет подавать нам руку.
Это была глубоко ошибочная позиция – выжидание, переговоры в данный момент ослабляли силы революции. Но делегация Ногина, еще не поняв своей ошибки, снова отправилась на переговоры. Ее провели через Манеж, где стояли рядами юнкера и казаки, и кто-то бросил с ненавистью:
– Собачьи депутаты! Разложить бы их и нагайкой!
И каждую минуту можно было ждать от этих разъяренных врагов шальную пулю в затылок.
Виктор Павлович объявил требование ВРК: распустить «Комитет общественной безопасности», сложить оружие, подчиниться власти Московского Совета.
Но Керенский еще не был добит под Царским Селом, Рябцев верил в его победу и ответил отказом.
Перемирие, длившееся ровно сутки, окончилось в полночь 30 октября. На другой день прибыли в Москву красногвардейцы и солдаты из Иваново-Вознесенска и Шуи во главе с Фрунзе, рабочие отряды из Владимира, Тулы и Серпухова. Из Питера прорвался по железной дороге отряд балтийских моряков. 1 октября началось решающее сражение за Москву, а 2-го, в 17 часов, Рябцев сдался. Ночью революционные войска взяли Кремль. В древней русской столице утвердилась власть Советов.
Виктору Павловичу не пришлось разделить радость великой победы с московскими товарищами. В ночь на 2 ноября он уехал в Петроград на заседание ЦК. Да и надлежало ему определить позицию и в Совете Народных Комиссаров: с 26 октября ему принадлежал портфель наркома торговли и промышленности. Но он еще не вступал в должность.
До последнего дня он даже себе не признавался, что становится на путь резких расхождений с линией ЦК, с линией Владимира Ильича о власти. Он оставался одним из тех, кому пришлось сыграть руководящую роль в дни восстания и в Петрограде и в Москве, хотя и обливалось у него сердце кровью, что приходится платить за власть такой дорогой ценой жизни красногвардейцев, рабочих, солдат и матросов. С тревогой наблюдал он, как ширится платформа контрреволюции в стране. К открытым врагам советской власти – генералам и монархистам, офицерам и октябристам, юнкерам и кадетам – явно склонились те, кто мог быть ее опорой в этот ответственный момент; меньшевики всех оттенков, эсеры левого и правого крыла, словом, весь так называемый демократический фронт социалистических партий. Лидер правых эсеров Чернов убежал к генералу Духонину, который объявил себя верховным главнокомандующим и готовил расправу с Советским правительством. Многие меньшевики заключили в объятия мятежного генерала Каледина. А он уже поднимал против красного Питера казачество Кубани, Терека и Астрахани. Викжель – эта вотчина меньшевиков и эсеров – не только саботировал доставку хлеба в крупные города, но и затевал форменный мятеж. В тот самый день – 29 октября, – когда было предложено перемирие в Москве, Викжель открыто заявил о своем враждебном отношении к Совету Народных Комиссаров. В телеграмме, разосланной «всем, всем, всем», было писано черным по белому: «В стране нет власти… Власть образовавшихся в Петрограде Советов Народных Комиссаров, как опирающаяся только на одну партию, не может встретить признания и опоры во всей стране. Необходимо создать такое правительство, которое пользовалось бы доверием всей демократии и обладало бы моральной силою удержать эту власть в своих руках до созыва учредительного собрания, а такую власть можно создать только путем разумного соглашения всей демократии, но никаким образом силою оружия».
Викжель одновременно заявлял, что если не закончится немедленно гражданская война и народ не сплотится «для образования однородного революционного социалистического правительства», он объявит забастовку и остановит всякое движение поездов в стране.
Виктор Павлович слишком серьезно отнесся к этой угрозе, и ему изменило чувство реального. С мыслью, что на соглашение с Викжелем придется идти любой ценой, он и выехал из Москвы.
В переполненном вагоне, где политические споры ожесточенно велись всю долгую ноябрьскую ночь, в духоте, от которой спасали лишь выбитые стекла, в шумной толчее, возникавшей всякий раз, когда на остановках подваливали в вагон озябшие солдаты, что выбивали каблуками дробь на крыше и беспрерывно тянули заунывные песни, с большим опозданием приехал Ногин в Питер.
Люди маялись в длинных очередях или суетились на улице. Красногвардейцы и матросы патрулировали на перекрестках и стояли на часах возле охраняемых зданий. Но никакой стрельбы не было. И тем зловещей казался визгливый посвист снарядов, пролетавших вчера в сторону Кремля от Страстной площади, когда он выходил из здания Московского Совета.
В шумном Смольном, прикрытом по фасаду большим охранением, вооруженным трехдюймовками, пулеметами и винтовками, возле комнаты № 67, где уже собирались наркомы в тесной приемной Владимира Ильича, кинулся ему навстречу встревоженный нарком народного просвещения Анатолий Васильевич Луначарский – усталый от бессонных ночей, охрипший от беспрерывных митингов:
– Это правда, Виктор Павлович? Неужели мы бьем из пушек по Кремлю?
– Да. Там засели юнкера.
Луначарский упал на стул и обхватил голову руками.
Владимир Ильич с лихорадочным блеском в покрасневших прищуренных глазах, в небрежно накинутом на озябшие плечи черном пальто подал руку. Но сухо:
– Боюсь, что будем драться, Виктор Павлович, а?
– За тем и приехал, Владимир Ильич. Но хочу еще осмотреться.
Ленин любил и ценил этого умного, упрямого и беззаветно преданного партии человека, который никогда ничего не делал наполовину. И потерять его не хотелось. Но уже многое разделяло их, словно этот спокойный и такой уравновешенный человек в пенсне, с сединой, которого он помнил почти мальчишкой – восторженным, смелым, пытливым, – уже стоял на другом берегу. А глубокая река бурлила, паром снесло бурей. Как же помочь ему перебраться на этот берег?