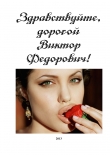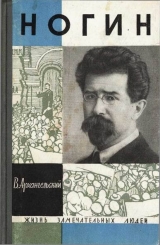
Текст книги "Ногин"
Автор книги: Владимир Архангельский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
НОГИН
Владимир Васильевич Архангельский

Биография Ногина – биография нашей партии, его внутренняя жизнь – сплошное действо в той социальной драме, которую представляет собой борьба рабочего класса. И каждый молодой член партии, комсомола, каждый пионер должен изучить эту биографию, внутренне понять те великие силы, которые вкладывали в скромных выходцев из рабочего класса стальную способность бороться за его идеи.
М. И. КАЛИНИН
ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ
На исходе лета Варвара Ивановна везла из Москвы в Калязин больного мужа и двух мальчиков.
Павел Васильевич сидел молча, откинувшись на подушку и закрыв глаза. Физической боли он не ощущал, но сильно страдал душой: все не мог смириться, что в самую главную пору жизни, не дотянув до сорока годов, сделался он убогим – в один миг скосил его удар на правую сторону. Родня уже кликнула попа – соборовать и читать отходную, – так был плох тогда этот грузный и крупный мужчина с крутым лбом и окладистой каштановой бородой.
Но болезнь отпустила. Только правая нога стала как ватная и волочилась по полу и правый слезящийся глаз был раскрыт шире левого. Детям это внушало страх.
Конечно, о службе лучше забыть. «На время, на время!» – утешал себя Павел Васильевич. Однако прошло полгода, а ничего не изменилось.
Собрал он все свои сбережения, выпросил пособие у богатого фабриканта Викула Морозова, кому двадцать пять годов прослужил приказчиком, и скрепя сердце согласился признать жену своим опекуном.
Варваре Ивановне дали совет увезти мужа из Белокаменной в тихую глушь на Волге. Она купила в Калязине дом – на три окна по фасаду – за восемнадцать сотен, словно навеки распрощалась со своей родной Москвой, и тронулась в путь.
Павел Васильевич упорно молчал и не открывал глаз. Но возок катился под уклон, вдоль большака бежали вековые березы и липы, беспокойные мальчишки поднимали крик: они видели черную стаю грачей, синюю купу цикория, белую ромашку с лимонным глазком, лиловую корзинку чертополоха на толстом колючем будыле. Павел Васильевич недовольно вздыхал, крякал и открывал левый глаз.
Он видел жену: спокойно поводила она головой на длинной красивой шее и придерживала рукой легкую черную шаль, из-под которой выбивалась рыжеватая прядка волос с золотистым отливом.
А мальчишки дурачились вовсю: они подпрыгивали на ухабах и тыкались носом в широкую запыленную спину ямщика.
– Тише, дети! – грозила пальцем Варвара Ивановна, и мальчишки на миг замолкали.
Но усидеть спокойно не могли: дорога была на диво красивая, она манила, звала, возбуждала. Цветами были затканы высокие склоны большака. И как пошли от Сокольников густые синие леса, так и тянулись они за Мытищи, Абрамцево и Хотьково, пока не показались под дугой золотые и синие – в звездах – купола старинной Сергиевой обители.
Варвара Ивановна смотрела по сторонам, но все думала о муже и о детях.
С мужем узелок завязался крепко, а коль умом пораскинуть, то счастья не вышло: крут был Павел Васильевич, не в меру расчетлив, шагу ступить не давал без оговора и во все мелкие дела по дому вникал хуже всякой бабы. А в доме она хозяйка и уступать да потакать совсем не приучена.
Просватали ее в семнадцать лет, когда жених был в ажуре: собою – видный, в конторе – на отличном счету, жалованье – хорошее и впереди – карьера, достаток, благополучие. Уж чего не добьешься по службе, когда дальний родственник мужа – Иван Кондратьевич Поляков – сумел войти в долю к Викулу и заправляет теперь фамильными мильонами текстильного королевства вторых Морозовых?
Но все рухнуло в новогоднюю ночь, после удара. А с больным Павлом Васильевичем и вовсе нет сладу: одни капризы да нежеланные, неизбежные ссоры.
И детей надо ставить на ноги. Пашеньке всего десять годков, зимы три придется учить его, пока не отдашь в услужение мальчиком. Витеньке только восьмой пошел: нынче осенью идти ему в первый класс. Добытки плохие, домашним шитьем белья трех мужиков не прокормишь. На Викула Морозова надежды – самая малость: положил сгоряча сорок целковых в месяц, а никакого срока пенсиону не указал. Отнимет в любой час, тогда хоть по миру иди!
Павлик увидал Сергиевы купола и зашептал Витеньке в ухо: приедем, мол, в обитель, к вечерне пойдем с папенькой, благолепное пение послушаем – он это любит и не пропустит. Монахи-то, знаешь, как сытно кормят? Скорей бы застолье, а то в брюхе совсем подвело! Сколь едем и все пирог сухой жуем да водой запиваем!
А Витя не хотел думать про монахов и про застолье: покорила его эта красивая дорога. Он высунул голову и через подуги любовался: то травинкой, которая смело выбралась на большак и едва не угодила под колесо, то цветком, затерявшимся в кустах, то блестевшим на солнце камешком. И чуть не вывалился из кузовка, когда впереди лошадей пронеслась рыжая белочка, задрав пушистый седой хвост.
Он был полон каких-то новых чувств от этой первой в его жизни дороги. И даже о Москве почти не скучал: в ней он мало чего помнил. На укатанном большаке было тихо, светло, спокойно, а Москва осталась в памяти как большая, шумная и грязная толкучка.
В троицын день был он с мамой у храма Христа Спасителя: мало-мало не задавили людишки – кинулись они встречать карету протоиерея Иоанна Кронштадтского. Был намедни на Сухаревке, когда продавали кое-что из старья перед отъездом, мама обронила двугривенный. Так какой-то босяк в рваном армяке и облезлой шапке ухватил его из-под рук, заорал диким голосом:
– Не зевай, Хомка, на то ярманка! – и пропал, растворился в густой горластой толпе.
Правда, были в Москве и радости. Два раза на конке катался: промеж рельсов мчат кони, вагончик ходуном ходит, дыр-дыр! Кондуктор сидит на козлах с возницей и подает сигнал в рожок. Занятно! И на извозчиков можно глядеть хоть целый день, не намаешься.
И мальчишка один умилял до невозможности: несет лоток с пирожками по улице, корчит рожи и приговаривает:
– Навались, народ честной! Эх, сам бы ел, да хозяин не велел!
«Не ешь, – говорит, – Федька, отравишься!» Смешно!
И вспомнился Вите еще один рожок: не у кондуктора, а на столбе В Сокольниках, где жил он в доме у Яковлевской церкви, по вечерам стали освещать улицу газовыми рожками. Раньше палили конопляное масло, потом – керосин. А теперь появился рожок. Готовясь ко сну, выглядывал Витя в окошко: дядька-коротышка в длиннополом рыжем халате брел по мостовой от рожка к рожку с длинной палкой, а на одном ее конце чадила пакля. Коротышка дотрагивался паклей до рожка, и по сумеречной улице разливался такой белый и ровный свет, что всем вокруг было видно, как возле островерхой полосатой будки сидит на высокой скамейке усатый сердитый городовой…
Такого же усатого будочника увидал Витя и в Сергиевом посаде: он поднял шлагбаум перед мордой у взмыленных лошадей, и мама вынула для него из сумки позеленевший медный алтын.
Потом потянулись маленькие домики за штакетником – с мальвами и золотыми шарами на фоне подслеповатых окон. А чем ближе к лавре, тем больше монахов – в узких черных подрясниках, перехваченных лакированным пояском.
Отец сказал, что надо бы ехать к лавре.
– Там и селяночку дадут, – оживился он, – больно хочется горячего похлебать. И комнатку снимем в приезжей: помнится, чисто было у них, Варенька. Да и опять же храм рядом, мне помолиться надо.
– Не на богомолье едем, отец. И не при деньгах мы, а в лавре как пить дать вытянут из тебя пятерку. Заворачивай, Архип, на постоялый двор к Кочюрихину.
– Так, так, Варвара Иванна, – поддержал ямщик. – К монахам да без денег – совсем не та статья: они мошну тугую любят. Кочюрихин тоже дело понимает: он и похлебку выставит и самовар. А клопы, Пал Василич, они ноне где хошь, и у монахов их, как у псалтыри буковок, одним словом – тьма-тьмущая…
В сумерках– отец с Пашей ушел к вечерне. Мать допивала чай на постоялом дворе, роняя в блюдце горькую слезу: дородная хозяйка залезла ей в душу и все причитала, что привел бог такой молодухе нести тяжкий крест – до века ходить за убогим мужем.
– Не смей так говорить о моем папе, зла я Кочюриха! – Витя выскочил из-за стола, выбежал на крыльцо и сел на ступеньку.
Было ему и горько и скучно. И он уже решил забраться в возок к Архипу, дать волю слезам. Но загляделся на мужиков. Они сидели под старой липой тесным кружком – не то мастеровые, не то странники, и, поскидав лапти, зипуны, картузы и шапки, слушали лысого деда с длинной рыжей бородой. Тот наклонялся иногда в круг, шептал густым голосом и – вроде с опаской – поглядывал по сторонам. Витя не прислушивался. Но услыхал знакомую фамилию и навострил уши.
Речь шла про Морозова. Но не про Викула, а про Николая Александровича – молодого барина из-под Рыбинска, у которого отец был богатый помещик, а мать – крепостная крестьянка. А закатали того барина в крепость навечно.
– Слух был: в кандалах железных ноги его закованы, и никого к нему не допущают, – приглушенно говорил дед. – Царя-то весной убили, а я барина до этого видел, осенью заезжал он к себе в Борок, я там печки перекладывал. Ну, и разговор мы держали. Такой мужчина обходительный, только черный, что твой цыган, и в очках. А говорить начнет, будто огнем пышет: и все супротив господ, супротив царя.
– Эх, елки-моталки! – так и подскочил на месте парень, который слушал прилежней других. – Такого человека ты видел, дядя Фома! Да я бы за него… эх! – махнул он рукой. – Это он и царя убил?
– Нет, не он. Я тоже по первости так думал, да у него не вышло. Успел он сговориться с дружками – под царя бонбу кинуть, ан разгадали его затею царевы служки. Другие за него постарались, да повесили их, четверых-то, царство им небесное! – Фома осенил себя крестом.
– Досыть, Фома! – строго сказал мужик в полинявшей красной рубахе. – Бередишь душу грешную, черт старый, гляди, достукаешься! И мальчонка вон уши развесил, сболтнет еще кому не след. А ну, кыш! – цыкнул он на Витю.
Витя встал, одернул рубашку и поплелся в горницу. Надо было ложиться спать: завтра собирались тронуться в путь на рассвете. Он свернулся калачиком на кочюрихинской перине, высунул нос из-под одеяла и тихонько спросил у Варвары Ивановны:
– Мам! А нешто можно царя убивать?
– Свят, свят, свят! – перекрестилась мать и оглянулась в испуге. – И откуда ты взял такое?
– Говорят люди. А мне страшно…
НАД ВОЛГОЙ
Первую осень всей семьей осматривались в Калязине и ладили свое гнездышко. А потом жизнь пошла как старый возок по глубокой, наезженной колее.
На Павла Васильевича переезд к Волге подействовал благотворно: он меньше хромал и от зари до зари хлопотал по хозяйству, с пилой, топором и лопатой. Только наклоняться не мог: приливала кровь к голове, из больного глаза бежала слеза. Приходилось звать на помощь детей. Им же казалось, что отец просто хитрит, а его такая несправедливость огорчала, бесила. Но в общем держался он молодцом.
За сорок рублей купили корову. На столе теперь было свое молоко, и за Милкой все ухаживали, как за самым добрым другом. Отец присмотрел где-то щенка, на первый взгляд породистого, и назвал его Гарсоном. А Гарсон скоро вымахал в простую дворнягу – рыжий, пегий, лохматый, хвост кренделем, – и соседские мальчишки окрестили его Бобкой. Гарсон-Бобка сторожил дом и сад, двор и огород, бегал с Витей и Пашей в лес по грибы. Когда же на насесте подал голос петух и закудахтали куры, по всей Свистухе пошла молва, что москвичи пустили в Калязине крепкий корень.
Любопытные соседи зачастили к новоселам, но хозяин их не жаловал. По характеру замкнутый, Павел Васильевич держался с чужими людьми вежливо, но в друзья не набивался. Обывателей, что пробавлялись мелкой арендой земли, садов и лугов или торговали на воскресном базаре снедью, утварью, сладостями, гребешками, всяким старьем, он сторонился, так как считал себя человеком большого мануфактурного дела, близким к ресконтро, к балансам и движению по конторским книгам крупных хозяйских ценностей. А подобных ему людей из конторского цеха в Калязине не нашлось.
Да и внешне он не желал подстраиваться под калязинских мешан, которые даже в праздники не шли дальше картуза с лакированным козырьком, суконной поддевки и яловичных сапог. А Павел Васильевич, пока не стал ветхим его московский гардероб, держал себя в импозантном виде. С тех давних пор, когда приняли его мальчишкой в фирму с хозяйской одеждой, сложилась у него привычка одеваться красиво, пристойно и чисто – непременно в суконные и шерстяные вещи при белой крахмальной рубахе. И он даже дома, когда не был занят во дворе, всегда одевался, как истый конторщик, берущий пример с хозяина, – в строгую черную тройку. А чтоб ходить расхристанным – в рубашке без пояса или – не дай бог – в посконных помятых штанах – этого и в помине не было.
Долго он присматривался к калязинцам, и, наконец, выбор его пал на двух достойных людей. Главным новым знакомым сделался протопоп Григорий Первухин – дородный и важный. Витю и Пашу он учил в школе закону божьему, правил службу в ближайшей церкви. И когда приметил ревнивого к вере нового прихожанина, стал оказывать ему знаки внимания: заходил иногда вечерком посидеть у самовара. И затевали они с Павлом Васильевичем нравственные беседы или толковали что-то из священного писания. Варвара Ивановна и Паша слушали Протопоповы речи с большим интересом. А Витя скучал. Он старался улизнуть на кухню, где читал книжки про моря и океаны, про северное сияние, про путешествия в Африку, про Суворова.
Другим знакомым Павла Васильевича стал местный телеграфист Шуклин: человек молодой, тщедушный, словно совсем не приспособленный к жизни, весь в мечтах о каком-то новом деле, которое должно принести ему радость.
Протопоп будто делал одолжение Павлу Васильевичу, что пил у него китайский чай с вишневым вареньем. А Шуклин искал в семье Ногиных сердечного тепла, внимания, ласки. Приходил он, и никто не думал о чопорном чаепитии и длинных нравственных беседах. Витя бросался ему навстречу и иногда получал новую книжку. Варвара Ивановна подавала молоко, жареную картошку. Паша читал вслух газету: ее всегда приносил с собою телеграфист. Павел Васильевич стряхивал мещанскую условность и оживленно рассказывал о Москве, о династии фабрикантов Морозовых.
Перед глазами Вити проходила живая история морозовских миллионов, которые были нажиты с натугой, окроплены потом и кровью русских мужиков, по чьей-то воле превратившихся из крестьян в ткачей.
Всему делу головой был Савва Васильевич Морозов– крепостной помещика Рюмина из села Зуево Богородского уезда. Еще во времена. Екатерины Второй рыбачил он с отцом на Клязьме, а потом определился ткачом на шелковую фабрику Кононова за пять рублей в год при хозяйских харчах. А при Павле Первом начал дело при своем капитале в пятьдесят рублей и с небольшим приданым за женой. Был Савва Васильевич превеликий мастер по ажурным тканям. Почти за сто верст он носил их пешком в Москву и продавал в домах именитых господ. Приглянулся он какой-то барыне: то ли был он в особой чести у нее за эти ажуры, то ли в полюбовниках состоял, только нашел он дорогу к барским деньгам и через то откупился от Рюмина за семнадцать тысяч рублей. С этого и пошло: расселись пять сыновей вокруг папеньки Саввы по московским и тверским землям.
– От Елисея пошел Викул, – пересчитывал Павел Васильевич по пальцам. – У него своя мануфактура в Никольском и в Савине. От Захара – Иван и Арсений. Эти сидят в Глухове, под Богородском. От Абрама – еще один Абрам да от Ивана – Сергей. Эти сообща ведут мануфактуру в Твери. От Тимофея – Савва. У этих куда справное дело в Никольской мануфактуре, в Орехово-Зуеве – пятнадцать миллионов с гаком. Богатеи первой статьи, к царю на поклон ездят. И он им за милого дружка. Случилась у них намедни ужасная заваруха: работу кинули восемь тысяч ткачей, потребовали прибавки. Так царь-то, батюшка, войско им выслал. Стреляли солдаты, и людей похватали – сот шесть. Судили многих и, говорят, с тысячу разослали домой, по деревням, под полицейский надзор. Этакая, брат, силища у Морозовых!
Часто рассказывал и Шуклин. Он мечтал стать народным учителем, светочем знаний в мужицкой среде.
– Стыдно им жить, Пал Василич, в такой стране, где девять мужиков из десяти не знают ни одной буквы! И живут хуже церковной крысы. Эх, аттестат бы зрелости мне, развернулся бы я во всю силенку!
Говорил телеграфист складно, и Павел Васильевич шутил, что он заменяет ему газету, еще не выписанную по соображениям бережливости. Правда, Шуклин долго не открывал душу, все приглядывался к новым знакомым и сообщал разные пустяки: светская хроника, визиты коронованных особ, некрологи по усопшим князьям, генералам, архиереям, профессорам, купцам первой гильдии, столичные сплетни. Потом стал рассказывать, чем живут калязинцы и какие телеграммы получают здешние купцы и предводитель дворянства. И о делах за пределами государства российского.
Но самые интересные разговоры начинались ближе к ночи, когда детей укладывали спать. Витя боролся со сном, хоть это не всегда удавалось, и память запечатлела лишь обрывки страшных шуклинских слов. Миротворец Александр Третий зажал Россию в кулак. Воевала против него «Народная воля», он отвечал казнями: так погиб на эшафоте студент Александр Ульянов с товарищами. В сибирской каторге потерял силы «секретный преступник № 5» Николай Чернышевский и закончил свои дни в Саратове. Замелькали в газетной хронике фамилии студентов-самоубийц, которые разуверились в жизни; помутился разумом Глеб Успенский – человек чистой совести и больших душевных страданий; бросился в пролет лестницы Всеволод Гаршин и умер на пятый день в страшных муках. «Ужасом без конца» сделалась жизнь России, но ни на один миг не угасали ее призывные маяки. Михаил Салтыков-Щедрин клеймил крепостников и их сынков в хронике «Пошехонская старина». Тяжкий духовный кризис пережил граф Лев Толстой. Илья Репин всколыхнул просвещенное русское общество новыми полотнами: «Отказ от исповеди» и «Не ждали».
Так и проходили эти вечера в доме у Ногиных. А однажды Шуклин пришел прощаться: вышло ему распоряжение отбыть в еще большую глушь, чем Калязин.
– Полагаю, хотят избавиться от меня, Пал Василич. При моей-то должности, когда все про все знаешь, на одном месте долго не усидишь. Обыватель как дикий зверь – страх как боится человека, да особливо, если тот все его грязные делишки видит. Что ж, поглядим, куда меня гонят.
Шуклин развернул полотнище карты на столе и долго искал село Грузино под Новгородом – бывшую вотчину всесильного временщика графа Аракчеева.
– Надо подумать, возможно, и не так плохо, как мне казалось. Местечко глухое, но под рукой Санкт-Петербург.
Однако на другой день стало ясно, что угоняют Шуклина не в Грузино, а в Грузины – глухоменное сельцо Тверской губернии, между Торжком и Старицей, в верховьях лесистой речки Тверицы.
– Не пойдет, Пал Василии! Уж коли в такую ссылку ехать, то не телеграфистом, а народным учителем, – это была последняя фраза, которую Витя услыхал от Шуклина.
Телеграфист подал в отставку, скинул форму почтового ведомства с блестящими пуговицами, сдал в Твери экзамен и уехал народным учителем на свою родину – в Самару.
Через семь лет мелькнуло перед глазами Виктора его имя в длинном и скорбном синодике каторжан. И – пропал человек!..
Паша пробыл в Калязине пять лет – кончил городское учьлище, приобвык писать красиво и быстро, как положено человеку за конторкой, и Варвара Ивановна отвезла его в Москву. Он теперь жил у Викула Морозова: отрабатывал за пенсион больному папеньке мальчишкой без жалованья, при хозяйских харчах. И исправно писал длинные письма: чисто, без помарок, как на службе. И старался втиснуть в них все, что представляло хоть малейший интерес для родителей и брата.
Первые робкие шаги на жизненном поприще он сделал успешно. Викул Морозов отметил его рвение и скоро положил ему денежное довольствие – харчевое и за переписку бумаг – десять рублей в месяц.
Получались письма в Калязине, и вновь там наплывала тоска по Белокаменной. Читали эти письма днем, перечитывали вечером, возвращались к ним в другие дни, хвалили Пашу, спорили и все толковали о том, как отвезут Витю в Москву, сдадут его на руки Викулу и, наконец, тронутся в путь сами.
А Паша писал, и писал, и бередил душу:
«Христос воскресе! Милые папаша, мамаша и брат Витя, поздравляю вас с праздником, целую вас крепко-крепко; желаю вам в радости и в добром здоровье провести праздник.
Мы кончили торговать в пятницу, в пять часов. Я, как приехал из конторы, сию же минуту пошел в церковь, думал, что священник будет исповедовать после вечерни, а он ушел отдыхать. Я решил встать в субботу пораньше. Так и сделал; поднялся в два часа и отправился в церковь. Заутреня началась через час. Я отстоял ее, перед обедней исповедовался и за обедней причастился. У нас вместе с двоюродной сестрой хозяйки живет ее (т. е. двоюродной сестры хозяйки) мужа брата жена. Она тоже наша, церковная. Она сделала кулич и пасху, а я освятил, и мы вместе с ней разговелись. А то бы мне, пожалуй, не пришлось и разговеться.
Потом я поздравил хозяев, и они велели мне сидеть в прихожей. Никак нельзя было уйти: все конторщики разъехались по домам, а с почты и с посыльными все время приносили визитные карточки, и нужно было сейчас же отсылать ответ. Вот я и писал ответы господам и купцам. Скучно мне не было, я запасся книгами и читал от раннего утра до поздней ночи так, что не ходил обедать (мне вынесли с кухни кусок пирога с чаем), и в один день прочел три книги по четыреста с лишним страниц в каждой.
На второй день карточек не было, я отпросился у Федора Викуловича отдать визит начальнику Александру Ивановичу Сараеву. Но его с семьей не нашел: они переехали на другую квартиру. Говорят, у него теперь шесть комнат, а где – не сказали…
Завтра как раз полгода, как я живу у Морозовых. Вид у меня хороший: мне сшили к пасхе костюм и осеннее пальто. И про деньги не беспокойтесь: неужели же я все свои харчевые буду проедать? Я проедал только по рублю двадцать пять копеек, а когда и меньше, поэтому у меня осталось десять рублей. Я их вышлю, вы положите на мою книжку. Мама пусть знает, что я не испытывал никакого голода, когда проедал пять копеек в день вместо десяти, потому что перед уходом хорошо наедался в хозяйской кухне. Я принял себе за правило: если с этих лет не буду беречь деньги, то в больших годах – и подавно.
Остаюсь любящий и уважающий вас ваш сын и брат П. Ногин. Апрель, 1890 год, Москва.
Р. S. Папаша, вам, наверное, известно, что Бисмарк получил отставку и император сам управляет делами. Вы это знаете, если получаете газету. Вот и все новости. Кончаю письмо, уморился!
Ваш П. Ногин»[1]1
Почти все письма, использованные автором, публикуются впервые. Они хранятся и семейном архиве В. П. Ногина.
[Закрыть].
Павел Васильевич любил старшего сына, и особенно за трезвые суждения в житейских делах, за хорошую хватку, за умение послужить хозяевам. Он думал о своем первенце и видел в нем себя: как он, сын сапожника, кое-как овладел грамотой у дьячка, а Иван Кондратьевич Поляков подал ему руку и привел, перепуганного, немого от робости, мальчиком в богатую фирму.
Теперь в этой фирме Павел. И какой оголец – досконально обо всем пишет, словно сам сидишь в Москве и никакие дела по фирме тебя не минуют.
Главный приказчик Александр Иванович Сараев лютеет с каждым днем, совсем стал как пес цепной: если кто захворает из мальчиков или конторщиков, так он на того сердится и не хочет прибавлять жалованья.
К празднику Паша купил себе евангелие в черном переплете за полтинник, а псалтырь – в голубом, за четвертак. От хозяев получил шубу и ботинки. Все как и раньше заведено!
«А в Москву вам ехать не надо, что тут хорошего? Квартира и провизия дорогие, воздух гнилой. И станут ли в Москве давать пенсию? И на службу вас не примут. Некоторых даже увольняют – так много стало служащих. А хозяева знают, что вы больны. Да и в Москве вам бы каждый день пришлось расстраиваться, сердиться и терпеть всякие неприятности. Это при плохом-то здоровье! И дом не продавайте, его можно во всякое время продать, еще дороже дадут. Ну, продадите, деньги проживете, и ничего не останется, тогда куда деваться? А теперь свой дом, сад, корова, курицы, свои овощи, плоды. А тогда все придется покупать, за все деньги платить. И теперь я думаю, что как у меня будет небольшой капиталец, то я прямо уехал бы из Москвы куда-нибудь в провинцию, где был бы лес, река и большой сад и дом. Зачем мамаше так хочется в Москву? Свой дом – это не московский угол, где придется жить. И воздух у вас чистый, свежий, здоровый. Помните, папаша, вы приезжали ко мне всего на две недели, и вам сделалось сейчас же гораздо хуже. Да ведь тут можно задохнуться от пыли, дыма и всякой дряни».
Так уж устроена была голова у Павла: почти ничего не осталось в ней от долгих бесед с Шуклиным. Все его мысли теперь занимали деньги, карьера, уют и внешний лоск. Он одевался, как приказчик, и умел угодить хозяину. А писал с ошибками и Вите казался не очень грамотным писцом с чудесным, каллиграфическим почерком. Летом он хаживал в сад «Эрмитаж», когда пели там цыгане. А в досужие зимние часы читал, книги без всякого разбора и бренчал на мандолине.
Не оставил Шуклин заметного следа в душе и у Павла Васильевича. Наставником его сделался протопоп Григорий Первухин с унылыми бреднями о загробной жизни.
Стал Павел Васильевич истым рабом церкви – без бога не до порога! Он ходил святить новые иконы, носил хоругви по большим праздникам, помогал выносить мощи преподобного Макария в день этого святого, не пропускал ни одной службы и упросил Пашу купить ему требник, какой имеют священники, и канонник – книгу кормчую, где есть молитвы: очистительная, и покаянная, и на исход души.
Начинал он письма к сыну в Москву в высоком штиле: «Милое и драгоценное дитя мое, Павел Павлович, ангел мой, утеха моя и все, что есть на свете лучшего». И заканчивал так, будто читал молитву: «Да благословит тебя господь всеми благами земными и не лишит тебя царства небесного, буди благословен от господа моим родительским благословлением навсегда. Любящий тебя отец Павел Ногин».
А в этой рамке из ангела, бога и царства небесного велась речь о самых земных делах.
Как-то вышли у Павла неприятности по службе, Павел Васильевич огорчился и написал сыну большое письмо: «Мало ли что придется переносить в жизни, в особенности от сослуживцев! Постоянно у всех зависть, а через это разные интриги и неудовольствия. Это-то вот и есть самое трудное – жить в людях, это я уже все прошел, только вот господь не даровал средств, чтобы вас от этого избавить. Живи, голубчик, и все неприятности переноси с радостью, а не отплачивай грубостью на ихние издевательства. Вот и будешь человеком. Если желаешь быть начальником, то прежде всего нужно быть всем рабом. Так господь сказал, и так, мой ангел, живи, держи себя тише воды, ниже травы и не превозносись ни перед кем. Смиряйся, да превознесется, о высящиеся, да низвергнутся. И еще пишу тебе: будь хозяевам во всем угодителен, главное – исполняй приказания ихние в точности».
Иногда болезнь напоминала о себе. Павел Васильевич становился раздражительным. Но не желал признавать себя виновным – строптивым, мелочным, грубым – и жаловался на домашних, на тоску: «Я ощущаю сильнейшую тоску и не нахожу причины. Только вижу что-то неладное, со мной совершающееся, как и тогда в Москве, перед ударом».
Когда болезнь особенно давила и угнетала, Павел Васильевич хватал лист бумаги и писал, писал Павлу: жаловался, грозился, просил. Не сиделось ему в Калязине: «Похлопочи обо мне перед Викулом, пусть даст дело – хоть на ярмарке в Нижнем следить за приемкой товара или хоть сторожем при кладке нового дома в Москве. Ну, постарайся, голубчик, а то нормальность моих умственных способностей начинает портиться».
Павел не хлопотал: он знал, что отца не примут да еще лишат пенсиона. Варвара Ивановна едва удержала мужа от опасного шага: он насушил тайком сухарей, вырезал в саду посошок и уже тихохонько собрался пешком отмахивать версты до Москвы.
Но ипохондрия отступала на время, Павел Васильевич оживлялся, и в его письмах появлялись лирические картинки: как гремит и грохочет Волга-матушка в ледоход и заливает такую ширь в пойме, что не окинешь и глазом; как бегут по реке и трубят пароходы двух компаний – «Самолета» и «Меркурия» – и почему «самолетские» ему нравятся больше; как зацветают вишни и яблони и как могучая река, все лето жившая в трудах людских, закрывается салом и вдруг затягивается зеленой и голубой гладью ровного льда.
Но даже в таких письмах неизменно приходилось писать о нужде и о пенсионных волнениях: вдруг придет двадцатое число, а Варвару Ивановну не вызовут на почту получать деньги, что тогда делать? И на Викторе все горит: бегает с дырами на локтях, в сапогах без подметок. Надо бы выслать ему подержанные штаны, пиджак, пальто, ботинки: к чему тратиться на новые вещи, коль мальчишке не стыдно погулять и в обносках?..
Варвара Ивановна не меньше Павла Васильевича тосковала в Калязине. Временами, когда мужу делалось хуже, рисовала она себе одну картину мрачней другой и в мокрую от слез подушку шептала, что никогда ей не вырваться из этой дыры.
Но Павел Васильевич поднимался с постели и начинал шутить:
– Не пойму я тебя, Варя! Дом ты хотела – вот твои хоромы; по коровушке грустила – мычит во дворе Милка. И цветочки, тобой любимые, посадили мы по весне. Даже два дубочка я для тебя расстарался. А в Москве – ну что тебе за радость, пока я больной? Цыганка ты, Варя, вот кто! Привыкла всю жизнь по углам да квартирам мызгать!
– Да полно тебе, Павел! – отмахивалась Варвара Ивановна и принималась хлопотать по хозяйству.
Но стоило ей успокоиться, снова начинал хандрить Павел Васильевич. Витя не знал, куда деваться от этих причитаний и слез.
Ладу в семье не было. Родители становились голубками, лишь когда направлялись в церковь. А дома жили, как два ястреба, которые не поделили добычу. И этой «добычей» вдруг стали дети.
Варвара Ивановна не разделяла ребят, пока они жили вместе, хоть и считала, что Витенька ей ближе: он не такой открыто расчетливый и рассудительный, как старший, а просто хороший мальчик – ласковый, послушный, душой очень чистый, без всякого зла. И на еду не жадный, и в одежде совсем невзыскательный, и к деньгам не пристрастный. Да и читает много. И хоть задумчив от книг, но в себя не уходит: про все, что прочтет, рассказывает, тянет мать за собой. Бывает, заслушаешься, когда он раскроет «Очерки бурсы» Помяловского или выборку сделает про Чичикова из «Мертвых душ» Гоголя. А когда взгрустнется, побегает с ребятишками, в лапту сыграет или просто пройдется до голосовской лавчонки на берегу Волги, постоит там, а потом сделает уроки и сядет лопотать про себя по-французскому – страсть как хочется узнать ему чужой язык!