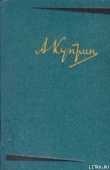Текст книги "Мирное время"
Автор книги: Владимир Хабур
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Больше всего ей нравились книги, в которых описывалась любовь, дворцы, короли и молодые красавицы-герцогини. Она жила в этом мире и даже говорила иногда фразами из романов Дюма или Скотта. Читала она без разбора, все, что попадало в руки. Читала запоем, забывая о сне и пище. Училась она плохо и только по русскому языку и литературе не имела в классе соперников.
В последнюю перед выпуском школьную весну Ходыча часто бродила по Ташкенту, отдаваясь какому-то неясному, волнующему чувству. Хотелось чего-то необычного, захватывающего. Ей все казалось, что вот подойдет к ней большой и сильный человек, возьмет ее за руку и поведет. Куда? Зачем? Этого она и сама не понимала. Но сколько она ни ходила, ничего с ней не случалось. Поздно вечером девушка возвращалась домой усталая и разочарованная.
Школу она окончила с большим трудом. Выпускные экзамены выдержала с помощью шпаргалок, подсказок и снисходительных учителей, которые любили эту задумчивую, грустную девушку.
На выпускной вечер Ходыча не пошла. За ней два раза приходили одноклассницы, но она сказала, что больна. Потом, поздно вечером, когда в школе уже, наверно, начались танцы, ей ужасно захотелось пойти туда. Она даже заплакала, представив как все там веселятся и никто о ней не вспоминает. Зарывшись в мокрую от слез подушку, она уснула.
Зять, теперь ответственный работник, помог ей поступить на службу делопроизводителем. В учреждении все ей казалось очень сложным и непонятным. Ходыча приходила раньше всех, тщательно переписывала бумаги, заносила их в журнал, писала адреса на пакетах и постоянно боялась что-нибудь перепутать.
Отец болел. Мать молча, покорно переносила его брюзжание. Ходыча после обеда сразу же уходила и возвращалась поздно вечером. Раз в две недели она аккуратно отдавала матери получку.
Однажды после работы Ходычу позвали на общее собрание. В зале она увидела юношу, которого раньше не замечала. Он был высок, строен, светловолос, с красивым, слегка женственным лицом. Юноша смело смотрел на собравшихся и говорил наставительным тоном. О чем он говорил – девушка не слышала и не понимала, – она следила за его лицом.
Это был секретарь месткома Боря Власов.
Ходыча влюбилась. Она стала ходить на все собрания, где можно было его увидеть, искала случая заговорить, и случай вскоре представился.
После одного собрания Ходыча подошла к столу, за которым сидел Власов, и, испугавшись собственной смелости, спросила внезапно охрипшим голосом, как можно вступить в профсоюз. Он с любопытством посмотрел на нее. Было что-то неуловимо привлекательное в этой девушке с немного скуластым круглым лицом и большими черными глазами. Он стал подробно расспрашивать о семье, о родителях. Ходыча покраснела и солгала, что ее отец кустарь. Она долго рассказывала о себе, стараясь затянуть беседу.
Все ушли. Молодые люди остались вдвоем. Он по-прежнему сидел за столом и внимательно слушал. Ходыча присела на кончик стула и говорила, говорила... Потом спохватилась: ах, все уже ушли!
Тогда Власов встал. Они вышли на улицу и медленно зашагали по освещенным луной тополевым аллеям. Тени скользили впереди, длинные и смешные. Была теплая азиатская ночь.
Власову девушка понравилась. Молодые люди стали встречаться. Они просиживали половину ночи на узких скамейках, у незнакомых ворот, под высокими тополями. Борис часто звал ее в свою холостяцкую комнату. Но Ходыча предпочитала улицу, где всегда кто-нибудь проходил, мешал, заставлял опомниться. Она любила первой любовью – нежной и робкой, любила и боялась его и себя.
Осенью, в холодный вечер, когда они сидели на узкой и жесткой скамейке, у чьих-то чужих, наглухо закрытых ворот, он впервые крепко поцеловал ее в губы. У девушки закружилась голова, она задохнулась и ей показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Она вырвалась из объятий Бориса и, не простившись, убежала домой.
На следующий день Ходыча не пошла на работу. Девушка гуляла в парке, поехала в старый город и долго бродила по длинным, перепутанным улочкам и переулкам, потом вернулась туда, где вчера поцеловал ее Борис, присела на скамейку, молча, нежно погладила шершавую доску.
Любовь захлестнула Ходычу. Девушка никого и ничего не видела, кроме любимого человека, ловила его улыбку, взгляд, перенимала его вкусы, жесты, слова.
Но Власову все это вскоре надоело.
Он назначал свидания, заставлял Ходычу часами ожидать его на улице и не приходил. Иногда она посылала ему записки, умоляла прийти, снова долго ждала и уходила одна, низко опустив голову. Ходыча похудела, стала рассеянной, раздражительной. Часто ночью девушка вставала с постели, куталась в платок, долгими часами сидела у окна и в слезах встречала рассвет. По вечерам она бродила по тем улицам, где еще недавно бывала с Борисом. Ей казалось, что вот сейчас она снова увидит его и снова все будет, как прежде.
Однажды на тихой вечерней улице она увидела Власова. Он держал за талию девушку. Молодые люди медленно шли впереди Ходычи, по улице рассыпался легкий девичий смех.
Ходыча едва дошла до ближайшей скамейки. Ее душили слезы, но она не могла плакать – от обиды и возмущения.
"За что меня любить? – думала она. – Я маленькая, скуластая. А у той и рост выше и фигура красивей. Ну что же, разве мало хороших ребят"... Ходыча перебрала в памяти всех своих знакомых. Нет, лучше Власова не было. Ах, Боря, Боря! И тогда Ходыча разрыдалась, – она плакала долго, горько, слезы текли горячие, крупные.
После этого вечера Ходыча резко изменилась. Равнодушная, замкнутая, она стала ко всему безразличной. И только, встретив где-нибудь случайно Власова, она приходила в ярость и отчаяние.
Девушка часто бродила теперь по вечерним улицам, всматривалась в молодых людей, забиралась в глухие темные аллеи, спугивая парочки. Ходыча искала Борю. Она хотела застать его со счастливой соперницей и придумывала планы мести, один страшнее другого.
Однажды на улице к ней пристала какая-то веселая компания – подвыпившие шумные парни и девушки.
В тот день Ходычу мучила особенно острая тоска, ей хотелось быть на людях, хотелось поговорить с кем-нибудь, пожаловаться на свою судьбу. Она пошла с ними. В этот вечер Ходыча напилась с новыми друзьями, она била стекла какого-то дома, с кем-то дралась. Потом всех забрали в отделение милиции. Два дня Ходыча просидела в камере, на третий – ее отпустили. Когда она проходила по улице, ей казалось, что все смотрят на нее насмешливо, ехидно. У нее болела голова, все было противно. Девушка пошла в баню и долго мылась, будто старалась смыть с себя невидимую грязь. Усталая и разомлевшая, вышла она на улицу.
"Как это глупо, – думала Ходыча. – Пила, дурила, связалась с какими-то хулиганами. Грязная, распущенная дура. Больше этого не будет".
Девушке захотелось плакать, и она побежала домой. Ходыча сказала на службе, что болела.
Несколько дней девушка ходила тихая и задумчивая. Она уже не искала Бориса и думала лишь о том, как ей забыть о своей любви, что делать дальше. Наконец, Ходыча пошла к зятю и сказала, что хочет уехать куда-нибудь подальше, где нужны работники. Зять переговорил по телефону и предложил ехать в Дюшамбе. Там нужны машинистки, а с этой работой она знакома. Но жить там очень трудно. Людей мало, условия тяжелые.
– Ничего, – сказала Ходыча.
Девушка сидела в вагоне, когда увидела запыхавшегося, раскрасневшегося Бориса. Власов вбежал в купе и схватил ее за руки.
– Ты с ума сошла! – крикнул он. – Куда ты едешь. Останься. Прости меня.
– Зачем? – Ходыча грустно улыбнулась. – Я уже не верю тебе, Боря.
– Ходыча! – крикнул Власов и сел на скамью. На глазах у него появились слезы.
Ходыча положила руки на плечи юноши, притянула его к себе и крепко поцеловала в губы.
– Иди, Боря, – ласково сказала она. – Живи как хочешь. Не мешай мне. Если любовь наша настоящая, мы еще встретимся. Прощай.
Она взяла Бориса за руку и повела по вагону. У двери еще раз поцеловала. Прозвучал третий звонок. Паровоз загудел и шумно выпустил пар. Борис спрыгнул с подножки вагона и, не оборачиваясь, пошел по перрону. Поезд тронулся. Ходыча смотрела вслед уходящему юноше, и слезы застилали ей глаза.
В поезде стояла горячая духота. Пассажиры обвязывали головы мокрыми полотенцами, вывешивали за окна вагонов бутылки с водой – пытались охладить ее на ветру, но это мало помогало. Люди лежали на полках, обессилевшие от жары. Пыль врывалась в окна, их закрывали – становилось душно, тогда пассажиры снова открывали окна – и опять в вагоны врывалась пыль.
В пути Ходыча почти не слезала с полки. Она много думала о своей будущей жизни в неизвестном городе. Ведь она впервые начинала жить самостоятельно. Было немного страшно, хотелось, чтобы рядом был близкий, родной человек, с которым можно поделиться горем и радостью. Но такого человека не было, как не было его и сейчас в Дюшамбе...
Когда небо на востоке порозовело и силуэты гор стали совсем темными, Ходыча вернулась домой. Хозяйка спала на ее кровати, посреди комнаты валялся опрокинутый стул, на столе – неприглядная картина прерванной попойки. Девушка прилегла на хозяйкину кровать, но уснуть так и не смогла.
На следующий вечер все повторилось снова, только мужчины были другие. Оказалось, что хозяйка – тетя Фрося – продавала по повышенным ценам вино и водку "клиентам", которые хотели выпить в "семейной" обстановке и по каким-либо причинам избегали столовых и ресторанчиков. Они приходили каждый вечер, сидели долго, пили много, вели какие-то непонятные разговоры, ругались и даже дрались.
Ходыча тихо, стараясь не привлекать внимания, лежала в своем уголке, защищенном занавеской, и все время боялась, что какой-нибудь пьяный сорвет эту слабую преграду и шагнет к ней... Девушка закрывала глаза, считала до ста, до тысячи, но заснуть не могла.
Несколько раз она пыталась найти другое жилье, но безуспешно. Свободных комнат, даже углов, в городе не было. Строили много, в короткое время возводились целые кварталы, но население города увеличивалось еще быстрее.
Тогда Ходыча решила не сидеть по вечерам дома и возвращаться как можно позже. Она стала уходить в Наркомат. Там половина служащих работала вечерами. В комнатах ярко горели лампы. В вечерней прохладе работалось легко, служащие разговаривали, перебрасывались шутками. Ходыча уходила домой поздно вечером. Ее всегда кто-нибудь провожал.
Дома она заставала одну и ту же картину: уставленный бутылками и заваленный объедками стол, на грязной постели храпит тетя Фрося. Девушка тихо раздевалась и ложилась на свой жесткий и узкий топчан.
Приходили и уходили дни. И чем больше их уходило, тем острее чувствовала Ходыча свое одиночество. Где он друг – настоящий, отзывчивый, понимающий?
Как-то после вечерней работы Ходычу провожал молодой бухгалтер, с которым она познакомилась в Термезе, когда ехала в Дюшамбе. Его звали Николаем. Он опускал глаза, когда девушка смотрела на него, смущался, говорил невпопад.
Николай понравился Ходыче. Она вспоминала путешествие на автомобилях и беззлобно подсмеивалась над ним всю дорогу. Молодой человек еще больше смущался и краснел. Через несколько дней девушка сама подошла к нему и попросила ее проводить. В этот вечер Николай рискнул взять ее под руку. Прощаясь, они договорились каждый вечер уходить с работы вместе.
Однажды, провожая Ходычу, Николай предложил ей пойти к Дюшамбинке. Было уже поздно. Огромная круглая луна ярко освещала улицу, перед ними скользили тени, длинные, как телефонные столбы. Ходыча никогда не ходила к речке так поздно. Все же она согласилась: хотелось попозже вернуться домой.
От лунного света вода казалась серебряной. Река шумела и пенилась. Вдали блестели снежные шапки гор. Дул прохладный ветерок – развевал волосы, освежал разгоряченные щеки.
Ходыча села на большой камень у самой воды. Холодные брызги летели к ее ногам. Николай уселся позади девушки. Шум реки заглушал голоса. Чтобы услышать друг друга, им приходилось почти кричать. Поэтому они вскоре замолчали.
Приближался рассвет. Ярко-оранжевая луна скатывалась за горные хребты. Становилось холодно. Поеживаясь от предутренней прохлады, Ходыча поднялась.
– Пойдем, – сказала она и взяла Николая за руку.
Когда шли обратно, Николай обнял ее. Девушка не сняла его руки – так было легче подниматься вверх. На улице Ходыча освободилась из объятий Николая.
– Позвала б к себе когда-нибудь, – тихо сказал он.
– А разве здесь плохо? – Ходыча обвела рукой вокруг.
Николай шутливо вздохнул, попрощался и ушел домой.
Он шагал по пустой улице и негромко напевал какую-то песенку. Увидев собачонку, он страшным голосом закричал на нее. Собачонка испуганно взвизгнула и бросилась прочь. Дома Николай лег на топчан и мгновенно уснул.
Ему приснился чудесный сон.
Длинная, длинная дорога. По бокам растут высокие, стройные пальмы. Какие-то огромные плоды – не то огурцы, не то бананы – свешиваются с верхушек почти до земли. По дороге мчится длинный красивый автомобиль. За рулем – мужчина в белом пробковом шлеме, рядом дама – тоже в пробковом шлеме с кисеей. Автомобиль проносится по дороге, и вот он уже у колоннады какого-то дома. Из дверей выбегают черные люди в белых ливреях. Один открывает дверцу автомобиля и склоняется в низком поклоне. Мужчина в пробковом шлеме выходит из машины и подает руку даме. Они поднимаются по ступенькам. Он улыбается. Это – Николай. Он держит за руку смущенную Ходычу.
– Угодно сагибу принять ванну? – спрашивает человек в ливрее.
Николай утвердительно кивает. Вместе с Ходычой он входит в большую комнату. Два кресла стоят рядом. Они садятся. Четыре полуобнаженные девушки становятся сзади и обмахивают их радужными опахалами из перьев.
В комнату входит человек. Усы у него закручены кверху, он одновременно похож на кайзера Вильгельма и на главного бухгалтера Наркомзема. Человек подходит к Ходыче, снимает с нее шлем, долго разглядывает ее в упор, спрашивает у Николая:
– Сколько вы хотите за эту девушку?
Тогда Николай вскакивает с кресла и бьет кулаком кайзера-бухгалтера в то место, где у него растут усы. Человек падает...
Николай рассказал свой сон Ходыче. Они весело смеялись. Однако на главного бухгалтера Николай стал посматривать с неприязнью.
Теперь молодые люди старались пораньше уходить из Наркомата. В вечерней прохладе, взявшись за руки, они направлялись к реке. Прыгая с камня на камень, по узеньким тропинкам, перебираясь вброд через многочисленные ручейки, они забирались в заросли ивняка и усаживались на влажной, холодной траве.
Большая, веселая луна, казалось, светила только им.
Ходыча никогда еще так много не гуляла. Ей нравились прогулки с Николаем. Когда луна скрывалась за облаками и долина темнела, Ходыче становилось страшно и она брала юношу за руку. С ним ей было хорошо. Нравилось и то, что он, такой ловкий и сильный, краснел под ее взглядом, терялся, когда она клала руку ему на плечо.
Теперь уже и во время работы Ходыча ловила себя на мыслях о нем. Днем они почти не виделись. А вечером она с нетерпением ждала, когда откроется дверь и Николай, смущенно поглядывая на окружающих, негромко скажет:
– Ну, пойдем, что ли...
Ходыча не любила молчаливых людей, но когда молчал Николай, ей нравилось. Она считала это признаком вдумчивости, серьезного характера.
Обычно разговор поддерживала Ходыча. Она много рассказывала о себе, и постепенно Николай узнал о ней все. Девушка не лгала ему, как когда-то Боре Власову. Она чувствовала, что Николаю можно говорить правду. Юноша молча слушал ее.
С каждым днем Ходыча любила его все больше. Ее чувство было не похоже на то, какое она испытывала к Власову. Николая она любила и жалела. Жалела его за мрачное детство, за одиночество. Он никогда не говорил ей о своих планах на будущее, о своих желаниях. Это угнетало девушку. Ей хотелось узнать его самые сокровенные мечты. Не найдется ли там уголка и для нее?
Но Николай не должен был догадываться о ее чувствах. Для него она желала остаться такой же, как в первые дни их знакомства, – равнодушной, насмешливой и веселой.
Сидя на топчане за ситцевой занавеской, девушка часто брала в руки маленькое зеркальце и с любопытством и тревогой всматривалась в свое отражение. Она видела большие черные глаза, длинные, чуть загнутые кверху ресницы, прямой нос, пухлые губы. Ходыча улыбалась, успокоенная и довольная. Да, такую можно полюбить, и он должен полюбить!
Каждый вечер, провожая Ходычу, Николай просил разрешения зайти к ней. Девушка хмурилась, настроение у нее сразу портилось, сердито глядя на Николая, она говорила:
– В другой раз как-нибудь. Уже поздно... – быстро прощалась и уходила. Юноша оставался один, удивленный ее внезапной холодностью.
Дома Ходыча тихо плакала от жалости к себе и давала слово завтра же найти другую квартиру, где не стыдно будет принять Николая. Но комнат и углов в городе по-прежнему не было.
Когда начались дожди, прогулки молодых людей прекратились. Ходыча просила Николая не провожать ее в дождливые вечера: он был слегка простужен. Николай шел с ней до угла и, расставаясь, сердито пожимал девушке мокрую руку. Дальше она бежала одна, шлепая промокшими туфлями по лужам.
В выходные дни, если стояла плохая погода, они совсем не встречались.
В такое время Ходыча укладывалась на кровать, жевала сморщенный виноград и читала затрепанную книжку – какой-то старый роман. Изящные кавалеры дрались там на дуэли, высокопарным языком объяснялись в любви своим прекрасным дамам и с вожделением созерцали маленькие туфельки, выглядывающие из-под кринолинов. Сейчас все эти выдуманные герои были чужды и непонятны Ходыче. Сквозь пышные стены будуаров виднелись зеленые берега Дюшамбинки, и девушке казалось, что она еще ощущает прикосновение крепких рук Николая, помогающего ей перепрыгнуть через канаву. Ходыча закрывала глаза и убирала роман под подушку.
За эти дни Николай сильно изменился. Он начал следить за своей внешностью, чаще брился и чистил ботинки. На работе он был рассеян. Думать о Ходыче вошло у него в привычку. После обеда он любил лежать с закрытыми глазами, мечтать о себе, о девушке, рисовать заманчивые и волнующие картины. Перед ним проносились экзотические страны, путешествия по океанам, охота в тропиках, дворцы, войны. И во всех случаях он, Николай, был самым сильным, самым богатым, самым красивым... И всегда он спасал Ходычу от опасности вырывал ее из когтей тигра, освобождал из плена у людоедов, ради нее он убивал, разрушал, уничтожал.
Собираясь на вечернюю работу, он чувствовал себя смелым и отважным. И только прозаические цифры авансовых отчетов, которые надо было проверять, возвращали его к действительности.
Его все больше тянуло к Ходыче. Но девушка упорно сопротивлялась всем его попыткам сблизиться. Николая это раздражало, злило, но в то же время повышало его уважение к ней.
Ему хотелось поскорее осуществить свои давнишние мечты о карьере, занять высокий пост, чтобы завоевать эту непокорную черноглазую девушку. Конечно, она недоступна только потому, что он – всего-навсего обыкновенный бухгалтер. Занимай он крупный пост – она бы не устояла!
И тогда все свои усилия Николай направил на получение должности главного бухгалтера – усач переходил в другое учреждение. Поначалу дело шло хорошо, но в последнюю минуту все рухнуло. Из Москвы приехал молодой длинноносый человек, только что окончивший высшее учебное заведение. Его и назначили главным бухгалтером Наркомата.
Николай чуть не заплакал от обиды и огорчения. Потрясенный неудачей, он сослался на малярию и ушел домой, не дожидаясь конца занятий. По дороге он выпил в столовой несколько рюмок водки и дома завалился спать.
Проснулся он поздно утром. Был выходной день. Горькие мысли бродили в голове, мучило одиночество. Послышались голоса у дверей. Спрашивали Николая. Пришли рыжий счетовод Рожкин, экспедитор, он же завхоз, – Канюхин. Они узнали о болезни Николая и решили его проведать. На всякий случай "для лечения" захватили с собой водку и закуску...
Николай снова выпил и быстро захмелел.
Незаметно наступил вечер.
Экспедитор и завхоз тоже опьянели. Они рассказывали анекдоты, вспоминали о своих любовных похождениях, потом начали подтрунивать над Николаем – его отношением к Ходыче. Удивлялись, что он – такая умницa, красавец, почти главный бухгалтер, – не может справиться с какой-то девчонкой.
– Плюнь ты на нее, – изрек Рожкин, – мало тебе девок, что ли. Пойдем-ка выпьем. Тут у нас есть одно чудное местечко... – И Рожкин облизал свой измазанный сардинами жирный палец.
Николай хмуро молчал.
– Пойдем, пойдем, – пристал Канюхин. – Там и выпьем и закусим.
Николай встал.
– Пойдем, – мрачно сказал он.
Все оделись и вышли.
На улице было темно. Моросил мелкий осенний дождь. Собутыльники осторожно обходили лужи, поминутно хватались за мокрые глиняные заборы. Они прошли несколько кривых переулков и остановились у маленькой хибарки с крохотным окошком, едва освещенным керосиновой лампой.
– Здесь, кажется, – сказал Рожкин и постучал.
Дверь открыла толстая женщина с рыхлым оплывшим лицом. Собутыльники вошли в маленькую комнату, перегороженную ситцевой занавеской.
– Садись, друзья! – скомандовал Рожкин и вышел с хозяйкой в сени. Вскоре на столе появились бутылки и закуска. Продрогший на улице Николай залпом выпил стакан водки. Горячая жидкость разлилась по телу, в голове зашумело. Рожкин пил, рассказывал анекдоты и сам громко смеялся. Потом они с Канюхиным перемигнулись и снова заговорили о Николае и Ходыче. Рожкин рассказывал о девушке всевозможные, тут же придуманные грязные истории. Канюхин хохотал и ехидно поглядывал на Николая.
Ходыча проснулась от стука в окно. Все это стало для нее настолько привычным, что она не обратила внимания на шум у двери, а потом – за столом, и только странно знакомый голос заставил ее прислушаться к тому, что творилось за занавеской. Внезапно у нее сжалось сердце. Кровь прилила к голове, ноги стали будто чужие. Ходыча села на кровати. Ошибиться она не могла. Это Николай. Ее Николай. В этот момент девушка услышала свое имя, его произнес пьяный, неизвестный ей человек. А потом он начал говорить о ней такое, что Ходыча окаменела от стыда и изумления.
А Николай? Девушка ждала, что вот сейчас он встанет, отшвырнет стол, зазвенит падающая на пол посуда, и он одним ударом убьет оскорбителя. Но Николай молчал, видимо, слушал. А потом он заговорил – также грязно и оскорбительно, как и его собеседник. Но тот был чужим человеком, а Николай... ведь этого человека она любила...
Ходыча больше не могла терпеть. Она вскочила с кровати и, отдернув занавеску, вышла на середину комнаты. Ее появление было так неожиданно, что у Канюхина выпал из рук стакан, а Рожкин умолк на полуслове. Николай увидел ее и побледнел.
– Подлец! – закричала Ходыча. – Так вот ты какой!
Девушка бросилась к нему и яростно ударила по щеке. Николай пошатнулся и, схватившись за скатерть, потянул ее вниз.
Ходыча выбежала из комнаты. Гнев и рыдания душили ее, никогда она еще так не чувствовала своего одиночества. На улице моросил мелкий осенний дождь.
Ходыча перестала замечать Николая. Он с виноватым видом вертелся около девушки, здоровался по пять раз в день, заискивающе улыбался. Она сухо отвечала на приветствия, смотрела куда-то мимо Николая и молчала. Из Наркомата она уходила, когда Николая не было поблизости. Сослуживцы удивлялись, подсмеивались над ней, над Николаем, потом замолчали.
Как-то вечером, когда Ходыча шла домой, ее догнал Николай. Он давно не брился, похудел, осунулся.
– Ходыча, – сказал он тихо, – каждому подсудимому дают последнее слово. Ты должна меня выслушать.
Ходыча остановилась, резко повернулась и посмотрела Николаю в глаза.
– Хорошо, – сказала она. – Говори.
– Пойдем. – Он осторожно взял девушку за локоть и повел вдоль по улице. Молча подошли они к обрыву. Внизу шумела река Николай быстро заговорил:
– Я приехал сюда не затем, чтобы быть счетоводом. Для этого не стоило тащиться за тысячи километров – такое место и дома есть... Я приехал сюда, чтобы стать большим человеком. Но для этого нужно обогнать других, нужен случай. Я решил стать главным бухгалтером у нас в Наркомате. Это дало бы мне положение, власть. От меня бы зависели десятки людей. Одним росчерком пера я решал бы их судьбу, потому что финансы руководят жизнью, а бухгалтерия – это финансы.
И вдруг, когда наш главный бухгалтер перешел в Наркомфин, к нам назначили какого-то мальчишку из Москвы. Почему? Почему не меня?
Николай помолчал, глядя на бурлящую внизу реку. Потом снова заговорил:
– Я не мог успокоиться. Я плакал от злобы. Потом пришли друзья. Мы выпили. Я пил от горя, от обиды на свою жизнь. Будущность... Где она? Разрушились мои планы, надежды. Снова я был обречен просиживать дни за скучной, неблагодарной работой, оставаться сереньким, незаметным счетоводом... Мы пили дотемна, а вечером... Я не знал, что ты живешь в этой комнате... Эх, Ходыча, разве я такой был там...
Молодые люди шли по тропинке над обрывом. Большие обломки гранита поблескивали под луной. Внизу бежала шумная, вспененная река. Николай обнял Ходычу и, прижав ее к себе, задыхаясь, сказал:
– Ходыча, помиримся. Я люблю тебя. Одну тебя.
Ходыча усмехнулась.
– Разве ты умеешь любить? Чем ты докажешь мне это?
– Чем? – Николай остановился. – Хочешь, я прыгну туда. – Он указал вниз, на реку. Она вздрогнула и отрицательно покачала головой. Потом быстро сказала:
– Хочу.
Николай взглянул в глаза девушки и прыгнул. Ходыча вскрикнула, упала на колени. Внизу, на камнях лежал Николай. С криком, не разбирая дороги, Ходыча сбежала к реке и наклонилась над упавшим. Она схватила его за руки и стала поднимать. Николай с трудом встал и, хромая, сделал шаг вперед. Ходыча обняла его и начала целовать глаза, щеки, лоб.
– Любимый... глупый... милый... – шептала она. Потом громко засмеялась, села на камень, уронила голову на колени и расплакалась. Николай гладил ее по голове и тихо говорил что-то ласковое, нежное.
В город шли, тесно прижавшись друг к другу. Николай слегка хромал болело ушибленное колено. Ходыча поддерживала его. У своего дома Николай предложил девушке зайти к нему. Смущенная и немножко испуганная, она вошла в комнату. Здесь Ходыча увидела две кровати, и нехорошее чувство на миг поднялось в ней.
– А это чья кровать? – спросила она.
– Товарища моего. В командировке сейчас. Скоро вернется, – безразлично ответил Николай.
Ходыча села рядом. Круглая лампа освещала стол. Маленькое окошко было закрыто каким-то старым платком. Николай молчал. Ходыча откинулась к стене и закрыла глаза. Как хорошо. Вечно бы сидеть вот так, чтоб рядом был любимый...
Николай обнял девушку, привлек к себе.
Утром Ходыча пришла в Наркомат вместе с Николаем. А через несколько дней он уехал в командировку. Девушка провожала его до последнего дома на окраине города. Она шла у стремени, он наклонялся и целовал ее волосы, лоб. За чертой, где кончался город, она долго стояла и смотрела ему вслед.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
РОЖДЕНИЕ СТОЛИЦЫ
Второй день шли интернатские ребята в Дюшамбе. Слабый и боязливый Алим поранил босую ногу о камень, начал хныкать и заявил, что хочет вернуться домой.
– Иди! – сердито сказал Гулям. – Ученого из тебя и правда не выйдет. Будешь пасти коров.
Алим перевязал рану и потащился домой. Остальные шли бодро, а по мосту через Дюшамбе-Дарью даже пробежали вприпрыжку.
Наркомпрос направил Гуляма в педагогический техникум. Там студентам выдали широкие темные пиджаки, черные ботинки и узкие брюки из материи, которую завхоз называл "чертовой кожей".
Впервые в жизни надев пиджак, Гулям долго стоял перед зеркалом в коридоре техникума, поворачивался, осматривал свою вытянувшуюся за последние годы худощавую фигуру, застегивал и расстегивал пуговицы и с гордостью проводил пальцами по едва заметному темному пуху на верхней губе. Да, можно сказать, что он уже стал мужчиной. В этом костюме Гулям выглядел старше своих семнадцати лет.
До начала занятий оставалось несколько дней и Гулям провел их интересно – бродил по улицам, осматривал Дюшамбе.
Столица поразила Гуляма большими домами, у которых окна были шире, чем двери в Каратаге. Все казалось ему необыкновенно красивым. И мощеная булыжником главная улица, и то, что дома не спрятаны за заборами, а улицы опутаны проводами, привязанными к столбам, и еще многое другое, чего он раньше не видел. Он с наслаждением читал вслух вывески учреждений и магазинов, долго толкался на базаре, посидел в чайхане, где выпил чайник горького зеленого чая. Первое время его пугали гудки автомобилей, потом он привык к ним, но все-таки смотрел вслед каждой машине. А сколько людей он встречал на улицах! И главное – незнакомых, – не то что в Каратаге, где знаешь всех и все знают тебя Гуляму хотелось поздороваться с каждым встречным, улыбнуться ему, остановиться, поговорить. Но озабоченные люди не замечали юношу, они торопились куда-то, прижимая портфели, сумки, свертки.
На каждом шагу встречались чудеса, которые еще несколько дней назад нельзя было увидеть даже во сне. Больше всего удивил Гуляма велосипед. Он тоже имел два колеса, но не как у арбы, а – одно за другим. Гулям-Али долго смотрел вслед велосипедисту и не мог понять, почему он не падает.
В педтехникуме учились молодые ребята из всех районов Таджикистана. Каждый район имел свой угол в общежитии. Половину второй комнаты занимали памирцы. Гулям не понимал их языка, да и сами они говорили на разных наречиях. Язгулемцев не понимали даже соседи из Рушана, а языка рушанцев не знали ребята из Шугнана.
Гулям быстро сдружился с памирцами, особенно близко – с шугнанцем Шамбе Шомансуровым, широконосым, веселым парнем.
Камиль Салимов поселился отдельно от Гуляма, в комнате, которую занимали бухарцы. Они приехали с родителями в Дюшамбе после ликвидации Бухарской Народной Республики. В большинстве это были сыновья видных работников. Они носили европейскую одежду и свысока смотрели на студентов-дехкан.
В педтехникуме изучали историю революции, арифметику, физику, экономическую географию, русский язык и многое другое. Гулям начал усваивать русские слова. Он иногда даже разговаривал на улице с русскими, коверкая язык и делая неправильные ударения. Его собеседники также искажали слова считали, что таджик скорее поймет исковерканную речь.
В техникуме была большая комсомольская ячейка, в которую входили почти все студенты. Гулям получил нагрузку – стал техническим секретарем. Он учился писать протоколы, принимал членские взносы. Однажды комсомольцы выпустили стенную газету. Она была написана от руки, в тексте – фотографии, вырезанные из газет, называлась она "Путь Ленина". Газету вывесили у самого входа, и три дня возле нее толпились студенты.