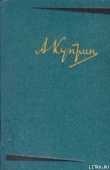Текст книги "Мирное время"
Автор книги: Владимир Хабур
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
– Да вот жду Васю. Куда пошлет.
– А в Гарме что?
– Ты ведь знаешь, какой там народ сидит. Разве с ними сработаешься. Сволочь.
– Они на тебя материал прислали, – сообщил Шамбе.
– Знаю. Они на всех пишут. Склочники. Один Камиль Салимов чего стоит.
– Да, это – пройдоха.
К столику подошел рябой, худощавый парень.
– Эй, вы! Чего сидите? – сказал он. – Товарищ Корниенко уже давно пришел.
– Как? Когда? – всполошились все.
В коридоре слышались голоса, хлопали двери. Возле комнаты секретаря обкома комсомола стояло несколько человек. Среди них был и Ленька. Виктор познакомил его с Шовкоплясом и Шамбе. В кабинет он зашел вместе с Ленькой.
Здесь, как и в других комнатах, у стены лежали перевязанные бечевкой папки, посредине на некрашенном деревянном полу стоял облезлый письменный стол. На единственном стуле сидел сам Корниенко, или Вася, как называли его друзья, – высокий, худой человек лет двадцати пяти. Маленькая голова его была подстрижена ежиком, лицо невыразительное, но небольшие голубые глаза смотрели остро. Вася всегда улыбался немного насмешливо, немного снисходительно. Кубанец родом, он имел пристрастие к кавказским рубашкам, мягким сапогам без каблуков и поясам с серебряным набором. Он прочел переданное Ленькой письмо из ЦК, хотел было предложить сесть, но вспомнил, что стульев больше нет, и улыбнулся.
– Это хорошо, что к нам ребята из Ленинграда едут, – сказал он. Только вы не думайте, что к теще на блины приехали. Трудновато здесь у нас. Поработать придется, как следует. Вы хоть знаете, куда попали?
– Да так, приблизительно, – сказал Виктор.
– Ничего вы, друзья, не знаете, – перебил его Корниенко. – Даже представления не имеете. Это вам совсем не Ленинград. Советская власть здесь еще только-только стала укрепляться. Вы про гражданскую войну в книжках читали, да, может, еще кое-что помните, хотя и малы были. А здесь эта война, можно сказать, только на-днях кончилась, да и то не везде. Людей мало. Местные кадры по пальцам пересчитать можно.
В кабинет вошел Шамбе и уселся на корточки под окном.
– Знакомы? – спросил Корниенко – Шамбе – секретарь горкома. Вот он вам при случае расскажет, как тяжело приходится иногда. Но, в общем, не робейте. Работать пошлем на такие участки, где, может, сначала и трудновато будет, да ничего – привыкнете. Все мы здесь так начинали. К народу присмотритесь. Язык изучайте. А главное, горячку не порите. А то можно такое наделать, что потом не расхлебаешь. Вот как Шовкопляс. Знаете такого?
– А что с ним случилось? – поинтересовался Виктор.
– Да вот будет бюро, узнаете.
– А нам можно на бюро присутствовать? – быстро спросил Ленька.
– Не только можно, а даже обязательно, – отозвался Корниенко и встал. Ну, благословляю вас, – он шутливо простер руки над столом, будто и в самом деле благословлял.
Заседание бюро обкома происходило в просторном кабинете председателя ЦИКа, уехавшего в командировку по районам. В большой светлой комнате посредине стоял длинный, покрытый зеленой суконной скатертью стол. Вася Корниенко сидел на председательском месте, остальные – за столом и на диванах.
Здесь Вася уже не был похож на человека, которого Виктор видел при первой встрече. Тогда за простой сердечной беседой он показался ему добродушным парнишкой, дружески настроенным, веселым, улыбающимся. А сейчас Вася хмурил брови, говорил негромко, строго постукивал карандашом по столу. Справа от него сидел красный и злой Игнат Шовкопляс. Разбирался его вопрос.
– Ну вот, достукался, – сердито сказал Вася. – Значит, послали мы товарища Шовкопляса на укрепление в Гарм, большую работу доверили. А он что? – Вася бросил на Шовкопляса быстрый и не суливший ничего хорошего взгляд и обернулся. – Я спрашиваю: а он что? Поначалу явился в один кишлак. Собрал людей и говорит: я к вам приехал коммуну создавать. Какую коммуну? Где? А ты с секретарем окружкома партии посоветовался?
– Так он же здесь в больнице лежит. Малярия затрепала, – мрачно пробурчал Шовкопляс.
– Вот ты и воспользовался тем, что тебя никто не одернул! А какая может быть там коммуна? Ты, товарищ Шовкопляс, слыхал звон, да не знаешь где он. Это в России, верно, начали колхозы создавать. Так там же совсем другое дело. Там государство крестьянам машины дает. Там партийные организации этим занимаются. Там люди подготовлены. А здесь что? Не то, что машину – колеса еще не видали. Летом на санях с гор ездят. Коммуна, чтоб вместе обедать садиться? А что в котел будут класть – ты об этом подумал? Не все сразу делается. Придет время, и партия нам скажет: помогите дехканам в колхозы объединиться. Выполним. Только всё это надо подготовить как следует. И не одному браться за такое дело. Горяч ты больно, Игнат. Взял и объявил, что все общее будет. А что там есть? Голые камни, землю тюбетейками меряют, полгода сушеный тутовник едят, зерна не хватает. Товарищи члены бюро, это первое дело. Есть и второе.
Игнат тяжело вздохнул и принялся сворачивать листок бумаги пополам, потом еще и еще пополам. Он начинал нервничать. Корниенко налил себе из чайника в пиалу холодный чай, выпил и продолжал.
– Кишлак Ясман-Дара известен как старое логовище бежавшего в свое время бандита Фузайля Максума. Там жили два его старых дружка – баи Рахим Понсад и Гадо, или как его там?
– Так, – снова пробурчал Шовкопляс.
– Словом, это были вполне нормальные баи. Своих дехкан грабили, басмаческие шайки собирали, с нами воевали. И когда их прижали – пришли сдаваться и бандитов своих привели. Расстрелять бы тогда этих кровососов и делу конец, но положение в то время было сложное, и Советская власть в 28 году их амнистировала. С тех пор они, как змеи в норе, затаились. Может быть, они даже какие козни против нас и готовили, но об этом никто не знал. Так вот, прибывает в Ясмаи-Дару товарищ Шовкопляс. Порядок, значит, наводить. И первым делом приказывает: посадить баев в кутузку. Ну, конечно, председатель джамсовета перед таким высоким начальником на цыпочках ходит. Взял и посадил баев. День сидят, другой сидят. Муллы во всех мечетях крик подняли. Байские прихвостни вооружаться стали. А ночью председателя джамсовета зарезали, кутузку разнесли и баев освободили. Они на коней и в Гарм – жаловаться. Говорят: Советская власть нам прощение объявила, а нас снова притесняют. Кое-как успокоили их и домой отослали.
Вася снова выпил чаю и встал.
– Вот что ты наделал, товарищ Шовкопляс. Кто тебе позволил самовольничать! Ты что думаешь, партия не учитывает сложности обстановки в Гарме. Разве легко было ей разгромить басмачей и дать людям спокойно пахать и сеять. Надо помнить, что за каждым нашим шагом следят враги, каждую нашу ошибку используют. А ты решил быть умнее всей Советской власти. Левацкие штучки выкидываешь. Смотри шею не сверни. Мы тоже тебя за это по головке не погладим. Больше в Гарм не поедешь. Хватит. Тут на тебя писем да заявлений столько – читать некогда.
Вася сел, вытер платком лицо и шею и постучал карандашом по столу, чтобы прекратить шум.
– Поговорю в обкоме партии, что с тобой делать. А пока в Дюшамбе останешься. Может быть, пойдешь в ЦИК работать. Инструктором. Мы туда уже одного послали – Гулям-Али из типографии. Молодец парень. Учись у него. И читай побольше. Основоположников читай – грамотнее будешь.
Сразу же было решено вместо Шовкопляса послать в Гарм Леньку.
– Он человек новый, – сказал Вася Корниенко. – Надо там порядок навести. Ну, да об этом мы еще с ним поговорим.
– А этого дядю, – сказал Корниенко, указывая на Виктора, – раз он заводской парень, мы в профсоюзы пошлем. Представителем от обкома. Будет интересы молодежи защищать.
Пока разбирались остальные вопросы, Виктор разговорился с секретарем горкома Шамбе. Это был крепкий, невысокий юноша, с широким лбом, слегка приплюснутым носом и черными, вздыбленными волосами. Шамбе родился и вырос на Памире, окутанном в глазах Виктора дымкой романтического тумана.
Заседание кончилось. Корниенко попросил Леньку остаться: он хотел сегодня же вручить ему письма, дать кое-какие советы, указания.
– Выезжать завтра утром, – сказал он.
Виктор хотел было дождаться Леньку, но тот сказал, что у него есть дело в Наркомземе и попрощался.
Виктор пошел один бродить по городу, где предстояло жить и работать.
Город строился.
По разъезженным, пропыленным дорогам от Термеза, мимо зеленых кишлаков, урюковых рощ и хлопковых полей ползли тяжело нагруженные длинные обозы с железом, бревнами, досками. С обозами шли строители – самарские, ярославские, костромские, вологодские. Шли с семьями, с инструментами, с изнывающими от жары детьми и надеждами на теплую зиму и приветливую солнечную страну.
По дороге половина пришельцев сваливалась от непобедимой малярии. Укрывшись дырявыми ватными тужурками, строители неделями отлеживались в придорожных чайханах, а как только им становилось лучше, – снова упорно шли дальше.
В городе стучали топоры, визжали пилы, и бородатые высокие ярославские плотники обучали жителей Гарма и Матчи своему мастерству. Не хватало леса, не хватало стекла, железа. Но город рос, день рождал дом, а месяцы – улицы и кварталы.
Везде копошились полуголые люди, тщательно размешивая жидкую глину. А потом они набивали глиной деревянные формочки и вытряхивали из них на землю аккуратные, четырехугольные, похожие на коричневые хлебцы, кирпичи. Город нуждался в кирпичах, как голодный в хлебе. Город строился. Город рос на глазах. Вперед, в степной простор он бросил одинокий пока дом, как веху, к которой должно было тянуться строительство. Это был дом ЦИК'а и Совнаркома. С его крыши виднелся кишлак Кокташ, центр соседнего района. Далеко внизу, под обрывом катила свои воды холодная и мутная река Кафирниган.
Отсутствовали еще стекла в домах мужского и женского педтехникумов, расположенных один против другого позади здания ЦИК'а, но занятия уже шли во всех классах. Рядом с женским педтехникумом, возле арыка завтракали рабочие типографии. У них еще не было своей столовой. Дальше строились два больших дома, а кирпичи для них делали на противоположной стороне улицы в глубокой яме, которая будет котлованом для фундамента еще не спроектированного здания.
Позади строющегося города лежал старый большой кишлак с густыми садами и тенистыми улочками. Кишлак носил странное название – Дюшамбе, что значит понедельник. Убегая от узких, извилистых глиняных улиц кишлака, город вырвался далеко в желтую степь: он постепенно обрастал глиняными мазанками, беленькими домиками под железными крышами, прямыми улицами, полосами будущих тротуаров, столовками и тумбами для афиш.
Предприимчивые люди захватывали пустые площадки, быстро застраивали их низенькими подслеповатыми мазанками. Еще глина на стенах не успевала высохнуть, как мазанки уже сдавались приезжающим работникам за большие деньги.
Кишлак Дюшамбе потерял свой восточный облик. Во дворах, где жили патриархальные таджикские семьи, шумели примусы, покрикивали на светловолосых загорелых детишек русские женщины. Во всех дворах жили постояльцы. Они наскоро сколачивали из досок топчаны, покупали ситцевые ватные одеяла и ярко размалеванные чайники. Коверкая русские и таджикские слова, они кое-как договаривались с хозяевами и налаживали семейный уют.
Хозяин уродил жен и детей во внутренний двор, ставил в калитке мальчишку следить, чтобы новые жильцы не лезли на женскую половину, а сам уходил на весь день. Жены и дочери ощупывали одежды русских женщин, когда те приходили к ним за молоком, удивлялись, что ноги у них открыты, а штаны такие короткие, что даже не доходят до колен.
Город становился музеем невиданных вещей. Приезжая на базар из далеких горных кишлаков, люди впервые в жизни видели автобус и граммофон, примус и велосипед, электрическую лампочку и многое другое. О чудесах нового города в горах ходили легенды, путники пели о них песни, слепые нищие сочиняли стихи.
Люди нового города жили в тесных глиняных мазанках, под навесами, а то и в палатках, но работать ходили в светлые каменные дома с блестящими полами и большими окнами. Быстро покрывалась булыжником первая в городе, главная Ленинская улица.
Там, где кончался старый базар – пыльный, грязный, с глухими закоулками, с тесными лавчонками и кустарными мастерскими, – там, посредине небольшой площадки на сером граните пьедестала высился памятник: бронзовый Ленин протягивал руку вперед – в будущее.
Позади памятника доживал свой век старый, нищий и невежественный кишлак – последнее пристанище "его высочества" Саид-Алим-хана, эмира бухарского.
Впереди – куда указывала бронзовая рука вождя – разбегались прямые и широкие улицы только что по строенного города. С утра они пестрели халатами, тюбетейками, белыми рубахами. Прижимаясь к заборам, проходили закутанные в серые паранджи женские фигуры. Пылили редкие автомобили, ехали всадники. Затем наступало затишье. После полудня, когда становилось нестерпимо жарко и закрывались на перерыв все учреждения, улицы снова наполнялись людьми, они растекались по дворам, столовым и чайханам, и город замирал, наблюдая за медленно уходящим солнцем. А когда оно прикасалось к зубцам Гиссарского хребта, из дворов снова выходили бронзовые люди и заливали уличную пыль теплой арычной водой.
Солнце закатывалось. От политых улиц поднималась влажная духота. Пахло мокрой пылью. Быстро густели короткие субтропические сумерки, всходила желтая луна. Во дворах звенела посуда – собирались ужинать. Пел под звуки дутара высокий мужской голос. Долго звучала в вечерней тишине нежная, тоскующая мелодия песни.
Возвратившись домой, Виктор до позднего вечера рассказывал Леньке о городе, который, как ему казалось, он весь обошел и осмотрел. На следующее утро Виктор провожал уезжающего в Гарм Леньку. Они долго, с видом знатоков, выбирали в караван-сарае коня, приценивались, ощупывали расписное деревянное седло. Все Лепькино имущество было уложено в хурджум. Виктор пожал руку человеку, с которым проделал огромный путь от далекой Москвы. Неуклюже подпрыгивая на неудобном седле, Ленька рысцой поехал по улице.
Виктор постоял, посмотрел ему вслед. Стало грустно, и он медленно пошел прочь. Хотя Виктор знал Леньку дней десять, сейчас ему показалось, что он остался совсем одиноким в этом далеком и необыкновенном крае.
Виктор перебрал в памяти события последних дней и подумал о том, что придется много работать. И это хорошо!
Работы он не боится, – вырос не белоручкой. Пока жили с отцом, все шло как у людей. Правда, отца он знал мало. Когда в четырнадцатом году тот ушел на фронт, Виктор был еще совсем малышом. Потом отец вернулся – худой, небритый и веселый, в старой шинели, с винтовкой и шашкой (он служил в артиллерии). И сразу же началась революция. Отец неделями не ночевал дома. Виктор знал, что он свергал буржуев, брал Зимний, охранял Смольный. Потом отец вернулся на завод, надел старую черную куртку и немного пожил дома, как все. А в двадцать третьем году он снова уехал куда-то под Пензу. Там его и убили кулаки в дальней глухой деревне. Через два года мать вышла замуж за человека, который нигде не работал и большей частью сидел дома. Виктор не любил этого хилого мужчину, с тонкими усами, холодными серыми глазами, скользкого и ехидного. С первых дней между мальчиком и отчимом установились вежливые враждебные отношения. А когда Виктор поступил на отцовский завод и стал зарабатывать себе на жизнь, он ушел из дома и снял комнату в большой квартире бывшей генеральши на Покровке. Генеральша, толстая, все еще важная старуха, сдавала лучшую комнату с тремя окнами на Фонтанку двум холостым служащим банка, а остальные четыре комнаты с дверями в общий коридор отдавала жильцам попроще. У Виктора оказалась небольшая зеленая комната с видом на стену соседнего дома, плохо меблированная, но зато недорогая.
На заводе Виктора приняли в комсомол, он с жаром взялся за работу в ячейке, после смены подолгу оставался в комитете. Вскоре его избрали членом бюро. Время было бурное. Повсюду шли собрания – ячейковые, районные, городские. Подняли голову троцкисты. Они особенно активно выступали на заводах и фабриках – стремились привлечь на свою сторону рабочих ребят. Все их попытки оканчивались провалом: на каждого оратора-троцкиста приходилось по десятку выступавших в защиту генеральной линии партии. Страсти разгорались, троцкистов часто стаскивали со сцены и не всегда им удавалось уйти с собрания без хороших рабочих тумаков.
Приближалось десятилетие Советской власти. В канун праздника стало известно, что на юбилейное заседание в Таврическом дворце хочет приехать Троцкий. Задолго до начала заседания у дворца собралась большая толпа заводской молодежи. Никто их сюда не звал, они сами пришли с фабрик и заводов, из разных районов города.
– Не пустим! – раздалось в толпе. – Пусть поворачивает оглобли!
Было уже довольно темно, когда в толпе пронесся гул. Передавали, что автомобиль Троцкого подъезжает к углу. Толпа сразу хлынула вперед и вынесла Виктора к длинному черному лимузину. Остановленный передними рядами, автомобиль затормозил. Шофер давал надрывные гудки, но люди не трогались с места. Виктор встал на носки, вытянул шею и увидел в кабине автомобиля человека в черной каракулевой шапке, с узким клинышком бородки и свисающим вниз носом. Сняв пенсне, человек что-то говорил, двигая правой рукой, но слов его не было слышно.
Толпа угрожающе надвигалась. Виктор и какие-то ребята ухватились за радиатор и крылья машины и стали толкать ее назад. Шофер дал задний ход, под улюлюканье комсомольцев лимузин кое-как развернулся и уехал.
– Давай, давай! – кричали ему вслед. – Катись отсюда! Без тебя обойдутся!
В суматохе у Виктора оторвался рукав кожанки, он ушиб ногу, но боли не почувствовал и кричал громче всех.
Об этом случае рассказал секретарь райкома на многолюдном собрании и привел его как пример классовой сознательности комсомольцев. Виктор сидел гордый и счастливый. Ему хотелось встать и сказать, что он тоже в этом участвовал. Но он ничего не сказал.
Зимой на танцах в одном клубе Виктор познакомился с тоненькой девушкой. Звали ее Любой, она училась в балетной школе на Невском. Виктор стал иногда заходить за ней к концу занятий. Он ожидал Любу в длинном коридоре школы и с удивлением присматривался к чужому миру. По углам шептались завитые, разодетые девушки, слонялись похожие на девушек юноши. Все это резко отличалось от жизни заводских ребят, с которой он сроднился. Но Люба ему нравилась, и из-за этого он старался не замечать ее окружения. Он водил девушку в кино, угощал пирожными, с тревогой думая о том, что до получки в его кармане ничего не останется.
Потом она стала приходить в его зеленую комнату, небрежно бросала свой маленький желтый чемоданчик, снимала зеленое пальто и зеленую шляпку и тонкая, изящная – садилась на старый, помятый диван. Она без остановки могла говорить час и два, позволяла себя целовать, но всегда вовремя вставала, решительно надевала пальто, подходила к двери и, послав воздушный поцелуй, исчезала.
Однажды, после того как они не виделись недели две, Люба сказала, что мать хочет выдать ее замуж.
– А ты сама как? – с тревогой спросил Виктор.
– Мне все равно, – с улыбкой ответила Люба, но он почувствовал, что она говорит неправду. Позже, когда девушка ушла, он подумал, что она все это сказала для того, чтобы заставить его сделать предложение. Нет. Жениться ему еще рано, да и любит ли он ее по-настоящему? Пусть выходит замуж. Он желает ей только счастья. С тех пор они уже не встречались. Перед самым отъездом из Ленинграда Виктор разбирал вещи, нашел ее записку и вспомнил все, что было. Нет, она не оставила в его сердце большого следа. Уезжает он без сожаления, ничего не забыв в этом прекрасном городе. На новом месте начнется новая жизнь. Интересно, как она сложится здесь?
И вот она началась, эта новая жизнь. Все в ней было необычно и интересно. На каждом шагу Виктор сталкивался с проявлениями во многом непонятного ему быта, обычаев, нравов. Он жадно читал все, что смог найти об этой стране, о ее народе. Но написано было слишком мало и поверхностно, чтоб удовлетворить любознательность молодого человека. В свободное время Виктор бродил по улицам и переулкам, заходил в чайханы, долго сидел там за чайником зеленого горького напитка, всматриваясь в окружающее.
Виктор видел, как одна пиала с чаем обходит десяток сидящих в кругу людей. Однажды в кишлаке невдалеке от города его угостили обедом. На дырявый палас поставили большую деревянную чашку с супом, и все сидевшие вокруг по очереди черпали из чашки одной деревянной, грубо выструганной ложкой.
Люди одевались в ситцевые халаты, носили изготовленную из грубой домотканной материи одежду, жили в глинобитных мазанках без окон и печей.
Сначала Виктору показалось, что все это говорит о низкой ступени культуры. "Какая страшная отсталость", – думал он.
И в то же время он много раз слышал, как кто-нибудь из сидящих в чайхане вдруг начинал нараспев читать мелодичные строфы стихов. Их продолжал другой человек и, как эстафету, передавал следующему. Слова неведомых Виктору поэтов звучали в пыльной, многолюдной чайхане, и глаза людей, произносивших стихи, светились радостью.
Нет, это не от низкой культуры, а от бедности люди пользовались одной пиалой, одной ложкой, сидели на полу. И ситцевую одежду они носили не потому, что ситец лучшая из тканей, а потому, что он – самый дешевый.
Из книг и рассказов знакомых Виктор постепенно, по крупицам узнал историю таджиков, одного из древнейших на земле народов, узнал о великой таджико-иранской культуре, давшей миру гениальных поэтов, ученых, мыслителей. Имена Фирдоуси, Абуали-Ибн-Сины, Рудаки стали близкими и понятными, когда он услышал их стихи.
Виктор рано научился читать, любил книги, видел в музеях картины великих художников, бывал в театрах и кино, и ему казалось странным, почти сказочным, что при жизни его поколения могут существовать народы, не читающие напечатанных в типографии книг и газет. А ведь в Бухарском эмирате не имелось книгопечатания, не издавались газеты, да и грамотных почти не было, чтобы их читать.
Виктор видел документы, где на одну корявую роспись приходились десятки оттисков пальцев, намазанных химическим карандашом.
Это был обетованный край для ученых. Молодая Советская власть отбирала у богачей землю и наделяла ею бедняков. Прокладывались оросительные каналы, чтобы вырастить посевы на бывших байских полях. Строились школьные здания, чтоб покончить с вековой неграмотностью. Но широкие исследования археологов и историков, геологов и географов пока не проводились. На карте республики до сих пор бросались в глаза белые пятна неизученных областей, и геологи могли только гадать о богатствах, скрытых в земных недрах.
Как немые свидетели былой культуры, преодолевшие всесокрушающее время, войны и нашествия завоевателей, высоко в горах стояли руины замков, развалины крепостей и древних сооружений.
Столетия страшного гнета тяжким грузом лежали на плечах умного, трудолюбивого народа. Жестокие казни ждали всякого, кто посмел бы возмутиться против порядка, установленного богом и эмиром. И все же, когда переполнялась чаша терпения, народ-пахарь становился народом-воином, и тогда реки окрашивались кровью борцов за лучшую долю. Беспощадно и жестоко подавлялись восстания, но народ хранил в памяти имена героев, слагал о них песни и легенды.
Как, возвещая приход нового дня, над горами восходит утренняя заря, осветила своими лучами эту исстрадавшуюся землю Октябрьская революция. Обнищавший, придавленный многовековым гнетом, но не покорившийся народ, расправил, наконец, плечи и могучей поступью зашагал вперед, в светлое будущее.
В этом краю – безраздельной вотчине бухарского эмира – русский народ никогда не выступал в роли угнетателя и эксплуататора и стал любимым, желанным другом и братом таджиков. Русский большевик, суровый и добрый, мудрый и смелый, помог таджику не только освободиться от жестоких и алчных баев-кровососов, но и научил строить новую жизнь.
Семена этой жизни упали на плодородную почву и, пробивая тысячелетнюю толщу феодального уклада, давали молодые, но уже крепкие всходы. Всюду, где бы Виктор ни бывал, он видел перемены, принесенные Советской властью на древнюю таджикскую землю.
Но старое, отжившее, не сдавалось без боя. Освободившемуся народу нужно было разобрать на своем пути немало завалов, решительно расчистить дорогу. После недолгого любования экзотикой, Виктор понял, что борьба за новую жизнь предстоит серьезная.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ХОДЫЧА ИЩЕТ СЧАСТЬЯ
Город встретил Ходычу пылью и жарой. По улицам ходили загорелые веселые люди. Девушке все улыбались. В Наркомате ее встретили с радушной улыбкой, усадили за искалеченный ремингтон и дали печатать ворох бумажек. Здесь уже давно не было машинистки, и работы накопилось много.
Ходыче понравился город и его гостеприимные жители. Окончательно почувствовать себя счастливой ей мешали заботы о квартире. В общежитии наркомата не было ни единой свободной койки. Первые ночи Ходыча спала на полу в канцелярии, но комендант не разрешил ночевать в Наркомате больше трех дней. Молодая уборщица отвела Ходычу к своей знакомой и уговорила её дать девушке угол. Хозяйка, толстая, оплывшая жиром женщина лет пятидесяти, внимательно осмотрела Ходычу. Ее маленькие, белесые глаза хитро поблескивали из-под широких бледных век, над которыми нависали когда-то рыжие брови. Переваливаясь с ноги на ногу, она тяжело ходила по комнате, вместе с Ходычей устанавливала в угол кровать, подвешивала ситцевую полинявшую занавеску.
– Здесь, доченька, как в раю будешь жить, – хрипло говорила она.
Речь шла о небольшой, слепленной из глины, с косыми стенами, чисто выбеленной комнате. Два крохотных оконца выходили на улицу, дверь вела в сени. От политого глиняного пола поднималась прохлада, мухи со звоном бились в оконные стекла. После шумной и пыльной наркоматовской канцелярии комнатка и в самом деле показалась Ходыче раем. Она с наслаждением растянулась на кровати и почти мгновенно уснула.
Проснулась Ходыча от легкого толчка. У кровати стояла хозяйка.
– Доченька, милая, вставай, – бормотала она. – Вечер на дворе.
Ходыча села на кровати, шум в комнате привлек ее внимание. Через щель в занавеске она увидела, что за столом сидят двое мужчин.
– Сбегай, милая, за винцом на угол к персу, – тихо попросила хозяйка. Вот тебе деньги. Сама бы сбегала, да одышка проклятая не пускает.
Толстуха сунула Ходыче в руку несколько бумажек и исчезла за занавеской. Девушка причесалась, вышла из своего уголка и, не глядя на сидящих за столом, быстро выскользнула за дверь. На улице она поежилась от прохлады и побежала к лавчонке, которую заметила еще днем.
В винах Ходыча не разбиралась и взяла первые попавшиеся бутылки. Дома толстуха познакомила ее с мужчинами, усадила за стол и заставила выпить стакан вина. Мужчины уже напились, вскоре один уснул, положив голову на стол, а другой молча пил, не спуская глаз с Ходычи. Хозяйка куда-то исчезла, а когда за занавеской послышался храп, девушка поняла, что толстуха уснула на ее кровати. А мужчина все пил и все смотрел. Ходыче стало страшно, она вышла из комнаты, будто за водой и выбежала на улицу. Ночь была тихая, прохладная. Высоко в небе висела желтая ущербная луна.
Ходыча постояла немного у ворот, потом услышала шум открываемой двери и быстро пошла по улице. Она долго бродила по кривым переулкам, стараясь как можно тише ступать, чтобы не привлечь внимания собак, потом села на скамеечку возле какого-то дома. Ей хотелось плакать, но девушка закусила губу и сдержала себя. Внезапно ее охватило чувство грусти и одиночества. Она вспомнила свою коротенькую жизнь, в которой было так мало радости.
...На третий день после рождения Ходычи отец избил ее больную мать. Он не верил, что Ходыча его дочь. Этот маленький, сухой и сморщенный старик женился на высокой и красивой девушке. Хозяин хлопкового завода, каких немало было понастроено вдоль Средне-Азиатской железной дороги, он имел достаточно денег и, когда у него умерла жена, купил себе другую из бедной, но хорошей татарской семьи.
Ходыча росла вместе со своей сводной сестрой в тенистом маленьком дворике старого Ташкента. Отец вел дела с купцами-узбеками и подражал им во всем. Казалось, он забыл о том, что родился в богатой татарской семье в Казани, учился в русской гимназии и исколесил всю Россию, прежде чем попал на эту кривую, пыльную улочку.
Иногда мать закрывалась, как узбечка, паранджой с черным чачваном, брала маленькую Ходычу за руку и бродила с ней по городу.
Когда отец стал еще богаче, семья переехала в новую, европейскую часть города, в белый дом, отделенный высоким забором от тихой, выложенной камнем улицы. Ходычу отдали в татарскую школу для девочек. Училась она хорошо. Учительница часто приводила ее к себе домой и обучала русской грамоте. Ходыча полюбила русские книги, интересные, хотя и не всегда понятные.
Однажды отец отправил девочек с матерью за город в зеленый тенистый кишлак. Они прожили там целый род, а когда вернулись в Ташкент, Ходыча не увидела многого, к чему привыкла с детства.
На углах не стояли сердитые полицейские, которых она очень боялась, незнакомые люди говорили друг другу "товарищ", дома на главной улице украшены выцветшими на солнце красными флагами.
Это было тревожное время. Для Ходычи стали привычными стрельба, обыски, отсиживания в погребе, прерванные занятия в школе. Потом снова наступили мирные дни, только у отца уже не было завода – его забрали рабочие. Сестру выдали замуж, и она покинула дом отца. Муж толстый и противный, вдобавок старше ее на двадцать лет.
Ходыча росла, училась. Однажды она взглянула на себя в зеркало и остановилась в изумлении: на нее смотрела взрослая девушка. Ходыча долго разглядывала свои большие черные глаза, тонкие брови, грудь. Потом заплакала – сама не знала отчего.
Девушка старалась как можно меньше бывать дома. Она жалела мать – рано состарившуюся женщину, безмолвную, покорную воле мужа и детей. Но помогать матери по дому Ходыча не любила. Рано утром она уходила в школу и часто оставалась там до вечера. В школе теперь учились мальчики и девочки, занятия велись на русском языке, и только по старой памяти школу называли татарской. Когда в школе делать было нечего, Ходыча одна или с подругами уходила в старый город – побродить по бесконечному базару, потолкаться в душных и тесных лавках, поглазеть на множество заманчивых и недоступных вещей.
Ходыча жила без подруг. Она не умела легко и бездумно дружить, как другие девушки. Замкнутый и гордый характер не позволял ей изливать душу перед сверстницами. И они недолюбливали ее, считали гордячкой. Мальчиков Ходыча избегала и даже побаивалась. Лучшими ее друзьями оставались книги.