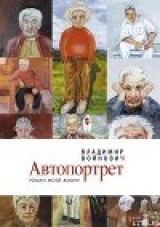
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 63 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Секретариат был назначен на 20 февраля. Но за несколько дней до него я заболел воспалением легких. Не притворялся, а реально заболел. 20го утром мне позвонил Ильин. «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата, нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель, мы не хотим с вами расставаться, никто не желает вашей крови, приходите, пожалуйста, я вас очень прошу».
Это были новые ноты, раньше он разговаривал со мной не так. Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся, потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая – неуважительная – я болен…»
– Очень хорошо, – радостно прервал Ильин, – в таком случае я отменю заседание.
– Не нужно отменять, – сказал я. – Я, когда выздоровею, тоже не приду. У меня есть еще одна причина, уважительная: нам не о чем говорить.
Ильин продолжал меня уговаривать. Я должен прийти. Со мной поговорят, исключать не будут. В крайнем случае объявят еще один выговор.
Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй с последним предупреждением.
– Пусть вас это не волнует, это процедурный вопрос, мы с ним как-нибудь справимся.
– Меня ваши процедуры больше не интересуют, – сказал я. – Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор.
– Вот очень хорошо, – сказал Ильин. – Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем.
Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде.
К началу заседания моя жена отвезла в секретариат письмо, начинавшееся словами: «Я не приду на ваше заседание, которое будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участие не желаю…»
Полный текст – опять в конце книги (Приложение № 3).
В тот день жизнь моя круто переменилась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но теперь я им ни в чем не уступлю, ни на какой компромисс не соглашусь, буду делать только то, что считаю нужным. Я еще не знал тогда известного наставления «Делай, что должно, и не думай о последствиях», но примерно такое правило для себя и установил.
В два часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства Рейтер. Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул.
На другой день позвонил Булат Окуджава и спросил:
– Правда, что тебя из Союза исключили?
– Да.
– А что ты делаешь?
– Ничего, болею. Воспаление легких.
– Жди меня, я скоро приеду.
Через некоторое время он приехал с картонной коробкой от ботинок. Открыл, вынул из нее медицинские банки. Велел перевернуться на живот. Поставил мне банки, собрал их и уехал.
Выздоровел я быстро. А теперь позволю себе медицинское соображение. После того как в «Литературной газете» был напечатан дополненный Ильиным мой протест, я долго чувствовал себя униженным и пребывал в состоянии, похожем на депрессию. В этом состоянии мой иммунитет был очень ослаблен, я легко простужался и был жертвой всех эпидемий гриппа. Но за все годы своего противостояния с государством я ни разу не простудился, ни разу не слег от гриппозного вируса, и только в самом конце мной овладел неизвестный недуг, о котором речь впереди.
21 февраля я получил телеграмму из Парижа о принятии меня в члены французского ПЕНклуба. Президент клуба Пьер Эммануэль закончил телеграмму словами: «Французский ПЕНклуб целует вас». Членство в ПЕНклубе, а потом в Баварской академии и американском обществе Марка Твена было мне во времена моего диссидентства существенной защитой. Власти понимали, что без большого скандала расправиться со мной уже нельзя.
Кстати, общество Марка Твена присудило мне премию – тысячу долларов по одному центу. Мешок денег, который я так и не получил…
Нас не тронешь, мы не тронемОб исключении очередного члена из Союза писателей всегда сообщала «Литературная газета». Лидия Чуковская была последней, о ком сообщили, а я первый, о ком нет. Они поняли, что известность человека защищает и поддерживает, и решили не привлекать ко мне лишнего внимания, чтобы не было большого шума на Западе. Но я этим тоже был доволен: не хотят – ну и не надо. Как говорил один мой приятель: «Нас не тронешь, мы не тронем». Я хотел не шума, а покоя. Но оставить меня надолго в покое им их натура не позволяла. Раз я их враг, значит, надо же как-то портить мне жизнь. Вот и старались. И заставляли меня на их действия откликаться. Что я и делал обычно в ироничной форме. Они мне пакостили, а я собирал дома иностранных корреспондентов и читал очередное заявление. Поскольку мои тексты почти всегда были написаны с юмором, иностранные журналисты охотно их у меня брали, печатали в своих газетах и передавали в эфир.
Союз членов Союза писателейСоюз писателей шутники называли Союзом членов Союза писателей, имея в виду, что большинство составлявших его единиц писателями в том высоком понимании этого звания, которое в России сохранялось с прежних времен, назвать было нельзя.
Из сообщества писателей Союз давно превратился в карательный орган, в придаток КГБ еще более мерзкий, чем сам КГБ. Союз обеспечивал своих рядовых и послушных членов мелкими привилегиями, но стоило Кому-то оказаться неугодным партийной власти, как сам этот Союз затевал против неугодного дело и обрушивал на него все доступные организации кары, а недоступные (то есть аресты и расстрелы) ретиво и яростно одобрял и поддерживал. Я говорил, и это было действительно так, что если бы Союзу писателей разрешили приговаривать своих членов к смертной казни, то расстрелы регулярно бы производились при активном участии одних, одобрении других и молчании третьих. Оно и неудивительно. Союз чем дальше, тем больше пополнялся и разбавлялся людьми, имевшими сомнительное отношение к литературе: чиновниками, полковниками и генералами КГБ, МВД и общеармейскими, включая, например, маршала авиации Александра Покрышкина. Знаменитый герой Второй мировой войны вряд ли достаточно умело владел пером, чтобы всерьез считаться писателем. Но он был самым заметным из писателей такого рода и, возможно, не худшим, а кроме него, еще сотни генералов, полковников, а впрочем, и равных им штатских людей, не имевших и признаков литературного таланта, составляли основную массу в Союзе писателей, занимали в нем руководящие посты и угождали власти сочинением романов, воспевавших советскую власть и получивших общее название секретарской литературы. Таких «писателей» в Союзе с самого начала было достаточно, а в брежневское время они в литературу пошли толпой. Сам Брежнев получил за свою написанную не им трилогию Ленинскую премию по литературе, а бесстыдство некоторых мнимых авторитетов дошло до того, что они сравнивали автора с Львом Толстым, да он на меньшее и не согласился бы. Серая масса из бездарных и злобных завистников, составлявшая большинство в Союзе писателей, свое право на писательское звание могла оправдать только готовностью исполнять любые приказы и желания власти, и власть, когда было нужно, спускала эту свору с поводков. Бездарные уничтожали талантливых и проявляли такое усердие, что самой власти порой приходилось их сдерживать.
Когда меня приняли в Союз писателей, я был счастлив и горд, что государство признало меня писателем. О прошлом этой организации я знал немного. О том, что знал, мало думал. Когда думал, надеялся, что травля одних писателей другими – это все в прошлом. Когда увидел, что в этой конторе ничего не изменилось, все те же нравы, та же готовность уничтожать неугодных, мне стало противно, стыдно и даже невыносимо дальше состоять в этом союзе. Покинув его, я испытал огромное облегчение и никогда не пожалел о своих поступках, приведших к этому.
Правдолюбцы и чайникиВ провинции было много людей, которые искали правды, но не находили ее в советских учреждениях. Писательское звание люди ценили высоко, и многие ошибочно думали, что писатель есть лицо, государству не совсем подчиненное. Они думали, что раз о нем говорят по иностранному радио, а он на свободе, значит, наверное, обладает какойто силой. Воспринимая его как последнюю инстанцию, шли искать у него защиты и не верили, что он сам бесправен.
Уже на следующее утро после того, как «враждебные голоса» объявили о моем исключении, часов в семь, раздался звонок в дверь. Ира открыла – на пороге стоял приезжий с железными зубами.
– Я хочу поговорить с вашим мужем, – сказал он.
– Он сейчас болен.
– Я как раз на эту тему пришел поговорить.
– Вы что, врач? – удивилась Ира.
– Нет, я больше, чем врач.
Ира впустила его. Он вошел ко мне в комнату и сказал:
– Я иммортолог, занимаюсь проблемами вечной жизни.
– Геронтолог? – переспросил я.
– Нет, иммортолог, – повторил он. – Я открыл закон, по которому каждого человека, даже вас, можно разрезать на куски, а потом восстановить.
– Вы можете сделать и то и другое? – решил уточнить я.
Из его ответа я понял, что он может исполнить только первую часть, а остальное сделают, если нужно, рядовые специалисты.
В то время я совершенно был не готов к посетителям такого рода. Я сначала слушал, серьезно относясь к его словам. К тому, что рано или поздно все люди, включая Пушкина и Гомера, будут неизбежно воскрешены или, по его словам, восстановлены. Но потом он начал рассказывать, что его преследуют кагэбэшники, потому что очень его боятся.
– Почему же они вас боятся? – стал я с ним спорить. – Они же тоже хотят жить вечно.
– Нет, – возразил он, – они понимают, что, если люди смогут жить вечно, им будет ничего не страшно, и ими нельзя станет управлять.
– Хорошо, допустим, они вас боятся. Но если все люди бессмертны и будут восстановлены, то вамто чего бояться?
– Понимаете, – объяснял он, забыв о рядовых специалистахиммортологах, – я единственный человек в мире, который знает секрет восстановления, поэтому именно меня они и травят.
По его словам, КГБ начал свою работу над ним с попыток лишить его возможного потомства. Показал мне носимую им в трусах свинцовую пластину, которой он защищается от попыток лишить его детородной функции.
Потом ко мне приходили уже человек пятьдесят, которых облучали то из вставленных в стены технических устройств, то через отравленные обои, то с помощью цветов, излучающих радиацию. А этот был первым, и я думал, может, действительно его облучают? Этот человек приходил ко мне много раз.
Однажды он пришел, когда я был дома один с маленькой дочкой. Мы начали о чемто спорить, и я вдруг увидел, как он накаляется, краснеет и становится неуправляемым. Я понял, что он вошел в очень опасную фазу. Вышел с дочкой на руках на кухню, взял на всякий случай перочинный нож, вернулся, начал его успокаивать, говоря, что он прав, что Пушкина ему действительно скоро удастся вернуть и я в это охотно верю. Он успокоился, и я его кое-как выпроводил.
Сумасшедшие ехали из разных концов страны. Один был из Керчи. Он сам когда-то служил в КГБ, а потом заболел и теперь считал, что КГБ его травит, и тоже, разумеется, невидимыми лучами. Я выходил из дома, он шел за мной, стараясь прижаться ко мне.
Иногда Ира предлагала моим посетителям написать на бумаге все, что они хотели мне рассказать. Человек шел на кухню, озирался, пытаясь понять, не выглядывают ли с потолка объективы камер, закрывал рукой листок и начинал писать: «Я родился в такомто году». И приступал к изложению своей биографии, примерно как я сейчас, со всеми подробностями.
Многие приносили рукописи, требуя передать их на Запад и напечатать. Один такой предложил мне сесть в поезд на Белорусском вокзале, проехать 400 километров, на 401 м поезд идет в гору, замедляет ход, там спрыгнуть, пройти вдоль высоковольтной линии, около третьего столба повернуть налево, отмерить еще тридцать шагов, там стоит дуб, под ним зарыта рукопись. Нужно ее выкопать, напечатать на Западе, гонорар не присвоить и неизбежную затем Нобелевскую премию тоже передать автору в полной сохранности.
Он ушел, но через несколько месяцев появился вновь. Уже на костылях – как я понял, – для конспирации. Опасаясь прослушивания, написал на бумажке: «Вы там были?» Я показал знаками – нет, не был. Он написал: «Странно, а рукописи нет». И стал сверлить меня глазами, как Максимов, обнаруживший пропажу бумажника. Этот заподозрил, что я выкопал его рукопись, напечатал ее на Западе и, несмотря на предупреждение, все-таки присвоил себе гонорар и Нобелевскую премию.
Мой домашний адрес этим людям давали в справочном бюро. Я даже думаю, что, может быть, им давали его нарочно. Возможно, КГБ, старавшийся любыми способами сделать мою жизнь несладкой, поощрял этот поток ходоков.
Лидия Корнеевна Чуковская таких людей не пускала на порог, резко им заявляя, что она не бюро жалоб, а очень занятой человек. Я поначалу так поступать не мог. Мне казалось, что человека, ищущего правду, проделавшего длинный и недешевый путь, я обязан хотя бы выслушать.
Ничего делать не надоРегулярно навещал меня приезжавший из провинции начинающий лысеть начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был и еще один существенный недостаток – они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а то и просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум: или они отдадут приказ немедленно опубликовать его произведения, или он тут же покинет Советский Союз.
Свой разговор в КГБ он пересказывал так.
Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какойто человек и сказал:
– Ах, здравствуйте, наконецто вы к нам пришли!
– Разве вы меня знаете? – спросил писатель.
– Ну, кто ж вас не знает, – развел руками кагэбэшник. – Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?
– Да, не нравится, – сказал писатель.
– А чем именно она вам не нравится?
Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения – всего примерно лет на семь заключения.
Выслушав его очень вежливо, кагэбэшник спросил:
– А зачем вы мне это рассказываете?
– Я хочу, чтобы вы это знали.
– А мы это знаем. Это все знают.
– Но если все это знают, надо же чтото делать!
– Вот в этом вы ошибаетесь, ничего делать не надо.
Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть.
– Вы мне все сказали? – вежливо спросил кагэбэшник.
– Все.
– Так чего же вы сидите?
– Я жду, когда вы меня арестуете.
– А, понятно, – сказал кагэбэшник. – К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно, у нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз, и мы сделаем для вас все, что сможем.
И выпроводил писателя на улицу.
Писатель этот навещал меня еще раза два, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился и его начали лечить от инакомыслия.
Рита РайтПастернака исключили когда-то из Союза писателей, но оставили в членах Литературного фонда, что было отражено в извещении о его смерти. Александр Галич был исключен из СП и из Литфонда, но долго еще оставался записанным в литфондовскую поликлинику. Поэтому иногда в шутку представлялся: «Александр Галич, член поликлиники Литфонда». Я тоже короткое время оставался членом этой же поликлиники, врачи которой заботились о моем здоровье попрежнему и даже требовали моего регулярного прихода на диспансеризацию. И вот я очередной раз пришел. Сижу перед кабинетом врача.
Идет мимо писатель Леонид Лиходеев. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то чтото забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически делают шаг за шагом, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик Феликс Кузнецов, а сзади на стульчике сидит драматург Исидор Шток. Проходя мимо, Лиходеев кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «но пасаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Однако этот испанский жест он делает так, чтобы критик Кузнецов и драматург Шток не сомневались, что это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.
Идет мимо в другую сторону Рита Яковлевна РайтКовалева.
– Здрасьте! – говорю я ей.
– Здрасьте! – отвечает она мне как малознакомому, но, пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается: – Ах, Володичка, милый, здрасьте, здрасьте, я так плохо вижу, я вас не узнала. – И с надеждой, что говорить со мной не опасно: – А вас из Литфонда все-таки не исключили?
– Исключили. Но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию, хотя я не хочу.
Она почти в ужасе.
– Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какието права, но против диспансеризации!
Как ни странно, некоторые литераторы, жившие рядом, не могли понять причины моего конфликта с государством и видели ее или в стремлении к саморекламе, или в мелочных придирках к государству, в требованиях соблюдения им каких-то несущественных формальностей. Одним из таких людей был мой сосед по площадке, проведший много лет в лагерях, Михаил Давидович Вольпин. В начале нашего знакомства бывший со мной весьма приветливым, он вдруг изменил свое отношение, стал холодно здороваться. Я решил, что он, как и многие, просто опасается общения со мной. Но в один прекрасный день он постучался ко мне в дверь, вошел и с порога заговорил:
– Извините, я думал о вас плохо. Я объяснял себе вашу ситуацию другими причинами. Но мне дали «Чонкина», я прочел, я в восторге, и теперь я понимаю, почему у вас такие неприятности.
Он прочел, он понял.
А Рита Яковлевна не читала, не поняла.
– Бог с вами, – говорю я ей, – я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень ходить по кабинетам. Тем более что мне кажется, что я здоров.
– Ну да, Володичка, вы еще молодой. А мне семьдесят шесть лет, я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку. Я бы хотела туда полететь, а потом на обратном пути… – Жестом она изображает падение самолета.
– Не надейтесь, это не так легко, – говорю я. – Самолет летит высоко и падает долго.
– Володичка, не отговаривайте меня, я все выяснила. Там сразу теряешь сознание и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню не потому, что я вас забыла, а потому, что меня сейчас надо беречь. Да, да, Володичка, меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского.
Идет мимо известный юморист Зиновий Паперный. Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается.
– Здравствуйте, – говорит переводчица, – очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали.
– Зато порознь кончаете, – двусмысленно пошутил юморист и пошел дальше.
Своим поспешным уходом он как бы напоминает Рите Яковлевне, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предлога просто так подняться и уйти нет, а уйти без предлога все-таки неудобно.
– Вы знаете, Володичка, мне семьдесят шесть лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Голицыне, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры журнала с Сэлинджером. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить (говорит номер). Но меня надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила: голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю, я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.
– Я тоже.
– Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володичка, если б вы знали, как я их боюсь! Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером. Это так страшно!
– Это, безусловно, страшно, – соглашаюсь я, – но не страшнее, чем в падающем самолете.
– Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто.
– Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто.
– Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить?
– Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы…
– А ну вас, Володя. Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне приедет один сумасшедший американец, он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь.
– Тогда лучше я вам не буду звонить.
– Да, пожалуй, лучше не звоните. – Переходит на шепот: – Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да… у нас ведь лифтерши.
– Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду в маске.
Встревожилась.
– В какой маске? – Поняла, что шутка. – Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, Курт Воннегут, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала: «Только, ради бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже».
– Кому это будет хуже?
– Всем, всем.
– Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет.
– Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забывайте, у них армия, флот, у них эти… как они называются… ядерные боеголовки.
– Да что нам с вами их боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета…
Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, Риты Яковлевны у дверей уже не было.
После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но ее больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили, а зайти к Рите Яковлевне или хотя бы позвонить я не решался. Не хотел ее волновать своим приходом. Не поздравил ее с восьмидесятилетием. И когда уезжал, не зашел проститься.
Она после нашей встречи прожила еще десять лет, побывала в Америке. Встречалась с Воннегутом. Самолет, на котором она летела, не разбился. Пришлось ей умереть «обыкновенной» смертью – в своей постели.








