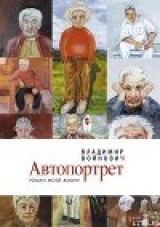
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Повадился ходить ко мне житель города Боброва Воронежской области Иван Павлович Копысов. Писал какието безграмотные, но местами интересные тексты, в которых ругал, естественно, советскую власть. Принес однажды местную газету с фельетоном против какойто женщины, написавшей куда-то жалобу, что ей не дают заслуженной пенсии. Газета укоряла женщину, что она на жизнь смотрит сквозь темные очки и не видит всего хорошего, что происходит в нашей советской жизни. А происходит в ней много хорошего. Только в городе Боброве построен мост через реку Битюг и на следующую пятилетку намечено проложить канализацию.
Копысов, как и другие ходоки, появлялся обычно рано, часов в семь, прямо с поезда, садился на диван, рассказывал мне о плохих бобровских чиновниках, просил передать рукопись за границу, но, бывало, оглядывал комнату и щурил лукаво глаз:
– А у вас, Владимир Николаевич, квартиркато неплохая. Наверное, такие не каждому дают и не задаром.
Я отвечал ему иногда добродушно. Другой раз не очень.
Однажды он пришел ко мне с интересным предложением. Чтобы я сжег себя на Красной площади. Я спросил: а почему бы ему самому не совершить этот акт?
Он сказал:
– Ну, что вы! Это будет никому не интересно. А вы, человек известный, привлечете к себе большое внимание.
Через какое-то время, убедившись в моем малодушии, он пришел с бумагой, в которой сообщал, что решил сам, облившись бензином, сжечься перед Мавзолеем и просит организовать приход к месту события иностранных журналистов, прежде всего корреспондентов западных телевизионных компаний.
Я попробовал его отговорить, но он был непреклонен. Тогда, надеясь, что он остынет, я сказал, что подумаю.
Дня через два он позвонил и спросил, готов ли я помочь ему в известном мне деле. Я ответил, что считаю его идею глупой и не советую ему совершать задуманное. Через час он явился ко мне без звонка и с порога заявил приблизительно следующее:
– Вы специально говорили по телефону так, чтобы в КГБ догадались о моем плане. Раз так, я свое решение отменяю и иду с расколкой в КГБ. Я скажу, что сжечься подбивали меня вы и Сахаров.
Тут я схватил его за шиворот и буквально спустил с лестницы. Но наши отношения на этом не кончились.
Прошло еще какое-то время. как-то днем я сидел, работал и услышал, что ктото крадется вверх по лестнице. Потом я услышал шорох, увидел просовываемый под дверь конверт, и опять шаги вниз. Я выскочил за дверь, догнал Копысова, втащил его к себе в квартиру, стал спрашивать, зачем он крался и почему не может прийти ко мне обыкновенным способом. Хотел распечатать письмо, но он закричал:
– Прошу вас, не открывайте!
– Ага, – говорю я, – значит, написали какуюто гадость.
– Да, гадость, – признался он, – гадость. Но я не прав. Я больше не буду. Отдайте письмо.
Я отдал. Через много лет мое письмо другому человеку тоже было возвращено мне нераспечатанным, но там причина была иная.
А Копысов ко мне пришел еще раз, за день до моего отъезда на Запад. Опять совал мне какойто безграмотный текст с тем, чтобы я перевез его на Запад. Я ему отказал, но потом, уже живя в Мюнхене, как-то слышал, что по радио «Свобода» читали чтото сочиненное Копысовым.
В купе и вкупеНа другой день после передачи моего письма на Запад ко мне явился Максимов с известием, что получил разрешение выехать в Париж. Я был неприятно поражен. Он мне ни о каких приготовлениях к отъезду перед этим не говорил.
А теперь, как выяснилось из его слов, намерение уехать вынашивалось им долго.
Он ходил по моей комнате, помахивая рукой, и в своей манере говорил как бы не мне, а противоположной стене.
– А что такое? – говорил он. – Я давно им сказал: «Господа, если я вам не нравлюсь, то в чем дело? Я готов хоть сейчас немедленно покинуть вашу сраную страну».
Стали говорить о его и моих делах. Как мне помнится, я его просил, чтобы он, когда окажется в Париже, поинтересовался в «ИМКАПресс», как дела с моей книгой, которую они обещали издать к Франкфуртской ярмарке.
– Да, конечно, – пообещал Максимов, – обязательно поговорю. А насчет этой ярмарки, – он вскочил на ноги и опять, обращаясь к той же стене, забегал по комнате. – Мне говорили, Франкфуртская ярмарка – это десятки павильонов и десятки тысяч наименований. Я им говорю: «Господа, – продолжал он, слегка косясь на меня, – вы поймите, господа, десятки тысяч названий? Так неужели вы думаете, что вашу книжонку в этом море ктонибудь может заметить? Что вы, господа! Надо же быть реалистами!»
Перестал бегать, сел на стул напротив меня. Тут же сделал вид, что это не обо мне, а о каких-то абстрактных и наивных господах. Вернулся к моим делам.
– Меня иностранцы спрашивали о тебе, о твоих книгах.
– И что ты сказал?
– Ну, я сказал все, что знаю, что ты написал повесть о целине и какуюто песню о космонавтах.
То есть «Чонкин», которому иностранцы якобы предрекали большой успех, уже как будто не существовал.
Я тогда еще был толстокожий, не сердился, но удивлялся такому ходу ума, как одной из красок жизни. Я спросил:
– Как? Разве ты не сказал иностранцам, что я написал «В купе»?
Теперь удивился он:
– А что это?
– Ты не знаешь? – продолжал я изображать удивление. – Одно из главных моих сочинений. Рассказ. Был в «Новом мире» напечатан.
У меня в самом деле был такой рассказ размером в дветри страницы. Рассказ мне не нравился, был для меня не характерен, я его после новомирской публикации никогда больше печатать не собирался. Не знаю, прочел ли Максимов рассказ, но название его не забыл. Когда полтора года спустя я прислал ему в «Континент» отчет о моем отравлении в гостинице «Метрополь», Максимов его напечатал, а в сноске с данными об авторе указал в числе главных моих произведений рассказ «Вкупе» (в одно слово).
Донорское молокоМежду прочим, в день написания письма Панкину, как я сообщал выше, случилось более важное событие: родилась моя младшая дочь Оля.
Ира позвонила из роддома уезжавшему в Америку Науму Коржавину, чтобы попрощаться. «Солнышко, – сказал он ей, – рожай спокойно и не слушай радио». Ира удивилась: какое радио в родильном доме?
Конечно, Эмма имел в виду зарубежное радио. Оно тоже не оставило мое письмо без внимания. За него ухватились все радиостанции, вещавшие на Советский Союз, а «Немецкая волна» передавала его несколько дней подряд. В эти дни я регулярно ездил к роддому. В нашем роддоме уже тогда было новшество: детей показывали отцам по телевизору. Качество изображения было ужасным. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошеее чернобелое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени, и несколько дней, пока мы перебирали варианты, мы называли его просто «девочка». «Ну как тебе девочка? – спросила Ира в записке. – И как вообще дела?»
Я отвечал, что девочка красавица, вся в маму, а дела лучше не бывают. Я ничего не сказал ей тогда о письме, о шуме, произведенном его появлением, и о том, что из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стрехниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме.
Ира вернулась из больницы. У нее было мало молока, и я ходил к одной женщине, донору, у которой молока было достаточно на двоих. Пришел как-то вечером, и она мне сказала, что ее отец хочет со мной познакомиться. А отец в соседней комнате умирал от рака. Я зашел к нему, и так совпало, что именно в этот момент по «Немецкой волне» повторяли мое письмо. Приемник стоял на стуле у постели больного. Он, желтый, как лимон, слушал его и хохотал в голос. Через два дня он умер.
Дочь этого человека жила на четной стороне Ленинградского проспекта – той стороне, где машины идут в сторону от центра. Когда я шел за молоком третий или четвертый раз, я заметил слежку. Неприметная черная «Волга» ехала против движения задним ходом. Чтобы двигаться за мной носом вперед, ей пришлось бы переехать на другую сторону проспекта.
Саша Горлов и полковник КГБС тем же донорским молоком вспомнилась еще одна история. Ранним вечером я посетил Лидию Корнеевну и Елену Цезаревну (Люшу) Чуковских, живших в начале улицы Горького. У них познакомился с Александром Горловым, диссидентом поневоле, который по просьбе Солженицына ездил за автомобильной деталью на его дачу, попал там в засаду не ожидавших его появления кагэбэшников. Они схватили его, потащили в лес, и неизвестно, что бы там с ним сделали, но он стал кричать, местные люди сбежались, отбили его. Он о случившемся сообщил Солженицыну, тот собрал западных журналистов и устроил мировой скандал. Кагэбэшники стали мстить Горлову, положение его, ведущего сотрудника института Гидропроект, стало сложным, он подал заявление на эмиграцию. Побыв недолго у Чуковских, я стал прощаться, потому что должен был ехать за молоком. Горлов взялся меня подвезти на своих «Жигулях». На Ленинградском проспекте, в районе метро «Динамо», Саша сделал какойто, может быть, неудачный маневр, вдруг белая «Волга» обогнала его и перегородила дорогу. Из «Волги» вышел вальяжный, упитанный человек, в модной тогда замшевой куртке, достал из кармана удостоверение и протянул Горлову со словами:
– Я полковник КГБ, а вы меня подрезали!
Я, сидя на заднем сиденье, открыл свое окошко и попытался вырвать удостоверение со словами:
– А ну, полковник, дайка его сюда!
Полковник успел отдернуть руку, побежал к своей машине и быстро скрылся с места происшествия.
Апельсины из МосквыМой отец был человек литературный. Он много стихов знал наизусть и сам писал стихи. Кроме того, переводил с сербского. Его отец, мой дед, владел этим языком, хотя родился в России, – его родители говорили посербски. А отец мой уже сам выучил язык и много лет переводил сербский эпос.
В советские годы был издан двухтомник «Сербский эпос», и там напечатали несколько его переводов, несмотря на то, что он поругался с редакторами. Он был, в отличие от меня, человеком бескомпромиссным. Если мне редактор говорил, что по каким-то причинам надо чтото убрать или изменить, я мог уступить – или согласившись с доводами, или понимая: без этого все равно не пропустят. Были, разумеется, и требования, с которыми я не соглашался ни при каких обстоятельствах. Но отец не уступал ни запятой. И хотя для него эта публикация сербского эпоса была важна, как ни для кого, потому что впервые у него взяли так много переводов, он не уступил ничего, разозлил редактора, и в конце концов в сборнике осталось, кажется, всего 7 переводов, за которые он все равно, по его понятиям, получил довольно много денег. Из Москвы он всем привез подарки. Мне достались самозаводящиеся часы Чистопольского завода.
Он переводил и с украинского. Какието свои стихи и переводы все время печатал в газетах, где он работал.
Его собственная книга вышла в Югославии на русском языке через много лет после его кончины. Союз писателей Югославии сделал ему посмертный подарок. Это уже после того, как я стал болееменее известным, они обратили внимание и на моего отца. А еще у него, уже благодаря молодому предпринимателю Николаю Сыромятникову, вышла книга, которую он писал много лет, – «Потомок Еноха». Енох – это седьмой по счету потомок Адама, который, по утопической версии моего отца, попал на другую планету, где его потомки расплодились и устроили новую жизнь по законам равенства, справедливости и бережного отношения к животным.
Дело в том, что отец, как я уже писал, был жестким вегетарианцем, но вегетарианства он придерживался не ради здоровья. Он считал, что человек – властитель мира и не имеет права убивать братьев своих меньших, что, наоборот, он должен их всячески оберегать, как заботливый старший брат. Все жестокости человеческие, считал мой отец, начинаются с уничтожения животных. Коля Сыромятников, тоже вегетарианец и примерно того же образа мыслей, охотно эту книгу издал.
Последние перед пенсией годы отец работал в газете «Керченский рабочий», в отделе писем. Постоянно разбирал какието жалобы и не просто пересылал письма в разные инстанции, а сам с этими письмами туда ходил. Хлопотал то за одного, то за другого, заставлял чиновников вникать в проблемы. А те очень злились и даже грозили, что его посадят. И все-таки многим людям он помог. Он был идеалист. Советскую пропаганду он презирал. Ему казалось, все можно устроить иначе. Но начать надо с отказа от мясной пищи…
Однажды на улице он увидел, как пожилой человек в морской форме и весь в орденах просит милостыню. Он к нему подошел, спросил, что случилось. Тот ему стал жаловаться на советскую власть, выяснилось, что он не получает пенсию. Отец этого человека взял, ходил с ним по каким-то инстанциям, где-то с кемто спорил, на когото кричал. И на него кричали. В итоге бывшему матросу пенсию дали. Прошло какое-то время, и отец опять увидел этого человека – он сидел на том же самом месте, в той же форме и просил милостыню.
Такая же история у него была с цыганами. Отец решил, что, если назначить им государственное пособие, они не будут побираться. Он снова чегото добился, а они продолжали побираться.
Со мной в моем детстве он обращался довольно сурово, считая, что я должен закаляться, переживать любые невзгоды и обходиться малым. А мою младшую сестру любил безумно и как мог баловал. И, может, именно поэтому он не остался равнодушен к одной истории.
В Керчи ктото затащил в подвал, изнасиловал и убил девочкустаршеклассницу. Убийц не могли найти. И мой отец писал письма в разные инстанции, что расследование было неправильно проведено. Кроме того, он, проходя мимо каких-то подвалов, вдруг останавливался и подолгу стоял, вслушиваясь: ему казалось, что там ктото просит о помощи. Он возвращался, вслушивался еще и только потом шел дальше.
Он всегда боялся пропустить какуюнибудь мелочь, которая может принести вред незнакомым ему людям. Шел по улице стариковской, шаркающей походкой и, если видел, что на дороге лежит апельсиновая корка или стекло, обязательно их куданибудь отталкивал ногой, чтобы никто случайно не поскользнулся или не поранился.
Был патологически брезглив, руками старался не дотрагиваться ни до ботинок, ни до перил, ни до дверных ручек. Целыми днями стоял у крана и мыл руки. Поскольку был аскетом и избегал трат на личные нужды, руки мыл черным хозяйственным мылом. Дверь в ванную не закрывал, чтобы не включать свет. Брился безопасной бритвой, но без ручки, – только два гребешка, между которыми зажимается лезвие. Ему подарили электрическую бритву, он тут же всучил ее мне. Потом ему подарили безопасную бритву, он и эту мне навязал, а сам продолжал бриться обломком.
От постоянного мытья кожа на руках у него была истонченной и синей. Когда он в 67 лет серьезно заболел и я привез его в Москву, Борис Шубин, врач, устраивавший его в больницу, сказал: «У вас экспериментальная экзема. Прекратите мыть руки».
Ему это многие говорили, он пропускал мимо ушей.
Когда случалось побывать в Москве, покупал маме и Фаине апельсины и прятал их в чемодан, чтобы соседи по вагону не видели.
– Потому что, – объяснял он мне, – среди пассажиров есть бедные люди, которым эта роскошь недоступна.
И мне невозможно было его уверить, что вряд ли среди пассажиров есть ктото, кто беднее его.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВВ декабре 1973 года для разбора моего «персонального дела», третьего по счету, было объявлено, но не состоялось заседание Бюро объединения прозаиков. Члены Бюро сказывались больными, удирали из Москвы или просто не подходили к телефону. Наконец когото удалось все же собрать. Это было уже в январе 1974 года, между исключением Чуковской из Союза писателей и изгнанием Солженицына из Советского Союза. Большая комната, где проходило это событие, была набита битком людьми, из которых три четверти были мне незнакомы ни по лицам, ни по именам.
Председательствовал Георгий Радов, почемуто ненавидевший меня с моего первого появления в литературе. Члены Бюро Павел Нилин и Юрий Трифонов, сказавшись больными, не явились. На фоне собравшихся ничтожные Георгий Березко и Владимир Амлинский блистали как звезды первой величины.
Надо сказать, что я пришел на это заседание с весьма агрессивными намерениями. Я собирался сказать «им», имея в виду грозных представителей грозной власти, что я о них думаю. А передо мной сидели жалкие, запуганные люди. где-то в заднем ряду ежился от страха, что я его замечу, Герой Советского Союза Иван Парфентьев, который передо мной еще недавно заискивал. Он так же, как и мой бывший приятель Федор Колунцев (по паспорту Тодик Бархударян), за все заседание не промолвил ни слова. Некий Андрей Старков всего лишь несколько дней назад подбегал ко мне в метро, оглядываясь по сторонам, тряс руку и быстро шептал: «Я восхищен вашим мужеством». Григорий Бровман, жалкий критик, сам в свое время битыйперебитый. Только что его сын попал под машину, еще похоронить не успели, а он прибежал. Что их всех сюда привело? Ну, одни желали отличиться перед начальством. А другие – даже не отличиться, а избежать гнева или косого взгляда. Чтобы начальство не подумало, что они не свои. Только Радов не скрывал своего удовольствия от предстоящей расправы и вызвался возглавить ее добровольно.
Заседание должен был вести некий Борис Зубавин, председатель объединения прозаиков, но он заболел, и Радов охотно его заменил (как я подозревал, сам напросился). (Радов вскоре умер, а года три спустя его сын сказал мне: «Мой отец был честный человек, но мне жаль, что он перед смертью совершил такой нехороший поступок».) Радов сообщил собравшимся, что враждебные радиостанции передают такоето письмо. Автор сидит здесь. «Что вы думаете по этому поводу?» – «Этот вопрос неинтересный, – сказал я, – давайте дальше». – «Когда вас спрашивают, вы должны отвечать», – тоном педагога сказал Радов. «Я вам вообще ничего не должен, – сказал я. – Если бы я пришел вступать в Союз писателей, тогда был бы должен. А я пришел с вами прощаться». Это их как-то сбило с толку, потому что они приготовились припирать меня к стенке, а я вроде сам себя к ней припер. Радов прочел какуюто выписку из устава Союза писателей, что членами этого Союза могут быть только единомышленники. Потом Радов несколько раз, очевидно, ожидая каких-то моих возражений, сказал, что здесь собрались члены бюро с активом в количестве, достаточном для кворума. Я сказал, что меня процедурные вопросы не интересуют, мне все равно, будут меня душить с полным соблюдением формальных правил или с неполным. Тогда они стали выкрикивать кто во что горазд, иногда отклоняясь от темы. Полную стенограмму читатель может прочесть в конце книги (Приложение № 2), но стенографистка, видимо, записала не все. Например, я хорошо помню, как Березко топал ногами и кричал: «Войнович, вы не должны писать этого вашего ужасного Чонкина! Это очень плохая книга».
Лидия Фоменко, цитирую по стенограмме, говорила: «Вообще, как сказал один умный человек сегодня, пусть бы миллионеры заботились об авторском праве. Я, например, никогда не думаю об авторском праве». Это вообще была очень глупая и безвкусная женщина. Незадолго до описываемого заседания она сказала Володе Корнилову, что поставила памятник на могиле дочери: «Шик. Закачаешься».
Бровман попрекал меня: «Вы презираете нас – мы разные литераторы. Вы пишете, что Маркова не будут печатать и издавать. Если Маркова не будут печатать НТС и «Грани», это правильно. У нас большая литература. Вы недооцениваете наши таланты. И вдруг вы выскакиваете, как Моська…»
Я помню, что он сказал «как Моська, которая лает изпод полы». Потом я ему сказал, что его я переоцениваю.
Радов решил вступиться за Бровмана:
Радов: Почему же вы его оскорбляете?
Я: А вы думаете, что здесь можно оскорблять только одну сторону?
Радов(поспешно): А вас никто не оскорбляет.
Я: Ну да. Он меня называет Моськой, и это не оскорбление?
Бровман: Он на меня сердится потому, что я его когда-то критиковал.
Я: У вас мания величия. Неужели вы думаете, что я вашу писанину хоть когда-то читал?
Критик Станислав Лесневский незадолго до заседания приходил ко мне домой и уговаривал ради моего собственного спасения и ради общего спокойствия подать покаянное письмо на высочайшее имя, то есть Брежневу. Потом (прошу у читателя прощения) перешел к лексике другого рода и, став на колени, произнес заклинание: «Я тебя прошу: насри себе на голову!» На что я ему заметил, что его просьба кажется мне физически невыполнимой.
Здесь, на заседании бюро Лесневский, сказал, что в своем письме я оскорбил Верченко, а Верченко – это такой же прекрасный человек, как Ильин, а Ильин – это человек высокой рыцарской чести.
Амлинский, как я и предполагал, начал лирически: «Я знаю творчество Войновича. Я относился к его творчеству и таланту с уважением…», а закончил тем, чем и должен был закончить: «Может быть, он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть».
Трое из присутствовавших начинали свои речи почти слово в слово: «Мне по роду моей службы приходится постоянно читать антисоветскую литературу…» Но даже в этой литературе им редко приходилось читать такие злобные выпады, как те, что содержатся в моем письме.
Это дало мне повод съязвить: «Я думал, что я пришел на собрание своих коллег, а здесь собрались какието странные люди, которые постоянно читают антисоветскую литературу и до сих пор ходят на свободе».
Цирк этот закончился голосованием (единогласным, конечно): рекомендовать секретариату московской писательской организации исключить меня из членов Союза писателей.








