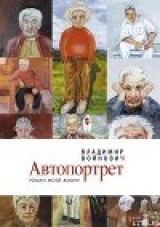
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
В это время наше общение стало совсем тесным и регулярным. Но на трезвую голову. Он был запойный алкоголик, а с алкоголиком нормально выпивающему человеку пить трудно. Однажды все-таки выпили. Ездили на машине к одной общей знакомой, она нам и налила. Выпили, посидели, добавили. Я меньше, он больше. Я еще не понял, что это у него начало запоя. Когда я его вез домой, он, лежа на заднем сиденье, уже с трудом ворочал языком, но стал бормотать чтото нечленораздельное, из чего потом прояснилась мысль:
– Я знаю, вы меня не признаете. Вы думаете, Максимов, подумаешь, Максимов, кто он такой. Мы – таланты. А кто Максимов? Максимов – говно. Вы всегда так думали. А я всегда это знал.
Я ехал осторожно, стараясь не превышать скорость, помня, что встреча с милицией может кончиться для меня дутьем «в Раппопорта» и дальнейшими последствиями. А на заднем сиденье развивается новая тема:
– А что это, интересно, ты со мной так тесно сошелся? Ты же меня не любишь, нет? Ты ведь думаешь, Максимов – не писатель, а я писатель. Я не против, пожалуйста, может быть, ты писатель, а Максимов не писатель. Но Максимов вам еще всем покажет, кто писатель, а кто не писатель. А ты, писатель, почему со мной ездишь? Тебе, писателю, поручили, да? Тебе поручили со мной ездить?
Такого мне еще никто никогда не говорил. Я не подумал, что Максимов в самом деле считает меня стукачом, он был не дурак и понимал, что я для этой роли никак не подхожу. Он просто пробовал, можно ли со мной так разговаривать. Я пока промолчал.
Подъехали к его дому. Я решил его проводить. Он шел, спотыкаясь, и на площадке между вторым и третьим этажами упал и лежал с закрытыми глазами, ожидая, очевидно, что я его подниму. Открыв глаза, он увидел, что я стою, сложив руки на груди, и выступать в роли подъемного средства не собираюсь. Он встал и пошел дальше, помогая себе руками. Так добрались до пятого этажа. Войдя в квартиру, он кинул пальто на диван. Полез в карман пиджака, похлопал себя по бедрам и уставился на меня.
– С тобой чтонибудь случилось? – спросил я без особого, впрочем, беспокойства.
– Украли! – мрачно сказал Максимов, не сводя с меня тяжелого подозрительного взгляда.
– Что украли?
– Кто украл, тот знает, что украл, – сказал он с нажимом. – Бумажник украли. Паспорт, деньги, сертификаты, все.
Я спустился вниз, открыл заднюю дверцу машины и там, на полу, нашарил бумажник. Вернулся на пятый этаж. Максимов стоял посреди комнаты в трусах и в рубахе с галстуком. Я положил бумажник на стол. Максимов ожидал, что я скажу. Я сказал:
– Проверь свой бумажник и запомни. Это не я с тобой езжу, а ты со мной ездишь. Я тебе делаю одолжение. А ты позволяешь еще говорить мне всякие гнусности. Запомни, со мной этот номер не пройдет. Если тебе в самом деле моя расположенность кажется подозрительной, не звони мне больше, ты мне ни для чего не нужен.
Он стоял и качался, но в пределах безопасной амплитуды.
– И не качайся, не делай вид, что ты в отключке. Ты все видишь, все понимаешь, все помнишь, запомнишь и это.
Я ушел, тихо прикрывши дверь.
Я ожидал, что он уйдет в долгий запой, но на следующее утро он позвонил в своей обычной, «обкомовской» манере:
– Привет. Максимов. Как дела?
– Никак.
– Мне кажется, у нас вчера был какойто разговор. Я не очень помню.
– Да нет, – сказал я определенно, – ты помнишь очень хорошо.
– Ну, ты понимаешь, я же был… Это же понятно. В таком состоянии…
– Ты со мной ни в каком состоянии так говорить не будешь, – сказал я и положил трубку.
После описанного разговора Максимов окончательно погрузился в запой, а потом проявил некоторые усилия, чтобы восстановить отношения. И никогда подобных намеков больше себе не позволял, кроме одного случая, но это было много позже – в 1989 году.
Андрей Сахаров и Елена БоннэрВсе время, начиная с лета 1971 года до осени 73го, я ни в каких общественных делах не участвовал, писем не подписывал, даже когда очень хотелось, вел себя тихо. Несмотря на нажим Максимова и призывы других диссидентов. Я с большим уважением относился к правозащитникам и не оставался равнодушным к их призывам, но у меня еще было дело, на которое Максимову, или Баевой, или кому еще было совершенно наплевать. Этим делом были мои литературные замыслы и амбиции, которые судьба давала мне шанс осуществить и чем я не имел права жертвовать. Есть чувство гражданского долга, есть семья и есть призвание. И о долге нельзя забывать, и с семьей нельзя не считаться, но и призванием пренебречь неразумно. Елена Боннэр потом меня косвенно упрекала, что я не был достаточно диссидентом. Да, я не был достаточно диссидентом, то есть только диссидентом, но я был им больше, чем достаточно, потому что, громко говоря, борьбе за правду я отдал немало времени, сил и здоровья. Я уже говорил, что мне было важно один раз показать, где я стою, на какой стороне, как отношусь к государству и его жертвам.
Весной 1973 года состоялось мое личное знакомство с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Мир услышал о нем за пять лет до того – после выхода его сочинения «Размышления о мире, прогрессе и мирном сосуществовании». А я это имя узнал еще раньше, в начале 60х. Я сидел в редакции «Науки и религии», в кабинете Камила и в ожидании его, куда-то вышедшего, листал лежавший на столе справочник Академии наук СССР. Все действительные академики, а может быть, и членыкорреспонденты были помещены в этой книге, указывались их фамилии, именаотчества, должности, адреса и телефоны – домашние и служебные. Помню, я удивился, узнав, что у академика Шолохова есть два адреса – в станице Вешенской и московский, который не значился, например, в справочнике Союза писателей. Исключительно ради любопытства стал я выискивать разные известные мне имена и вдруг увидел, что, оказывается, адреса и телефоны не всех академиков здесь обозначены. Например, против фамилии «Микулин» не было ни одного адреса и ни одного телефона, там стояли только загадочные три буквы «ОТН». И все. Поскольку я знал, что Микулин – известный конструктор авиационных двигателей, я подумал, что, наверное, он так сильно засекречен, потому что имеет дело с ракетами, и, значит, самые секретные академики – это те, у которых нет адресов и телефонов. Для проверки нашел Королева (все знали, что он самый секретный), против этой фамилии стояли те же три загадочные буквы. Ага, сказал я себе самому, сейчас мы вычислим самых секретных. Стал листать справочник дальше и дошел до неизвестного мне имени: САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – ОЯФ. ОЯФ выглядела еще более загадочной аббревиатурой, чем ОТН, может быть, поэтому и сам Сахаров показался более загадочным, чем другие. (Потом я выяснил, что ОТН расшифровывается как «отделение технических наук», а ОЯФ – «отделение ядерной физики».)
Еще через какое-то время я спросил знакомого физика Владимира Захарова, кто такой Сахаров. Володя объяснил мне, что Сахаров изобрел водородную бомбу, что он гений и, как все гении, слегка чудаковат, например, сам ходит в магазин за молоком. То есть не совсем сам, его постоянно сопровождают несколько «секретарей» (так на специальном жаргоне называют телохранителей), которые держат в карманах руки, а в руках пистолеты со снятыми предохранителями. Этим «секретарям» спокойнее было бы бегать за молоком самим, но гению, создавшему водородную бомбу, почему бы и не почудить? В рамках, допускаемых специальной инструкцией.
В 1968 году Сахаров стал знаменит и легендарен, и некоторые из моих знакомых знали его лично, мне же встречаться с ним не приходилось, а идти знакомиться специально, чтобы «выразить восхищение» или «пожать руку», я не умею (и не люблю, когда ктонибудь с подобной целью приходит ко мне).
Личное знакомство произошло в Театре на Таганке, где давали премьеру чегото. Как всегда на премьерах этого театра, было очень много важных людей, включая упомянутого выше члена Политбюро Дмитрия Полянского. Сейчас этого человека мало кто помнит, а тогда из-за него перекрыли чуть ли не весь квартал, и мне пришлось оставить мой «Запорожец» где-то на дальних подступах. Одним из довольно важных стал к тому времени и Владимир Максимов, хотя движение ради него не перекрывали. Я наткнулся на него в антракте в фойе, где он стоял с каким-то высоким и сутуловатым человеком и предложил мне познакомиться. Мы пожали друг другу руки, я пробурчал свою фамилию, высокий свою, я, ее не расслышав, сказал пару слов о спектакле и отошел. Спектакль был утренний, потом у меня были еще какието дела, а вечером – гости, и, только ложась спать, я вспомнил театр, людей, которых там встретил, Полянского, Максимова и его собеседника. Чтото в нем было странное, чемто он отличался ото всех остальных, чтото было в нем такое… Да это же Сахаров! – вдруг понял я.
А как же я догадался? Я знал, конечно, что Максимов знаком с Сахаровым, но мало ли с кем он знаком. А ведь Сахаров ничего мне такого особенного не сообщил, не высказал никаких гениальных мыслей, только пробурчал фамилию, которую я не расслышал. Почему же я теперь понял, что это он?
Объясняю: потому что на нем был отпечаток очень незаурядной личности. Мне приходилось встречать в жизни нескольких выдающихся людей. И я берусь утверждать, что у многих действительно значительных личностей есть в лице чтото такое, что выделяет их из общей среды. Так с первого взгляда, как я уже писал, я воспринял в свое время Александра Володина и Булата Окуджаву.
На другой день после спектакля я позвонил Максимову, чтобы проверить свою догадку.
– Что же ты, – сказал он с упреком, – сразу повернулся и пошел. Андрей Дмитриевич был очень удивлен.
Мне стало ужасно неловко. Положение Андрея Дмитриевича уже было такое, что многие опасались с ним общаться, а мне быть в их числе не хотелось.
Короче говоря, я воспользовался первым предлогом, позвонил, был приглашен и явился. Встретили меня очень приветливо. Сахаров, поздоровавшись, вышел в другую комнату, а Елена Георгиевна Боннэр, или, как называли ее более или менее близкие люди, Люся, усадила меня перед собой и стала расспрашивать обо мне, моих друзьях и пристрастиях, нащупывая общие интересы и совпадения во взглядах. И все было замечательно, пока не прозвучал вопрос, как я отношусь к Владимиру Максимову, правда ли он замечательный писатель. Я еще не знал, что на задаваемые в определенном тоне вопросы надо отвечать быстро, не задумываясь, утвердительно. Я думал, что собеседницу, не профессионалку в литературе, интересует личное мнение профессионала, и на вопрос, правда ли замечательный, ответил, как думал, что неплохой.
И тут в глазах собеседницы полыхнуло гневное пламя, и мне было сказано то, что я должен был запомнить сразу и навсегда:
– Володя Максимов прекрасный писатель!
Это была первая кошка, которая между нами пробежала. Тем не менее после этой встречи состоялись еще многие другие. С Сахаровыми я регулярно общался до самой высылки их в Горький, а с Люсей доводилось встречаться и позже. И почти каждый раз я ей каким-то своим высказыванием или поступком не угождал. Что меня, правду сказать, иногда обескураживало.
В обширных мемуарах Сахарова я нигде никак не упоминаюсь, хотя был свидетелем и даже в какойто мере участником некоторых важных событий в его жизни. Первым было нападение 22 октября того же 1973 года на него мнимых арабских террористов из палестинской организации «Черный сентябрь». На самом деле ни у кого не было сомнений, что этих террористов изображали агенты КГБ. Два человека явились к Сахаровым средь бела дня, перерезали телефонный провод и, угрожая Сахарову смертью, предложили ему изменить его мнение по палестинскому вопросу. После чего, напомнив ему, что у него есть дети и внук, удалились. Едва услышав о нападении по «Голосу Америки», я немедленно приехал к Сахарову и на своих недавно купленных «Жигулях» отвез Андрея Дмитриевича, Люсю и Сергея Ковалева в отделение милиции, где Сахаров оставил соответствующее заявление. В 1975 году я вместе с Львом Копелевым доставил Сахарову сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Сахаров был в это время у Юрия Тувина в новой квартире без телефона, и новость узнал от нас. Премию за него получала в Осло Люся и о подробностях сообщала ему, оставшемуся в Москве. Поскольку его собственный телефон в то время был отключен, а мой еще работал, Сахаров вечерами сидел у меня и ждал звонков от жены. (Приезжал он, между прочим, на метро, которым, как трижды Герой Соцтруда, пользовался бесплатно.)
Когда в травле Сахарова приняли активное участие его коллеги – 72 члена Академии наук СССР подписали письмо, полное гнусных обвинений и клеветы, – я написал им резкий ответ и напечатал его в западных газетах.
В восьмидесятом году я не мог не откликнуться на высылку Сахарова в Горький, и именно этот отклик был воспринят как последняя капля в терпении советской власти, но об этом позже.
Надежды и реальностьЛето 1973 года я провел в борьбе с Иванько, пытавшимся отнять у меня квартиру (вся история описана в отдельной книге «Иванькиада»), после чего мы с Ирой сняли дачу в освоенной нами раньше деревне Веледниково в районе ПетроваДальнего.
Ира была изящно беременна. Изящно в том смысле, что живот ее представлял собой небольшую выпуклость, но при этом не было на лице обезображивающих его толстых губ и сопутствующих беременности пигментных пятен. До беременности у нас бывали какието сложности и конфликты, но во время – восстановилась полная идиллия. Она была тиха, покладиста, ласкова, а я смотрел на нее, и она, беременная, вызывала во мне такое горячее чувство, какое я испытывал, когда мы были любовниками. Я вообщето бываю сдержан в выражении своих чувств, даже общаясь с самим собой, а тут смотрел и думал: как я ее люблю! И с этим чувством совпадало желание: очень хотелось надеяться на спокойную и благополучную жизнь. И для этого были как будто бы предпосылки.
Только что удалось отбиться от Иванько и отстоять квартиру. Вышедшие книги, восстановленные спектакли, предложения киностудий обещали мне устойчивый материальный достаток. Но я понимал, что надежды мои иллюзорны, что мира с государством у меня не будет. Войны не избежать, но к ней надо подготовиться. Первые диссидентские поступки показали мне, что действовал я слишком нерасчетливо и глупо. Если уж поднимать восстание, то надо надлежащим образом вооружиться и лучше себя защищать. Для диссидента тех времен главной защитой и главным фактором, увеличивающим его роль в движении, была его известность. Роль того же Сахарова не была бы столь значительной, если бы за его спиной не было не только крупных научных достижений, но и государственного признания заслуг, академического звания и трех звезд Героя Социалистического Труда. У меня шансов достичь таких высот не было, но и мои собственные задачи были скромнее. И все-таки я укрепил свое положение тем, что напечатал две книги, передал на Запад первую книгу «Чонкина» (о чем еще расскажу) и почти закончил вторую книгу, получил квартиру, которая, я надеялся, останется моей семье, если со мной чтото случится. Я готовился объявить, что не собираюсь считаться с ужесточенными властью советскими правилами поведения и издание «Чонкина», которое последует, будет осуществлено с полного моего одобрения. Тем самым я готов был бросить вызов власти и подвергнуться риску повторить судьбу Синявского и Даниэля, но в то же время при этом надеялся, что эта публикация сделает меня более известным и в какойто степени менее уязвимым.
Со штатом охранников и овчарокТем временем власть совершала все больше движений, которые возмущали общество и меня лично. В сентябре было объявлено о присоединении Советского Союза к Женевской конвенции по авторскому праву и создании общественной организации – Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП вместо ВУОАПа). Агентство, по замыслу его составителей, должно было осуществлять полный контроль над зарубежными публикациями книг советских авторов. До присоединения к конвенции права советских авторов за границей не были никак защищены, любое западное издательство могло взять любую книгу или рукопись советского автора, напечатать, а платить или не платить гонорар – это зависело от доброй воли издателя. Но эта же правовая незащищенность советского автора была его защитой, когда он говорил (как в моем случае), что рукопись опубликована без его согласия. Теперь ни одно западное издательство не могло игнорировать права автора, не могло печатать его без его разрешения, но он, в свою очередь, лишался возможности утверждать, что публикация произошла без его ведома.
ВААП обещало защищать права авторов, но на самом деле это была не защита, а полный контроль и присвоение прав авторов этим агентством. ВААП готово было печатать на Западе только авторов, угодных власти, и на грабительских условиях. В интервью, данном «Литературной газете» председателем новой организации Борисом Панкиным, было прямо сказано, что в Советском Союзе существует монополия на внешнюю торговлю и писатель, продавший рукопись за границу самостоятельно, будет считаться нарушителем этой торговли, контрабандистом и уголовным преступником.
Эти угрозы относились и ко мне лично. Я уже коечто передал на Запад и собирался передавать дальше, никого не спрашивая. Я письмом Панкина воспользовался как сигналом к собственному восстанию. В то время диссиденты бомбардировали советские правительственные и партийные органы обычно гневными письмами. А я для себя избрал другой жанр – иронию, который продемонстрировал в письме Панкину от 5 октября 1973 года (Приложение № 1).
В тот же день, 5 октября, родилась моя младшая дочь Ольга.
Чем я платил за свои «Жигули»Отправив Иру в роддом, я не только написал и передал западным корреспондентам письмо против ВААП, но и продолжил свои усилия по укреплению своих новых позиций. Первым делом я хотел передать на Запад первую книгу «Чонкина». Знакомых иностранцев, через которых я мог это сделать, у меня не было, но они появились у Эммы Манделя (Наума Коржавина). Я ему сказал о своей проблеме, он предложил мне вечером приехать к нему, у него будет человек, который мне поможет. Я приехал. На кухне было много народу. Люди, привыкшие к просторному жилью, не могут даже представить, как много людей может поместиться на кухне за маленьким раскладным столом, уставленным простой выпивкой и закуской. За столом был обычный для таких посиделок страшный галдеж, который поначалу мне показался совершенно сумбурным, потом я разобрал, что спор идет исторический, чем была хороша или плоха царская власть и стоило ли ее сокрушать. Главной спорщицей была молодая женщина, Адель Найденович, которая, как я понял, была уже диссидентка со стажем, в шестидесятых годах «оттянула» свой срок в лагере, но от убеждений своих не отказалась. И сейчас она занималась чемто таким, что вполне могло привести к новому сроку. Только что, побывав на допросе у следователя, рассказывала, как резко она ему отвечала и как он был разочарован, что ничего от нее добиться не смог. Все слушали ее с большим почтением. Большинство из собравшихся в лагерях еще не сидели и испытывали к ней уважение, с каким когда-то люди, оставшиеся в тылу, относились к заслуженным фронтовикам. От рассказа о допросе в Лефортово разговор легко перекинулся в историю, и та же дамочка, не стесняясь приблизительности своих знаний в данном вопросе, стала утверждать, что царская власть была вполне гуманной. Николай Павлович (так почтительно она называла Николая Первого) был хорошим и добрым царем, покровительствовал Пушкину, и шеф жандармов Бенкендорф тоже был к Пушкину милостив. Отвлекшись на время от спора, Эмма познакомил меня с совсем еще молодым (ему было двадцать три года) переводчиком из итальянского посольства Марио Корти. Мы с Марио удалились в спальню, где он без разговоров взял у меня рукопись. Вернулись в кухню, где разговор перешел уже к периоду следующего царствования, к убийству Александра Второго. В связи с этим событием были упомянуты народовольцы и Софья Перовская.
На это упоминание Найденович отреагировала яростно:
– Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками.
Тут я не удержался и сказал:
– Вы на себя наговариваете. Перовскую вы бы душить не стали.
Найденович возбудилась еще больше.
– Я? Ее? Эту сволочь? Которая царябатюшку бомбой… Клянусь, задушила бы, не колеблясь.
– Да что вы! – сказал я. – Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душить Перовскую, а наоборот, вместе с ней кидали бы в батюшкуцаря бомбы.
Она ожидала любого возражения, но не такого.
– Я? В царябатюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?
– Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царябатюшку бомбы. А уж вы с вашим характером непременно оказались бы среди бомбистов.
Через какое-то время я засобирался домой. Эмма спросил меня, не смогу ли я взять с собой Марио и Адель, довезти его до итальянского посольства, а ее до ближайшего метро. Было темно, холодно и снежно. По пустырям еще не вполне застроенного ЮгоЗапада гуляла поземка и заносила снегом и без того плохо видимую обледеневшую дорогу. Адель села рядом со мной, Марио устроился на заднем сиденье. Сначала ехали молча, потом Адель неожиданно спросила:
– И сколько вы заплатили за вашу машину?
Я понял суть вопроса, но сделал вид, что не понял, и сказал, что эта машина стоит пять с половиной тысяч рублей.
– Я не это имею в виду, – сказала Адель. – Я имею в виду, сколько вы заплатили своей совестью.
Я затормозил, но не резко. На скользкой дороге резко тормозить не следует.
Повернулся к пассажирке.
– Если я заплатил своей совестью, то вам с вашими непримиримыми убеждениями должно быть совестно ехать в моей машине. Вы можете выйти.
Была пурга. Слева и справа пустыри, а что за ними, не видно.
Найденович присмирела.
– А как вы думаете, – спросила неуверенно, – здесь далеко метро?
– Не знаю, – сказал я. – Спросите когонибудь. Если его найдете.
Она молчала, возможно, думала, как ей поступить. В машине тепло и уютно, а снаружи жуть что творится.
Она помолчала, и я помолчал.
А потом сказал:
– Ну ладно, поедем дальше.
Года через три я ее встретил на какойто диссидентской тусовке. Она сама подошла ко мне со словами:
– Я большая ваша поклонница и очень люблю этого вашего Тёмкина.








