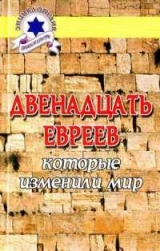
Текст книги "Двенадцать евреев, которые изменили мир"
Автор книги: Владимир Шевелев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Волков. Это тот Лернер, который в ноябре 1963 года написал в ленинградской газете направленный против вас фельетон «Окололитературный трутень»?
Бродский. Да, у него были давние «литературные» интересы. Но в тот момент главная его деятельность заключалась в том, что он руководил народной дружиной. Вы знаете, что такое была народная дружина? Это придумали такую мелкую форму фашизации населения, молодых людей особенно.
Волков. Я знаю. У меня даже был один знакомый дружинник, редкостный идиот.
Бродский. Главной сферой деятельности этой дружины была гостиница «Европейская», где останавливалось много иностранцев. Как вы знаете, она расположена на улице Исаака Бродского, так что, может быть, это господин стал проявлять ко мне интерес именно из этих соображений? Охотились они главным образом за фрицами. И, между прочим, когда эти дружинники фарцовщиков шмонали, многое у них прилипало к рукам – и деньги, и иконы. Но это неважно...
Далее Бродский вспомнил дело У майского, с которым он тогда был хорошо знаком, и свою идею угнать самолет и улететь в Афганистан.
Волков. А когда на вас все это свалилось – третий арест, процесс, – как вы все это восприняли: как бедствие, как поединок, как возможность выйти на конфронтацию с властью?
Бродский. На этот вопрос очень трудно отвечать, потому что трудно не поддаться искушению интерпретировать прошлое с сегодняшних позиций. С другой стороны, у меня есть основания думать, что именно в этом аспекте особенной разницы между моими ощущениями тогда и сейчас нет. То есть я лично этой разниць! не замечаю. И я могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью.
Волков. Неужели вы не боялись?
Бродский. Вы знаете, когда меня арестовали в первый раз, я был сильно напуган. Ведь нас берут обыкновенно довольно рано, часов в шесть утра, когда вы только из кроватки, тепленький, и у вас низкий защитный рефлекс. И, конечно, я сильно испугался. Ну представьте себе: вас привозят в Большой дом, допрашивают, после допроса ведут в камеру. (Подождите, Соломон, я сейчас возьму сигарету.) <... >
Волков. А как менялись ваши эмоции от первой к третьей посадке?
Бродский. Ну, когда меня вводили в «Кресты» в первый раз, то я был в панике. В состоянии, близком к истерике. Но я как бы ничем этой паники не продемонстрировал, не выдал себя. Во второй раз уже никаких особых эмоций не было, просто я узнавал знакомые места. Ну, а в третий раз это уж была абсолютная инерция. Все-таки самое неприятное – это арест. Точнее, сам процесс ареста, когда вас берут. То время, пока вас обыскивают. Потому что вы еще ни там ни сям. Вам кажется, что вы еще можете вырваться. А когда вы уже оказываетесь внутри тюрьмы, тогда уж все неважно. В конце концов, это та же система, что и на воле.
Волков. Что вы имеете в виду?
Бродский. Видите ли, я в свое время пытался объяснить своим корешам, что тюрьма – это не столь уж альтернативная реальность, чтобы так ее опасаться. Жить тихо, держать язык за зубами – и все это из-за боязни тюрьмы? Бояться-то особенно нечего. Может быть, мы этого ничего уже не бздели потому, что мы были другое поколение? Может быть, у нас порог страха был немножечко ниже, да?
Волков. Вы хотите сказать выше?
Бродский. В общем, когда моложе – боишься меньше. Думаешь, что перетерпеть можешь больше. И потому перспектива потери свободы не так уж сводит тебя с ума.
После суда и недолгого пребывания в «Крестах» Бродский был отправлен этапом через Вологду в Архангельск. В итоге он обосновался в селе Норенское Коношского района Архангельской области. Позднее поэт с теплотой вспоминал это время, говорил, что вся деревенская публика была совершенно замечательная. Именно в это время – позорного судилища и пересыльных лагерей – Бродский в мае 1964 года написал пронзительные строфы:
Звезда блестит, но ты далека.
Корова мычит, и дух молока мешается с запахами козьей мочи, и громко блеет овца в ночи.
Шнурки башмаков и манжеты брюк, а вовсе не то, что есть вокруг, мешает почувствовать мне наяву себя – младенцем в хлеву.
Суд и ссылка Бродского были крупным событием в 60-е годы. В защиту поэта выступили Корней Чуковский, Самуил Маршак, Анна Ахматова, Константин Паустовский. Ходил слух, что Маршак заплакал, когда узнал о суде над Бродским: «Когда я начинал жить – кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять!» Имя Бродского становится все более известным на Западе. В конце концов на исходе 1965 года ему разрешили вернуться в Ленинград. Тогда же на Западе выходит первая книжка поэта «Сти– хотворения и поэмы».
В Советском Союзе Бродского все эти годы практически не публиковали. С его стихами люди знакомились только через самиздат. В глазах властей поэт оставался антисоветчиком и диссидентом. Сам Бродский все более отчетливо сознавал, что впереди никаких перспектив для него не существует. В конце 60-х – начале 70-х годов он получил несколько вызовов из Израиля, но никак на них не реагировал.
Людмила Штерн в своих мемуарах пишет: «В конце 1971 года Леонид Ильич принял историческое решение – обменивать евреев на зерно. Воздух наполнился эмиграционными флюидами, и многие евреи, как, впрочем, и неевреи, решили в одночасье, что больше в родной стране им жить невмоготу.
На самом деле всем, кто не был открытым диссидентом и не писал упаднических стихов, жить было вполне вмоготу. Конечно, не печатали, и рукописи десятилетиями лежали в столах; конечно, не выпускали за границу; конечно, о творческих свободах в любой сфере искусств нечего было и думать...
Но все же время было сравнительно вегетарианское, а в памяти еще был жив разгул каннибализма.
Это я к тому, что если бы Брежнев не принял исторического решения обменивать евреев на зерно, и возможность вырваться на свободу из недосягаемой мечты не превратилась в реальность, все мы не рыпались бы и жили в родной стране как миленькие.
Но уже с осени 1971 года на кухнях только это и обсуждалось. Вместо гаданья «любит – не любит» в обиход вошло «ехать – не ехать».
В начале 1972 года Бродского пригласили в КГБ и предложили выехать из страны. Известно было, что президент США Ричард Никсон во время своего визита собирался обсуждать с Брежневым судьбу советских диссидентов, в том числе Иосифа Бродского. Видимо, от Бродского решили избавиться, чтобы не привлекать к нему еще большее внимание».
Утром 4 июня 1972 года, перед выездом в аэропорт Пулково Бродский написал письмо, которое как бы подвело предварительные итоги его жизни в России:
«Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому.
Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.
Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта. От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемыми праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать дело. Условия сушествования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.
Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. В любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему пригодится».
Бродскому разрешили эмигрировать в Израиль. Однако в Вене его встретил Карл Проффер, профессор русской литературы из Мичиганского университета, специально прилетевший в австрийскую столицу, и пригласил его в США. Вскоре после прибытия Бродского в Америку в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано его большое эссе, где содержались многие мысли, изложенным в письме к Брежневу. Бродский писал: «Возможности сострадания чрезвычайно ограничены, они сильно уступают возможностям зла. Я не верю в спасателей человечества, не верю в конгрессы, не верю в резолюции, осуждающие зверства. Это все лишь сотрясение эфира, всего лишь форма уклонения от личной ответствейности, от чувства, что ты жив, а они мертвы... Если уж устраивать съезды и принимать резолюции, то первая, которую мы должны принять, это резолюция, что мы все – негодяи, что в каждом из нас сидит убийца, что только случайные обстоятельства избавляют нас от разделения на убийц и на их жертв.
Что следовало бы сделать в первую очередь, так это переписать все учебники истории и выкинуть оттуда всех героев, полководцев, вождей и прочих. Первое, что надо написать в учебниках, – что человек радикально плох».
Так начался новый этап в жизни и творчестве поэта.
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...»
Приехав в Америку, Бродский первые два года провел здесь в одиночестве. Привыкание к новой жизни, к иной культуре происходило медленно и трудно. В 1974 году он стал преподавать в Массачусетсе. Так началась его профессорская карьера.
Бродский преподавал в американских университетах в течение двадцати четырех лет. Начинал он в большом Мичиганском университете, затем преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском, а с 1980 года принял постоянную профессорскую должность в «пяти колледжах» в штате Массачусетс. Преподавательская деятельность стала важной частью его жизни. Каждый год он регулярно появлялся перед студентами и говорил с ними о том, что сам любил больше всего на свете – о поэзии. Его эрудиция была огромна. Чаще всего его курс назывался «Сравнительная поэзия», и если он, к примеру, читал стихи Пушкина, то неизбежно привлекались тексты Овидия или Цветаевой. Он буквально превращал каждое занятие в интеллектуальный пир.
Впрочем, относился он к преподаванию без особого восторга. Бродский любил литературу и умел говорить о ней, но он с трудом принимал жесткое академическое расписание. Раздражало его и невежество многих студентов, их готовность пользоваться заученными формулировками и устоявшимися подходами. Причем это свое раздражение он не скрывал. Про одну особенно неудачную группу он рассказывал: «Я вхожу в класс и говорю: «Опять вы?» – они смеются, думают, что я так шучу». Но любовь к поэзии всегда брала в нем верх.
Александр Батчан, вспоминая Бродского 1982 года, когда тот преподавал в Колумбийском университете, пишет: «В нем чувствовалось почти мистическое отношение к языку, и не только к поэтическому. Ведь в его поэзии барьер между языком поэзии и языком улицы окончательно исчез. Язык для Бродского был первичнее истории, географии, культуры и других факторов, формирующих сознание. Используя марксистский жаргон, можно сказать, что язык для Бродского был «базисом», а библейское «в начале было Слово» он, похоже, воспринимал буквально».
Находясь перед студенческой аудиторией, он думал, размышлял и фантазировал вслух. И всегда ставил перед студентами самые сложные задачи. Один из студентов Бродского позднее вспоминал: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: «Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих двух лет». Далее прилагается список: «Бхагаватгита», «Махабхарата», «Гильгамеш», Ветхий Завет... И еще сто книг. Тридцать из них греческая и латинская классика (трагики, поэты, философы). Далее – Блаженный Августин, Св. Франциск, Св. Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин... Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Челлини... Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор... (но не Кант и не Гегель). Де Токвиль, Де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт... Никакого пристрастия к соотечественникам, в списке только «Бесы» Достоевского, проза Мандельштама и мемуары его вдовы. Из прозы XX века – «Человек без свойств», «Молодой Торлесс», «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, рассказы Притчетта, «Марш Радецкого» Йозефа Рота. Отдельный список 44 поэтов XX века. Он открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого.
Важнейшей темой Бродского был язык. «Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык». Он был буквально одержим языком. Для него и поэзия – это не «лучшие слова в лучшем порядке», но «высшая форма существования языка». Из диалогов с Соломоном Волковым:
«У поэта перед обществом есть только одна обязанность: а именно – писать хорошо. То есть обязанность эта – по отношению к языку. На самом деле, поэт – слуга языка. Он и слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное поэтом принимается людь– ми, то и получается, что они, в итоге, говорят на языке поэта, а не государства... На сегодняшний день русский человек не говорит на языке передовиц. Думаю, и не заговорит. Советская власть торжествовала во всех областях, за исключением одной – речи».
В одном из интервью Бродский утверждал: «Если то, что отличает нас от остального животного царства, – речь, то поэзия – высшая форма речи, наше генетическое отличие от животных. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения, будь то политика, торговля и прочее».
Для литературного критика Владимира Новикова слово Бродского «несет весть о вязкости мироздания». В этом мире даже полет птицы – метафора несвободы: «Он опять // Низвергается. Но как стенка – мяч, // как паденье грешника – снова в веру, // его выталкивает назад». Сравнения Бродского обычны. Они всегда продуманы, мотивированы, даны в лоне культурной традиции, но не являются вызывающе-парадоксальными.
Бродский в своих стихах и эссе не стремится вписаться в уже существующую картину мира, а переосмысливает и переписывает этот мир, по-своему творит его. Для него здесь тоже были образы и авторитеты. Датируя начало своей англоязычной литературной деятельности летом 1977 года, он говорил, что обратился к английскому не «по необходимости, как Конрад», не «из жгучего честолюбия, как Набоков», и не «ради большого отчуждения, как Беккет», – а из стремления очутиться в большой близости к Уистену Хью Одену, – человеку, которого он считал величайшим умом XX столетия. «Есть что-то потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а прежде всего – с языковой неизбежностью», – так Бродский отзывался о поэзии Мандельштама. Неизменно высок был для него и авторитет Марины Цветаевой, которую он ценил выше всех других поэтов.
Вся поэзия Бродского – это философский поиск ответов на вечные вопросы жизни и смерти. Цвет времени – серый, говорил он; но это цвет смерти. Поэт – это существо, стоящее с глазу на глаз не с историей и культурой и даже не с временем и вечностью, а с бытием и небытием, то есть с Богом. Что мы, смертные, знаем о Вечности? Только то, о чем поведали нам поэты. Недаром Бродский написал в своем эссе о поэме Цветаевой «Новогоднее»: «...тот свет достаточно обжит поэтическим воображением». Именно поэма Цветаевой пред оставила Бродскому возможность наслаждаться «высшим», которое он в поэзии ценил превыше всего. По его словам, «Новогоднее», – это встреча поэта «с идеей вечности».
А Вячеслав Иванов так описывает свои впечатления от первого знакомства с «Большой элегией Джону Донну»: «Я помню ту зиму 1964 года, когда написанная двадцатитрехлетним Бродским «Большая элегия Джону Донну» попала в списках в самиздат и стал широко читаться в Москве. Я был дома на пирушке у известного переводчика и замечательного мемуариста Н. М. Любимова. Кто-то из гостей принес эти стихи и прочитал вслух. Общее впечатление было ошеломительным... Мы услышали текст, в котором говорилось о самом главном в человеческом существовании. Списки обыденных предметов со всеми подробностями понадобились для заземления того голоса души спящего поэта, который иначе прозвучал бы слишком уединенно возвышенно. Разговор поэта с Богом, составлявший основное (не всегда явно выраженное) содержание лучшего из того, что было в русской поэзии «серебряного века», продолжился на ноте, прерванной слишком сиюминутными и искусственными настроениями последующих десятилетий».
Валентина Полухина считает, что Бродский в классический треугольник «вещь – человек – дух» добавил «слово». Это позволило ему посмотреть на мироздание под новым углом. Он смотрит на мир с точки зрения Времени. С этой точки зрения иерархическое построение любой философской системы рушится. В этом отношении Бродский дерзок, беспощаден к читателю, к самому себе, к любой вере. Любая философская система, в том числе христианская, создана главным образом для защиты отдельного человека. Но с точки зрения Времени все смертно, и в системе Бродского это отражено в трансформации реального мира в поэтический следующим образом: любой конкретный человек превращается у него в человека вообще. Дожив до того времени, когда человека больше любить нельзя, и брезгуя плыть против общего течения, поэт прячется в перспективу – возникает обобщенный Человек, за которым стоит и Бродский, и читатель, и все человечество. А затем и человек умирает. Сначала он превращается в вещь, потом в символ, в знак (у Бродского идет отождествлеиие, сравнение со словом, буквой, звуком). Следующая ступень абстракции – математическая категория: «Это просто вектор в Ничто». Иметь такую беспощадную, некомфортабельную, неуспокаивающую философию страшно. В этом смысле Бродский поэт очень неудобный, он все время вас беспокоит. Нельзя его читать для того, чтобы быть счастливым. Он тормошит, заставляет думать, додумывать до конца – «до логического конца и дальше».
В его стихах постоянно живет ощущение трагизма существования: смерть, разлуки, катаклизмы, несчастья. Он словно чувствует пределы своего пребывания в этом мире, безысходность человеческого времени. «Мир меня давно не удивляет, – говорит Бродский. – Я думаю, что в нем действует один-единственный закон – умножения зла. По-видимому, и время предназначено для того же самого... Когда мы наблюдаем, в каком направлении все движется, картина получается мрачноватая. Меня при сегодняшних обстоятельствах удивляет только одно: сравнительно частые проявления человеческой порядочности, благородства, если угодно. Потому что ситуация в целом отнюдь не способствует порядочности, не говоря уже о праведности».
Стихи его трагичны. Он как бы избрал трагический метод познания и отображения действительности как основной. Его новаторство еще и в том, что он лучше кого-либо другого ощущал трагичность индивидуального и общественного бытия.
В конце 1979 года, давая интервью Свену Биркертсу, поэт говорил:
«– Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. Когда рациональное вас покидает, на какое-то время вы оказываетесь во власти паники. Но именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе, на стыке рационального и иррационального. По крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили ощутимый след.
Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство: сделай это – получишь то, да? Или и того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божие. Ведь это в сущности антропоморфинизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает...
Мне больше по душе идея своеволия, непредсказуемости. В этом смысле я ближе к иудаизму, чем любой иудей в Израиле.
– Знаете ли вы, что в Бостонском университете ваши стихи входят в список обязательного чтения по курсу «Новейшая европейская литература»?
– От души поздравляю Бостонский университет! – отвечал Бродский. – Не знаю, право, как к этому отнестись. Я очень плохой еврей. Меня в свое время корили в еврейских кругах за то, что я не поддерживаю борьбу евреев за свои права. И за то, что в стихах у меня слишком много евангельских тем.
– Кстати, ваше имя фигурирует в справочнике «Знаменитые евреи».
– Здорово! Вот это да! «Знаменитые евреи»... Я, выходит, знаменитый еврей! Наконец-то я узнал, кто я такой... Запомним!»
О мере соотношения у Бродского «еврейства» и «христианства» написано немало. Одни напрочь отвергают присутствие «еврейского» в его творчестве. Шимон Маркиш пишет: «В этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского «материала» поэт Иосиф Бродский не знает – этот «материал» ему чужой». Он никогда не выступал с литературными вечерами в синагогах. Бродского неоднократно приглашал Еврейский университет в Иерусалиме выступить с лекциями, – тот неизменно отказывался.
Однако когда Бродскому задавали прямой вопрос, еврей ли он, неизменно в ответ звучало «еврей», поскольку его родители были евреями. Бродский считал и называл себя евреем. Но ощущал ли он себя евреем? – таким вопросом задается Людмила Штерн в своих мемуарах. – Чувствовал ли свою причастность, принадлежность к еврейству? Скорее всего, нет. Уже в юности он видел себя «гражданином мира». Более того, у поэта, выросшего в антисемитской стране, был страх, что его могут отождествить с распространенным стереотипом еврея, исторически сложившимся в умах, глазах и душах людей. Но влияние еврейской культуры на Бродского очевидно. Чеслав Милош, например, усматривает тесную связь Бродского с Шестовым и Кьеркегором.
Признанием вклада Бродского в духовную культуру XX столетия явилось присуждение ему в 1987 году Нобелевской премии по литературе. В своей знаменитой Нобелевской лекции Бродский говорил, что жизнь у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Одна из заслуг литературы в том, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно спасти.
«Бессмертия у смерти не прошу...»
Полная драматизма жизнь Иосифа Бродского, совершенный им прорыв в философско-поэтическом осмыслении мира, – все это вызывало нарастающий интерес к личности поэта. Присуждение Бродскому Нобелевской премии означало его всемирное признание. Исключением была Россия. Отечественный читатель не имел возможности знакомиться с его стихами. Российских наград и российских званий Бродский так и не получил.
По существу, его первой публикацией на родине стала подборка стихов в декабрьском номере «Нового мира» в 1987 году. Несколькими месяцами позже поместила стихи Бродского ленинградская «Нева». А в августе 1988 года его стихотворения опубликовали одновременно «Огонек», «Дружба народов», «Юность» и «Литературное обозрение». Так началось приобщение широкого читателя к творчеству Иосифа Бродского.
Между тем в США весной 1991 года Бродскому был присужден титул американского поэта-лауреата. Одновременно это была и должность, которая предусматривала жалованье в 35 тысяч долларов в год, офис в библиотеке Конгресса и некоторые весьма необременительные обязанности. Раньше все было иначе. Первый в истории поэт-лауреат, назначенный в 1619 году английским королем Яковом Первым, получил 200 фунтов стерлингов и бочку испанского вина. За это сей поэт, имя его Бен Джонсон, должен был сочинять стихи к торжественным датам и событиям. В США таковая должность-звание появилась в 1985 году, поэтому у Бродского было лишь четыре предшественника – Роберт Пенн Уоррен, Ричард Уилбур, Говард Немеров, Марк Стрэнд. Свое лауреатство они воспринимали как очередное почетное звание.
Иначе повел себя Бродский. В октябре 1991 года, на пятом месяце лауреатства, он выступил в библиотеке Конгресса с программной речью, озаглавив ее «Нескромное предложение». Предложение Бродского сводилось к тому, чтобы резко увеличить тиражи поэтических сборников и расширить их распространение, продавая, в частности, в супермаркетах и в аптеках, поскольку в Америке существует давняя традиция торговать книгами и в таких местах, а не только в книжных магазинах. Только теперь на этих полках рядом с обычным набором любовных романов и приключенческих боевиков должны встать столь же дешевые и доступные сборники стихов.
Бродский разворачивает свой проект со всей основательностью, начиная с исторического экскурса. На протяжении истории поэтическая аудитория не превышала одного процента по отношению ко всему населению. Подобный расчет покоится не на специальном исследовании, но принимает во внимание духовный климат мира, нами обитаемого. В общем, состояние этой погоды всегда было более или менее одинаково. Во всяком случае, ни греческая или римская античность, ни прославленный Ренессанс, ни Просвещение не оставляют впечатления, что поэзия управляла огромными аудиториями, не говоря уж о легионах и батальонах.
Поэты льстили покровителям и стекались ко двору, подобно тому, как теперь они стекаются в университет. Прежде всего, обуреваемые надеждой на благодеяния, но не менее таковой – тягой к слушателю. Поскольку грамотность была привилегией немногих, где еще мог поэт встретить сочувственный слух и внимательный взгляд? Средоточие власти часто оказывалось и средоточием культуры, кормили там лучше, да и компания выглядела менее бесцветной и более чуткой, нежели в других местах.
Прошли века. Центры власти и центры культуры разделились. Этим вы расплачиваетесь за демократию – народную власть народа для народа, коего лишь один процент читает стихи. Если у современного поэта и есть нечто общее с собратом по перу эпохи Возрождения – это мизерное распространение его трудов.
Далее Иосиф Бродский переходит к конкретной теме своего доклада.
«Коль скоро я в этом году нахожусь на жалованье библиотеки Конгресса, то соответствующим образом отношусь к своей работе как к общественно полезной деятельности. Вот это слуга общества в вашем покорном слуге и склонен счесть показатель в один процент возмутительным и скандальным, чтоб не сказать – трагичным.
Стандартный тираж первого или второго сборника американского поэта – от двух до десяти тысяч экземпляров. Последняя попавшаяся мне на глаза перепись определяет население Соединенных Штатов в 250 миллионов или около того. Сказанное означает, что издательства рассчитывают лишь на одну тысячную процента всего населения. Что до меня, это абсурд».
Бродский считает, что тиражи поэтических сборников в США должны быть по два с половиной миллиона экземпляров.
И далее Бродский говорит о высоком авторитете и статусе поэзии США:
«Американская поэзия суть главное достояние страны. Количество стихов, на берегах этих в последние полтора века сложенных, превосходит представительства прочих видов литературы, равно как джаза и кинематографа, чрезвычайно почитаемых во всем мире. Смею сказать, то же самое относится и к качеству.
Стихи эти одушевлены пафосом личной ответственности. Нет ничего более чуждого американской поэзии, чем все эти знаменитые европеизмы: чувствительность жертвы с ее вращающимся на 360 градусов обвинительным перстом, возвышенная невразумительность, Прометеевы претензии и слепая убежденность.
Американская поэзия – совершенно замечательное явление. Много лет назад я принес Анне Ахматовой несколько стихотворений Роберта Фроста и через несколько дней спросил о ее мнении. «Что это за поэт? – сказала она с притворным негодованием. – Он все время говорит о том, как продают и покупают! О страховках и тому подобном!» И после паузы добавила: «Какой ужасающий господин».
Замечательно выбранный эпитет отражает различные позиции Фроста и традиционно трагической позы поэта в словесности европейской и русской. Дело в том, что трагедия – всегда свершившийся факт, взгляд в прошлое, тогда как ужас связан с будущим и с пониманием, или умением сказать, распознаванием собственного негативного потенциала.
Я бы сказал, что вышеупомянутый «ужасающий аспект» – чрезвычайно сильная сторона Фроста и всей американской изящной словесности вообще. Поэзия, по определению искусство глубоко индивидуалистическое, и в этом смысле Америка – логичное поэзии местопребывание.
На мой взгляд, равно как и на слух, американская поэзия суть неуклонная и неустанная проповедь человеческой автономии. Если угодно – песнь атома, не поддающегося цепной реакции. Ее общий тон определяем упругостью и силой духа, пристальным взглядом в упор, встречающим худшее, не мигая. Она в самом деле держит глаза открытыми – не столько в изумлении или в ожидании откровения, сколько настороже ввиду опасности. В ней весьма немного утешительства (к чему столь склонна поэзия европейская, в особенности русская); она богата и чрезвычайно красочна в деталях; не отягощена ностальгией по некоему золотому веку; воодушевлена стойкостью и стремлением вырваться, верней – прорваться. Понадобись американской поэзии девиз, я предложил бы строку Фроста: “И лучший выход – только напрямик”».
Реакцией на предложения Бродского было изумление. Он что, всерьез?! Однако скептическое отношение к его идее поэта не смутило; он продолжал настаивать на своем. И вот первый результат – к началу 1994 года более двенадцати тысяч поэтических книг были размещены в нескольких сотнях американских отелей.
Важным событием в культурной жизни стала публикация бесед Иосифа Бродского с Соломоном Волковым – плод многолетней совместной работы. «Диалоги» состояли как бы из двух культурных слоев; один – интеллектуально-философский: беседы об Одене, Цветаевой, Фросте; другой – автобиографический. Для нас в данном случае важен именно этот слой. И здесь отчетливо просматриваются отношение зрелого Бродского к событиям своей прошлой жизни. Из всего хода его воспоминаний видно, что он категорически против того, чтобы события осени 1963 года – весны 1964 годов рассматривались как определяющие в его судьбе. Понять его можно: к этому времени Бродский уже был состоявшимся поэтом, и вне зависимости от того, были бы травля и суд, или нет, он все равно остался бы в русской и мировой культуре. В данном случае Бродский воспроизводит прошлое как художественный текст, отсекая все лишнее, по-своему конструируя ситуацию. Недаром в «Диалогах» Бродский говорит: «У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого». Это, возможно, значило и то, что у каждого из нас есть своя интерпретация прошлого.








