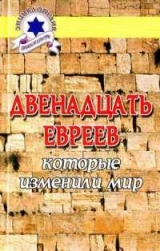
Текст книги "Двенадцать евреев, которые изменили мир"
Автор книги: Владимир Шевелев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
В письмах к Лидочке Смирновой Дунаевский был страстным, нежным и откровенным, как, наверное, ни с кем другим. «Ты должна знать все, все мое, что рождается во мне, что живет, дышит, хорошее это или плохое. И я только хочу призвать тебя делать то же самое. В человеке все-таки всегда, как он ни откровенен, остается кусочек секрета, уголочек души, который он никому не раскрывает, а я вот смело хочу, чтобы и этот уголочек у нас был раскрыт друг для друга. Может, это утопия, фантазерство, но я этого хочу и буду к этому стремиться. Настанет день, когда наши отношения окрепнут настолько, что не будет надобности закрывать этот уголочек от взоров любимого».
Наверное, биограф композитора Д. Минченок прав, когда пишет, что разлука их странным образом сближала. В письмах они были немного более откровенны, как две самые близкие и доверчивые души. «Я не ошибусь, если скажу, что мы, вероятно, все время находимся в процессе глубокого познавания друг друга. Разлука этому мешает и помогает. Ведь ты согласишься со мной, что любить – это же не значит только тяжело и страстно дышать при виде друг друга, говорить сплошные нежности и так далее. Любить – это значит учиться жизни, познавать человека, его душу, малейшие поступки».
В письмах к ней Дунаевский превращается в тонко чувствующего поэта любви: «Люблю тебя свято и страстно, чисто и греховно, нежно и требовательно, ревниво и доверчиво. Люблю, как солнце любит горы, как волны любят море, как звезды любят небо». Но роман их был непродолжителен. Однажды Дунаевский предложил ей стать его женой. Смирнова ответила: «Нет». Композитор затаил обиду и вскоре разорвал с ней отношения.
В 1944 году у Дунаевского во время поездки по Сибири и Дальнему Востоку возник роман с двадцатилетней очаровательной танцовщицей из его ансамбля Зоей Пашковой, которая в январе 1945 года родила ему сына Максима, будущего известного композитора. Однако Дунаевский не мог дать сыну ни отчества, ни фамилии, поскольку по тогдашнему законодательству это было бы официальным признанием двоебрачия.
Драма жизни и творчества
В 1941—1945 годах за музыку к кинофильмам Дунаевский не брался. Завистники злорадствовали: «Иссяк Осипович». А он метался по стране со своим Ансамблем песни и пляски железнодорожников. Григорий Александров и другие киношники в это время находились в эвакуации в Алма-Ате. После войны, в 1946 году, Александров собрался ставить «Весну» и пригласил Дунаевского написать к фильму музыку.
Картину снимали в Праге. Дунаевский впервые оказался за границей. Но это пребывание «за кордоном» стало, по выражению самого композитора, началом его падения. Он допустил две серьезные оплошности: во-первых, дал интервью пражской газете, настроенной не очень дружественно в отношении СССР, во-вторых, не испросил разрешения на это интервью в советском посольстве. Вскоре Сталин лично вычеркнул его из списка представленных на присуждение Сталинской премии за оперетту «Вольный ветер». Затем его вывели из состава Сталинского комитета по присуждению премий, где он состоял шесть лет. Наконец, Александров заказал музыку к кинофильму «Встреча на Эльбе» не ему, а Дмитрию Шостаковичу. Для Дунаевского наступило время разочарований.
В его письмах зачастую звучит боль человека, оскорбленного безразличием и невниманием. В феврале 1950 года он с горечью пишет одной из своих почитательниц: «Почему советская пресса ни одной строчкой не обмолвилась о моем пятидесятилетии – юбилее композитора, который, как гласили приветствия, «является запевалой советского народа»? Что это такое? Кто ответит мне на это? Невоспитанность? Хамство? Сознательное и преднамеренное нежелание афишировать непомерно популярного художника? Я глотаю эту обиду, как глотал обиды много раз за последние годы».
В последние годы жизни у Исаака Осиповича все чаще стали болеть ноги – тромбофлебит. Сдавало сердце, хотя он никому в этом не признавался. В письмах своим «возлюбленным на расстоянии» он как бы подбадривал самого себя: «Но мне хочется сказать вам, что я остался прежним. И хоть годы старят человека, но говорят, что мои глаза горят по-прежнему молодым блеском. Вам я скажу, что во мне в полной мере осталась любовь моя к Жизни, к Солнцу, к тем людям, которые хотя бы капельку берут от Солнца и света». Резко отрицательно на состояние здоровья композитора повлияло и то, что случилось с его сыном.
7 ноября 1951 года Женя Дунаевский, тогда студент первого курса ВГИКа, пригласил на дачу несколько приятелей отметить праздник. Родители были в городе, и молодые люди развлекались одни. Ночью, когда Женя уже спал, двое его пьяных приятелей со своими девушками без спросу сели в машину Евгения и решили прокатиться. Машина на обледеневшей дороге перевернулась, и сидевшая за рулем девушка погибла. Уголовное дело не стали возбуждать за отсутствием состава преступления. Но жизнь отца и сына превратилась в кошмар.
Во ВГИКе устроили показательное исключение Евгения. Закрутилась машина лжи и сплетен. Дунаевский обращался в разные вышестоящие инстанции, но все было бесполезно. В одном из писем он писал: «Все начальники были как заведенные куклы, как механические ваньки-встаньки, при моем появлении с дежурной улыбкой вскакивающие, а после ухода брезгливо морщившиеся. Каждый человек был в отдельной клетке, а все клетки – в одной большой. И это проявлялось уже не в одиночном чувстве страха, а в общей беспомощности».
В его поздних песнях все чаще звучит грусть, мысль о безвозвратных потерях. А в одном из писем он признается: «С каждым годом становится все труднее. Жизнь проходит». В это время Дунаевский особенно нуждается в человеческом участии и находит его в авторских встречах, где обычно рассказывает о себе. Когда началось «дело врачей», был арестован его двоюродный брат, известный врач-уролог Лев Дунаевский. Тогда сам композитор каждую ночь ожидал ареста. А в прессе появились инспирированные кремлевскими идеологами нападки на его музыкальные произведения.
Утром 9 июня 1955 года Дунаевский не смог встать с постели – не слушалась правая нога. Он решил, что это паралич, но вызванные домой врачи установили разрушение внутренних стенок артерий. После недолгого лечения ему стало лучше. В июле он совершил гастрольную поездку в Ригу: играл, дирижировал оркестром. Удалось немного отдохнуть и подлечиться. Здесь он встретился со своей давней любовью – актрисой Лидией Смирновой. Когда возвращался домой в Москву, в поезде ему стало плохо, пришлось принимать валидол.
В это лето его сын Евгений заканчивал художественный институт имени Сурикова, куда поступил после исключения из ВГИКа. На преддипломную практику он получил не совсем обычное задание: вместе с приятелем они должны были пройти на ледоколе по Северному Ледовитому океану и отобразить жизнь моряков ледокола. 25 июля судно затерло во льдах Арктики. А в Москве в этот день в полдень Дунаевский закончил писать письмо одной из своих многочисленных поклонниц. Вдруг у него закололо сердце. Домработница баба Нита, готовившая на кухне обед, услышала его шаги, затем – сильный шум. Войдя в комнату, она увидела лежащего на полу Дунаевского. Машины, чтобы отвезти его в больницу, не оказалось – жена Зинаида Сергеевна поехала с шофером за покупками. Когда через полчаса прибыла «скорая», он был мертв – остановилось сердце.
Евгений получил телеграмму о смерти отца на следующий день. До Москвы он сумел добраться лишь через две недели. То, что Евгения не было на похоронах композитора, отметили все. А раз сына нет на похоронах, раз он находится где-то на Севере, следовательно, отбывает срок. Ходил даже слух, что его расстреляли.
Похоронили Исаака Осиповича на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Булгакова, с которым он дружил. По просьбе Евгения надгробный памятник отцу согласился соорудить его студенческий товарищ по Суриковскому институту Эрнст Неизвестный, но власти воспротивились и проект остался неосуществленным.
Бродский: последний классик
У всякого языка свое молчание.
Элиас Канетти
Поэт имеет право быть непонятым.
Анна Ахматова
Иосиф Бродский в массовом сознании – это некий мифологизированный образ: бог, культурный герой, персонаж окололитературных сплетен и слухов. И как поэт, и как человек Бродский – плод интеллигентского мифотворчества. Все споры вращаются не вокруг Бродского-поэта, а вокруг Бродского-мифа. Но сам он всегда ненавидел тех, кто стремился слепить из его жизни героический миф. Этот «шестидесятник» серебряного века был активным проповедником частной жизни. Он и свою блистательную Нобелевскую лекцию начал с этого: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего...»
Со страниц книг и воспоминаний встает образ поэта, поначалу непризнанного и гонимого, дважды судимого, побывавшего в психбольнице и ссылке, высланного из страны, затем – всемирно известного лауреата Нобелевской премии. Бродский еще при жизни стал классиком. Лауреат премии фонда Макартура для гениев, почетный доктор множества европейских университетов, кавалер французского ордена Почетного легиона. Но для Александра Солженицына Бродский – сноб и индивидуалист, для Эдуарда Лимонова – «поэт-бухгалтер». Его не принимали Василий Аксенов, Наум Коржавин, Юрий Карабчиевский. Количество мнений очень велико – от массовой экзальтации до полного отрицания. Когда старую мудрую Анну Ахматову спросили о причинах неприязненного отношения к поэту, та ответила: «К Бродскому – зависть. Ведь он – чудо!»
Об Иосифе Бродском написано много книг, статей и мемуаров. Но он по-прежнему остается самым «эзотерическим» из всех пяти отечественных лауреатов Нобелевской премии. Его образ как кривое зеркало, которое не позволяет увидеть точный, не искаженный облик того, кто в него смотрит. Просто великий поэт эпохи! Кем он назначен на эту роль – временем, людьми, судьбой, обществом?! В своей лекции в Библиотеке Конгресса в октябре 1991 года он недаром говорил о стремлении общества назначать на роль большого поэта кого-нибудь одного, либо на определенное время, либо на целое столетие. Почему? Потому что с одним легче справиться, чем с несколькими. Обществом с несколькими поэтами в качестве «светских святых» труднее манипулировать, поскольку в таком случае политикам придется изобретать систему ценностей и форму выражения, соответствующие тем, что предлагают эти поэты.
Каждый большой поэт стремится преодолеть традицию, преступая законы времени и пространства. Это преодоление традиции прежде всего ощущается в форме – новое в ритмах, размерах, рифме, метафорах. Но преодолеть привычное в поэзии – это не только обрести свой голос, но и найти самого себя как творца. У Бродского высочайший уровень владения словом, но поэт претендует и на то, чтобы слово владело им. В своей Нобелевской лекции он говорит: «Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».
Его поэзия – это неповторимый, протяженный, волнами пульсирующий ритм: «Там нигде, за его пределом // – черным, бесцветным, возможно белым – // есть какая-то вещь, предмет //. Может быть, тело. В эпоху тренья // скорость света есть скорость зренья; // даже тогда, когда света нет». Этот ритм, то приглушенный, то взрывающийся всплесками эмоций, пронизывает все его тексты: «Твой Новый год по темносиней // волне средь моря городского, // плывет в тоске необъяснимой, // как будто жизнь начнется снова, // как будто будут свет и слава, // удачный день и вдоволь хлеба, // как будто жизнь качнется вправо, // качнувшись влево».
Людмила Штерн вспоминает, как Бродский читал свои стихи и какое страшное, почти гипнотическое действие оказывали его голос и интонации. Интонаций даже и не было, а была некая гнусавая напевность с понижением голоса в конце строчки и с нарастанием «вольтажа» с каждой новой строфой. Это было похоже на молитву или заклинание и вводило слушателей в состояние транса.
Поэзия Бродского – это попытка исследовать средствами языка различные варианты жизни, это пребывание в параллельных мирах. Ему выпал путь канонизации и адаптации художественно-изобразительных открытий первой половины XX столетия. Но на этой основе он творил собственный мир с его смысловой изощренностью, множеством поворотов мысли, игрой языка и словесных образов. Бродский создавал мир по своему образу и подобию. Чтобы проникнуть в него, надо попытаться отождествить себя с поэтом. В его Вселенной мы ищем смысл жизни. «В чем поэт может участвовать, – говорил Бродский, – так это в сообщении людям иного плана восприятия мира, плана, непривычного для них».
Избрав себе в собеседники Бродского, читатель об этом не пожалеет, но вряд ли это облегчит жизнь. «Я часто думаю, насколько все бессмысленно – за двумя тремя исключениями: писать, слушать музыку, пытаться думать. А остальное... Сколько бессмыслицы всю жизнь приходится делать, платить налоги, подсчитывать какие-то цифры, писать рекомендации, пылесосить квартиру... Помните, когда мы в прошлый раз сидели в кафе, барменша стала что-то доставать из холодильника, не важно что ... открыла дверцу наружу, нагнулась и начала там шуровать. Голова внутри, все остальное торчит наружу. И так стояла минуты две. Я посмотрел, посмотрел и вообще как-то жить расхотелось!»
Он всю жизнь обитал на Олимпе, откуда ясно видел, насколько суетна и мелочна человеческая жизнь:
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот
не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.
По Льву Аннинскому, вся поэзия Бродского – это бесконечное, мучительное сопоставление неуловимой Вечности – несущегося на тебя, изнуряющего потока впечатлений, реалий, фактов, которые давят видимой бессмысленностью. Напряженная аура зова – крик ястреба в пустом небе – над всякой точкой бытия. Напряженные логические цепи, звенящие от подступающего разрыва. Напряженная безнадежность неотступного выбора – между ужасным и ужаснейшим. В одном из своих эссе, относящемся к 1972 году, Бродский написал: «Писатель – одинокий путешественник, и ему никто не помощник. Общество всегда – более или менее враг».
Впечатляет социальный успех, которого сумел добиться Бродский на Западе. Он переломил устоявшуюся традицию и превратил поэта из «невольника чести» и жертвы в законодателя интеллектуальной моды, университетского профессора, лауреата всевозможных премий. Этот абсолютно нетрадиционный культурный имидж вызывает восхищение и стремление подражать ему. Сам Бродский это сознавал. «В русской изящной словесности или в Европе образ поэта или его лирического героя всегда фигура как бы трагическая, фигура жертвенная. Он у нас всегда страдает... В поэзии американской это не совсем так. Это скорее идея абсолютной человеческой автономии».
Анна Ахматова, благословившая юного Бродского, избравшего стезю поэта, сказала о «золотом клейме неудачи на еще безмятежном челе». Эту неудачу всей своей до предела насыщенной жизнью Бродский преобразил в сияние своего призвания. За ним всегда останется статус Великого Поэта в эпоху, когда поэтическое слово обесценилось и фигура поэта ушла на периферию социального внимания. Иосиф Бродский подвел итоги поэзии XX столетия.
И дверь он запер на цепочку лет.
(И. Бродский. Стихи на смерть Т. С. Элиота).
Эти слова Максимилиана Волошина в полной мере применимы к Иосифу Бродскому. Его поэтический и жизненный путь определился далеко не сразу. А травля, суд, ссылка, изгнание из страны – все это было вехами в сложной судьбе поэта. В одном из интервью прозвучал вопрос о страшном одиночестве, исходящем от его стихов. Он отвечал: «Да, так и есть. Ахматова сказала то же самое». А его друг-поэт писал в некрологе: «Иосиф Бродский обладал той артистической и этической свободой, за которую приходится платить чистоганом, то есть одиночеством!»
Извечный конфликт поэта и общества для Бродского начался в 1964 году, когда он был арестован и отдан под суд. Тогдашняя партноменклатура не могла принять эту крупную и неоднозначную личность. Охранительные силы общества всячески противились тому, что в условиях резко ограниченной свободы Бродский жил и творил как свободный человек. Это всегда пугало и раздражало.
Определяющей чертой Бродского в то время была совершенная естественность его поведения и максимальная интенсивность восприятия жизни. Это и привлекало и пугало окружающих, вызывая противоречивое отношение к нему. Известный историк и писатель, давний друг Бродского Яков Гордин вспоминает, как однажды в 1958 году, на заседании студенческого научного общества Иосиф начал свое выступление с цитирования Льва Троцкого, чье имя тогда находилось под строжайшим запретом. Он не собирался кого-либо эпатировать, это был совершенно естественный для него поступок.
Уже с конца 50-х годов Иосиф Бродский часто выступал с чтением своих стихов, в основном в студенческих аудиториях. Его непривычная манера чтения воздействовала на слушателей сильнейшим образом. Он словно жил в своих стихах. Налицо было почти абсолютное слияние личности поэта и его творчества. Вспоминают, что его уникальная ритмика порождала в слушателях мощнейшую, почти физиологическую вибрацию.
Художник и скульптор Эрнст Неизвестный как-то заметил: «Юный Иосиф Бродский отражал настроения неприкаянности, порыва в другую, неведомую мне тогда реальность». Первый громкий скандал, связанный с именем Бродского, случился в 1960 году, когда он на встрече с поэтами прочитал стихотворение «Еврейское кладбище», где были такие строки:
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядами юристы, торговцы, музыканты, революционеры. Может, видели больше.
А возможно, и верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали...
А в ответ на нападки своих критиков из числа «почтенной публики» Бродский прочитал стихи, предпослав им эпиграф «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»:
Каждый пред Богом наг.
Жалок, наг и убог.
В каждой музыке Бах,
В каждом из нас Бог
Ибо вечность – богам.
Бренность – удел быков...
Это уже был вызов тем, кто смирился с несвободой, и отныне Бродского все более явно начинают воспринимать прежде всего власть имущие, как мятежника. Так начинает складываться миф о Бродском – диссиденте.
Стихи Бродского в списках ходили по рукам. К ним писали музыку. Его слушала, затаив дыхание, студенческая аудитория. Он становился знаменитым. К 1964 году Бродский стал явлением духовной и общественной жизни тогдашнего Ленинграда. Этот неожиданный выплеск поэтического таланта многих озадачивал. Ведь Бродский начал писать стихи поздно, лет в семнадцать. А до этого, казалось, ничто не предвещало прихода в отечественную поэзию большого поэта.
Родился Иосиф Александрович 25 мая 1940 года в Ленинграде. Его отец был военным моряком, мама – преподавала немецкий язык, позднее она станет переводчицей в лагере для военнопленных. Следуя по стопам отца, Иосиф после седьмого класса попытался поступить в военно-морское училище, где готовили подводников, но не прошел по пресловутому пятому пункту – «национальность». После этого он проучился в школе еще год и, закончив восемь классов, в пятнадцать лет пошел работать фрезеровщиком на завод «Арсенал»
В шестнадцать лет ему захотелось стать нейрохирургом, и для начала он стал помощником прозектора в морге. Затем – перешел работать истопником котельной. А спустя несколько месяцев – ушел в геологическую экспедицию. С 1957 по 1961 год он исходил с геологами почти весь Север, ежегодно уезжая в экспедиции на два-три, а то и на четыре месяца. Пожалуй, в то время это была единственная возможность увидеть мир. К тому же геологам всегда был присущ некий дух свободомыслия и либерализма, ведь в тайге или в тундре их политическое лицо и «идеологическая закалка» мало кого интересовали. Среди его приятелей по экспедиции было немало пишущих стихи, и от них он узнал о литературном объединении при ленинградской газете «Смена». Именно там он обрел свой первый опыт поэтического общения.
Бродский всерьез начал, как он выразился однажды, «баловаться стихами» с шестнадцати лет, после того, как прочел поэтический сборник Бориса Слуцкого. Затем, уже будучи в геологической экспедиции в Якутии, он познакомился с поэтом Владимиром Британишским. Своему близкому другу Евгению Рейну, отвечая на вопрос: что же его подтолкнуло к стихам? – Бродский говорил: «Году в пятьдесят девятом в Якутске, гуляя по этому страшному городу, я зашел в книжный магазин и в нем надыбал Баратынского. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамович как бы во всем виноват».
Знаменательным в его судьбе стало знакомство с Анной Ахматовой, после чего окончательно у Бродского сформировалось ощущение поэтической правоты, чувство избранности. Царственная Ахматова воспринималась ее окружением как хранительница очага классической русской культуры.
В первый раз Бродский был арестован в связи с выходом в свет журнала Александра Гинзбурга «Синтаксис». Произошло это в конце 50-х. Затем он дважды принудительно направлялся психбольницу на психиатрическую экспертизу – в декабре 1963 и в феврале—марте 1964. Воспоминания об этом у Бродского остались довольно мрачные. В беседах с Соломоном Волковым он рассказывал о нравах, царивших в психбольнице.
Когда Анна Ахматова говорила, что власти делают Бродскому биографию, она была права лишь частично. Несомненно, поэт и сам активно творил собственную биографию, свою жизненную и поэтическую судьбу. Его талант прорастал сквозь суровую обыденность, а врожденное мастерство, казалось, было не в его власти, а во власти той стихии образов, ритмов, слов, музыки, которой он дышал. Его изобретательный мозг был переполнен идеями, и он стремился воплотить их в строфы.
На начальном этапе своего творчества Бродский еще следует в русле традиции: Мандельштам, Ахматова, Анненский, Пастернак, Слуцкий. В восемнадцать лет он написал своих знаменитых «Пилигримов»:
Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы: что мир останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
Людмила Штерн утверждает, что Бродский уже в 1958 году прославился благодаря своим «Пилигримам» и «Еврейскому кладбищу около Ленинграда».
Осенью 1961 года Бродский был погружен в написание своей первой поэмы «Шествие». Людмила Штерн вспоминает, как он читал ей свои главки: «В заставленной картинами полукомнате я присутствовала при гуде: вызванная к жизни чуть гнусавым, почти поющим голосом его автора, герои-мертвецы «Шествия» торжественно проходили пред моими глазами».
Вперед-вперед, отечество мое, куда нас гонит храброе жулье, куда нас гонит злобный стук идей и хор апоплексических вождей.
Или:
Это плач по каждому из нас, это город валится из глаз, это пролетают у аллей скомканные луны фонарей.
Это крик по собственной судьбе, это плач и слезы по себе, это плач, рыдание без слов, погребальный звон колоколов.
А завершая свою поэму, Бродский писал в «Монологе Черта»:
Потому что в этом городе убогом,
Где погонят нас на похороны века,
Кроме страха перед дьяволом и Богом существует что-то выше человека.
Это ощущение, что существует нечто «выше человека», и устремленность к нему живут во многих стихах Бродского.
Позднее он все более явно начинает ориентироваться на Марину Цветаеву и англо-американских поэтов. Его поэзия усложняется и по форме, и по содержанию. Он пробует составлять сложные, до того не применявшиеся строфы. Его друг Владимир Уфлянд писал: «Иосиф Бродский начал работать, когда казалось, что ничего нового создать в технике русской словесности уже невозможно. Но он обнаружил, что вне поля практики русской (в то время советской) литературы, отделенная железным занавесом, существует западная литература.
Эллиот, Оден и Фрост были экзотичны для русского, особенно советского читателя не только смыслом, как, например, Джон Донн. Новая западная литература была удивительна и формой.
Иосифу пришла идея соединить русский смысл и форму, русский образ мысли с западным смыслом и формой и образом мысли. Когда его выслали из Петербурга, эта идея стала вполне осуществима. В Америке Иосиф Бродский совершил великую работу новатора в поэзии. До него такую работу успешно совершали разве что только Пушкин или Тютчев. Он, как и они, соединил русский и западный образ мысли. Это еще уменьшило число читателей Бродского в России.
А его чисто петербургская тщательность и изощренность еще более ставила возможных читателей в тупик».
В 1963 году, после встреч Никиты Сергеевича Хрущева с творческой интеллигенцией, начинается «закручивание гаек». Партийные власти Ленинграда сразу же активно включились в этот процесс. Иосиф Бродский становится главным объектом политико-идеологического прессинга. В конце ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» был напечатан фельетон «Окололитературный трутень». Позднее на суде Бродский скажет, что в этом пасквиле только его имя и фамилия правильны; все остальное ложь. В фельетоне говорилось: «...Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем... Приятели звали его запросто – Осей. С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно... Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательные попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное сотворить он не мог: силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, не окончившего даже среднюю школу? ...Этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден». В конце фельетона звучала прямая угроза: «Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде... Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути... Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду».
Это был прямой призыв к гонениям и расправе. 13 февраля 1964 года вечером Бродский был задержан прямо на улице. Родители-пенсионеры провели весь день 14 февраля в поисках исчезнувшего сына и только вечером случайно узнали, что он находится в заключении. 18 февраля в Дзержинском районном суде началось слушание дела по обвинению в тунеядстве Иосифа Бродского. Процесс вела судья Савельева. В итоге было вынесено постановление о выселении Бродского из Ленинграда с обязательным привлечением к труду на пять лет. Молодежная газета «Смена» откликнулась на это решение обширной статьей, еще раз заклеймившей «тунеядца» и «любителя порнографии» Бродского. Статья заканчивалась так: «Постановление суда было встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками».
Но Бродского раздражало пристальное внимание к этим достаточно привычным для того времени событиям, и он опасался, что они могут заслонить более важное и значимое. Конечно, он понимал, что журналистка и писатель Фрида Вигдорова, записавшая почти весь ход судебного процесса, совершила гражданский подвиг. Но сознавая все это, Бродский подходил к событиям с совершенно иных позиций: «Я отказываюсь все это драматизировать!» И затем следует идеально точная реплика Волкова: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Ключ здесь. Не только к вышеупомянутым суждениям, но и ко всей картине суда, которая через два десятка лет представлялась главному действующему лицу как некое ритуальное действо: «...зал-то наполовину состоял из сотрудников госбезопасности и милиции. Такого количества мундиров я не видел даже в кинохронике о Нюрнбергском процессе. Только что касок на них не было!»
Реальная картина по части мундиров была несколько скромнее, но для Бродского этот суд «по делу о тунеядстве» в соответствии с его общими представлениями постепенно превратился в фантасмагорию столкновения частного человека и тоталитарной системы.
Восприятие Бродским картины суда трансформировалось вместе с его эстетическими и философскими установками, вместе с его стилистикой. Чем реальнее становилось ощущение трагичности бытия, ощущение, лишенное уже защитной романтической взвинченности раннего периода, тем сильнее у зрелого Бродского оказывалась потребность снять это ощущение – во всяком случае, во внешних его проявлениях – иронией и самоиронией.
Вот некоторые фрагменты из бесед Бродского с Соломоном Волковым:
Волков. Иосиф, я хотел расспросить вас о вашем процессе 1964 года, о ваших арестах и пребывании в советских психушках. Я знаю, что вы об этом говорить не любите и чаще всего отказываетесь отвечать на связанные с этим вопросы. Но ведь мы сейчас вспоминаем о Ленинграде, и для меня «дело Бродского» и процесс – это часть ленинградского пейзажа тех лет. Так что если вы не против...
Бродский, Вы знаете, Соломон, я ни за, ни против. Но я никогда к этому процессу всерьез не относился – ни во время его протекания, ни впоследствии.
Волков. Почему вдруг вся эта машина раскрутилась? Почему именно Ленинград, почему вы? Ведь после кампании Пастернака в 1958 году советские власти некоторое время громких литературных дел не затевали. Что, по-вашему, за всем этим стояло?
Бродский. Сказать по правде, я до сих пор в это не вдавался, не задумывался над этим. Но уж если об этом говорить, то за любым делом стоит какое-то конкретное лицо, конкретный человек. Ведь любую машину запускает в ход именно человек – чем он, собственно, и отличается от машины. Так было и с моим делом. Оно было запущено в ход Лернером, царство ему небесное, поскольку он, по-моему, уже умер.








