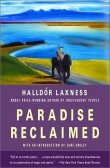Текст книги "Каменщик, каменщик"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Если внучки не было дома, Мария Павловна тянула телефон в запроходнягу, но разговаривала чересчур осторожно, пересыпая монологи междометиями, обрывками незнакомых старику песенок, афоризмов и анекдотов. Только о Надьке она говорила без обиняков. Возможный приезд золовки ее раздражал. Чем кидать деньги на "эруей", прислала бы племяннице тряпок. Девчонке надеть нечего.
"Нечего? – сердился старик. – Да она разгуливает в юбках и свитерах Жени".
Зять забирал к себе телефон заполночь и чаще всего звонил жене Марка. Старика это уже не задевало. В конце концов должен человек с кем-нибудь отвести душу, если жена от него отвернулась.
Утром зять поднимался раньше всех, фыркал в ванной и на цыпочках прошмыгивал в запроходную комнату будить Светланку. Переругиваясь, они шикали друг на друга:
– Не ори, всех перебудишь...
Но старик давно не спал, а Машенька, если не возвращалась пьяной, глушила себя снотворными и все равно не вставала раньше полудня.
Накормив и выпроводив дочку, зять часов до трех не подавал признаков жизни. Правда, иногда, разозлясь на Машеньку за чрезмерные, на его взгляд, расходы, Токарев принимался за хозяйство, бегал в магазин и остервенело бряцал в кухне кастрюлями. Это длилось день-два, потому что денег выходило столько же, а варево получалось еще ужасней.
От здешней пищи старик маялся желудком и надолго застревал в санузле.
– Опять заколодило, – ворчала за дверью Машенька, а старик вспоминал привольную жизнь с Женей, когда в комнате стояло глиняное блюдо с фруктами: ешь – не хочу. У Токаревых же апельсины или яблоки – и то изредка – покупались для одной Светланки.
"Отец Горио! – издевался над собой Челышев. – Однажды проснешься – зубы нечем будет почистить".
Пока он лежал в больнице, Машенька получала его пенсию, и теперь он тоже отдавал ей всю до копейки. Потому-то на улицу не выходил: в кармане было пусто. Машенька же денег отцу не предлагала. Вот и остались балкончик да еще сызнова заработавшая "Спидола". Ее мнимая инвалидность оказалась весьма кстати. Иначе бы не избежать ей участи Жениных секретера и кухонной мебели, которые дочь за гроши оставила прежним соседям. Недавно прекратили глушение западных станций, и, укутав приемник, старик часами баюкал его на коленях.
"Позвонить Филе? – подумывал иногда. – Но сюда ведь не пригласишь, а к нему не поедешь. Да и дома ли он? Если не помер, вернулся на службу, и ему не до меня. Нет, нехорошо таким "старушком" на глаза Филе показываться. Засмеет".
Челышев часто вспоминал один из рассказов палатного соседа:
"Старость, Пашка, гроб... Непобедимый склероз. Живет с нами тетка жены. Знаешь, что выкидывает в благословенный день пенсии? Получит свои сорок священных тугриков и тут же заказывает такси. Видите ли, ей надо торт купить и навестить приятельницу. "Теперь отвезите меня на Воздвиженку", – просит шофера. У того глаза на лбу. Небось еще не родился, когда Воздвиженка стала улицей Калинина. Как там они выходят из положения, не знаю, но едва шеф подвозит ее к нужному дому, мадмуазель вспоминает, что ее закадычная подруга здесь больше не живет. Она, понимаешь ли, давно на Ваганькове. Тогда, чтобы не пропадать торту, пенсионерка велит везти ее на Мясницкую. Начинается та же комедия, и, наконец, на улице Кирова старухе приходит на память, что мясницкая ее приятельница тоже покоится где-то там, куда на такси не подъедешь. Словом, после четвертой или пятой попытки мадмуазель в истерике, прижимая к груди раздавленный торт, возвращается "нах хаузе". Это двенадцатое число у нас, как день "икс". Я уж говорю жене: "Отнимай у нее пенсион. Ведь загнется прямо в Волге". Куда там! Палкой отбивается старушенция..."
"Склероза у меня как будто нет, но пенсии – тоже" – усмехается Павел Родионович. Второй час ночи. За стенкой зять клянется в любви жене Марка. Оказывается, завтра ешиботника выписывают из больницы, и через неделю они будут в Вене.
– Ленусь, у меня дар пророчества! Мы встретимся... Мы не можем навсегда расстаться. Увидишь, мы будем вместе, и даже очень скоро... – разливается зять.
"Господи, и охота ему врать на прощанье..." – вздыхает Челышев.
Но однажды утром пенсионного дня Машенька говорит отцу:
– Пап, тебе в проходнухе плохо. Перебирайся в отдельную. Гришек закончил роман.
"Какой роман? С Ленусь?" – усмехается старик, но вслух бормочет: мол, в проходной ему удобней. Там балкон.
– В проходной будет Светка. Пока она в школе, насидишься.
"Значит, снова сходятся..." – догадывается Челышев и настаивает:
– По-моему, в отдельной удобней вам.
– Нам удобней так. Не спорь.
– Тогда можно туда Светланку. Она хотела...
– Мало чего она хотела! Она и дубленку хочет. Откуда я возьму ей дубленку? – ворчит дочь, но старик понимает, что дубленку Машенька раздобудет. Перед Светланкой она столь же беспомощна, как старик перед Марией Павловной.
– Гришек, перетаскивайся, – кричит дочь, и Токарев стыдливо переносит в запроходную каморку книги, тетради, икону, простыни и рваные брюки.
– Видишь, тут лучше. И тахта – твоя, – морщится Мария Павловна, но старик ее лица не видит. Ему неловко, и он вздыхает:
– Неудачно ты, девочка, обменялась.
– Ужасно, папа, неудачно. Скверно. Даже не представляешь себе, как скверно. Гадко. Все гадко. Я сама гадкая... – Машенька вдруг тычется лицом в пиджак отца и плачет. Сколько мечтал об этом, и вот – пожалуйте... Но теперь старик напуган. – Ох, папа, все не так... И с тобой не так... Не надо было нам съезжаться. Разве ж я сквалыга? Просто жизнь собачья. За что ни бралась, все у меня выходило не в ту степь... А ведь не уродина, не дура. Говорили, способная. Говорили, завоюешь мир. Мужчины у тебя на посылках будут. А на самом деле я вкалывала на них, как негритянка... Отчего такая невезуха? Другие бабы и глупей, и уродливей, а их на руках носят. Чего мне не хватило?
"Женственности, – с горечью вздыхает про себя старик. – Всегда хотела настоять на своем, всех облагодетельствовать по-своему..."
– Вечно мне надо было вынь да положь, – будто слышит мысли отца Машенька. – Ждать и терпеть не умела. Ну что за дурацкая натура?! Вся жизнь прошла впопыхах: это не заканчивала, за другое принималась, и оттого ничего толком не успевала. Но ведь сколько на меня взвалили?! Сильная, вытянет. Посмотри на Гришека. Ангел! А ведь это я его тащу. Уже седой весь, а психология словно у юноши. Романтик. Подавай ему что-нибудь воздушное. Обычной жизни знать не желает. Даже денег зарабатывать не научился... Вот и разрываюсь я на всех, и никому от меня нету радости. Мама моей помощи не видела, и Витька, хоть женился, все равно какой-то заброшенный.
"При чем тут Витька? – недоумевает старик. – Чем худо Витьке? Мясо из рефрижераторов он ворует, а дачу ему оставила Бронька..."
– Заброшенный Витька... – плачет Машенька. – И ты, папа, тоже... Не хватило меня на всех. Выдохлась...
– Ну что ты, девочка?! Ты еще вон какая...
– Нет, папа. Скверны во мне, скверны мно-о-го! – рыдает Мария Павловна, и старик, утешая ее, чувствует подобие счастья, насколько это возможно вдовцу преклонных лет, лишенному угла и привычного уклада.
На этом чудеса не кончаются. Почтальонша приносит пенсию. Челышев кладет ее на потерявший былое сияние Женин холодильник. Но тут же в каморку врывается Машенька и возвращает отцу все двенадцать десяток.
Старик рад, что дочь разбогатела. Но теперь ему стыдно, что, боясь Машеньки, он не вручил почтальонше ее законного рубля. Впрочем, к чему омрачать такое доброе утро? И Челышев натягивает на ноги суконные, самолично когда-то купленные мокроступы "прощай молодость". Женя грозилась их выбросить, но не успела. Обычно она сама покупала старику обувь. Особенно хороши последние финские ботинки на белом меху. Но нынче в них ушел зять.
Экипировавшись куда легче, чем для балкона, Павел Родионович осторожно спускается по лестнице и медленно бредет незнакомой улицей, сосредоточенно ощупывая подошвами снег. Не дай Бог поскользнуться!
Сегодня Челышев полон любопытства к округе, к этому закудыкиному болоту, что, честное слово, ближе к Тьмутаракани, чем к Москве. Но почему-то эту местность влили в столицу и застроили разными – в крапинку и в шашечку, а то и просто серо-белыми пяти-, девяти– и двенадцатиэтажными коробками. Где-то должна быть названная по-чеховски "Чайкой" прачечная, куда старик, дабы не обременять Марию Павловну, несет рубахи. Затем – парикмахерская и продуктовый магазин. На первый раз достаточно. Все-таки совершается нечто вроде реанимации – воскрешение из полумертвых.
Но в стеклянном зале прачечной – духота, жарища, очередь часа на полтора, а под конец приемщица нагло кричит, что метки на воротнике (Машенька стирала в сердцах!) вытерлись, и четыре рубашки из пяти швыряет обратно. В парикмахерской потная сисястая девица, разя чесноком и чем-то еще, намекает подружкам: мол, клиент "негодявый". Небось, одни бритье и стрижка, а освежиться ни-ни...
"Действительно, морда у меня доисторическая, – с презрением смотрит старик в зеркало. – Словно по слабоумию побриться вспомнил, а помереть – забыл..."
Утомленный долгим обозрением своей внешности, Павел Родионович снова ползет по скользкому проспекту, который филоны-дворники и не думали посыпать песком. Страх сломать ноги переполняет старика, и он лишь чудом добирается до магазина.
В колбасном отделе хвост, в кондитерском – тоже, а в отгороженном винном закутке – давка, ругань: жадные трясущиеся руки суют через головы рубли и мелочь...
И снова скользкая улица, но теперь еще боязнь разбить бутылки и смять торт. Челышев не сладкоежка и торт купил только как вызов Филиному рассказу о долгожительнице: мол, какие мы ни какие, а до маразма нам далеко...
Однако он долго не может найти свой корпус. Как на грех, дома на его улице абсолютно одинаковые. Застревая на каждом полумарше, старик наконец взбирается на последний этаж, и такая прогулка ему тяжелей длинной войны.
– Гулена, – ласково укоряет отца Машенька, но по-прежнему на него не смотрит. "И мысли ее мимо меня..." – догадывается Павел Родионович.
Возвращается зять в новых челышевских ботинках. Он тоже сегодня странный, возбужденный, но не поймешь – от успеха или неудачи.
– Выяснил? – спрашивает Машенька. Токарев неопределенно пожимает плечами.
– Ладно, папа. Пока отдохни. Сегодня обедаем в большой комнате.
Старик вытягивается на широкой тахте. Сердце бьется чаще, чем даже осенью, когда дочь примчалась с телеграммой.
– Наверное, все же инфаркт... Проглядели эскулапы. На ногах перенес... подражая интонации живчика Фили, шепчет старик.
"Не тушуйся, – отвечает непонятно откуда взявшийся палатный сосед. – Хуже, Пашка, не будет. Все остальное, как говорили древние – холоймес... Ты любимую женщину потерял. Жену. И плюй на все. Вылезай на балкон и плюй хочешь – вниз, хочешь – вверх, потому что Бога все равно нету. Неужели Он тебя, дряхлого, беспомощного, оставил бы сиротой да еще запихнул бы в эту клетку, как в камеру?!."
"Но меня переселили в лучшую комнату".
"Обдурят. Глаза протри, а уши держи по стойке "смирно", потому что такого, как ты, всегда перехитрят..."
"Значит, умер Филя..." – вдруг решает старик и, весь мокрый, задыхается в тесной комнатенке, где даже тахта не кажется ему своей. Душно. Несмотря на март, топят как черти. Сердце стучит, будто забытый мотористом движок – то вразнос, то запинаясь. Шелохнуться страшно... И голос куда-то пропал. Нету сил крикнуть, чтобы распахнули окно, а шепота, хоть стена аховая, днем не услышат.
Все-таки он оклемался, и спустя час, когда уселись вчетвером за довольно чистой скатертью, выпил две рюмки. Водка взбодрила, боль из загрудины ушла, и старику стало радостно, что наконец-то все собрались вместе, борщ какой-никакой, а горячий, со сметаной, и дочь налила ему первому, как в давно забытой жизни мать Любовь Симоновна – отцу, а Леокадия – Климу. В комнате не жарко. Несмотря на внучкин насморк, балконная дверь приоткрыта.
Но вдруг Машенька, почернев лицом и мгновенно состарясь, бросает с надрывом:
– Папа, мы на нуле...
Глаз она уже не прячет, и они у нее затравленные.
– Маша, ну зачем так... сразу? – пытается унять ее Токарев.
– Ах брось... Не все равно, как начать... Короче, папа, денег у нас нет и занимать негде.
– Но ты сама сегодня мне отдала...
– Господи, ну при чем твоя пенсия? На что нам твоя пенсия?! Как будто деньги для нас что-то значат?! Да я бы с радостью голодала, было б только ради чего! А то сидим в дерьме по шею. Меня на работу не берут. Гришеку третий год статьи заворачивают, а его прозу даже показывать нельзя – посадят. И Светке никогда в институт не попасть. Словом, надо мотать отсюда. Поехали, папа!..
– Что-о?! – багровеет Павел Родионович.
– Ехать, папа, надо. Ехать... Больше здесь жить нельзя. Кончились иллюзии. Раньше мы с Гришеком думали: так ли, этак, а проживем тихо, без подлянки. Было такое время – чахлая хрущевская оттепель и года полтора после нее. Гришека печатали. Одну-две дохло-прогрессивных мысли он, как в солому, оборачивал в марксидные цитаты. Тошно ему было от этого нетто-брутто, но терпел. Надеялся, чудак, мол, работает в пользу демократии... А на самом деле его обводили вокруг пальца. И получалось, что Гр. Токарев служит дьяволовой власти, хотя и с оговорками. Но теперь в критике даже с оговорками работать нельзя. И хорошо, что нельзя! Мараться не надо. Помнишь, папа, ты бушевал, что я в "Науке и религии" нападала на Церковь? Правильно бушевал. Много я тогда понимала? А теперь хоть режь меня, хоть вешай, такого не напишу. Не берут меня на службу?! Прекрасно. Не буду больше продаваться! Хватит! Потому что жить здесь и не продаваться – нельзя! Мы уже все испробовали. Мучились, терпели, а все ж таки надеялись: чего-то добьемся – раздвинем рамки легальности. Жить станет легче, дышать свободней. Фига с два!.. Оказалось, мы просто сотрудничали с властью, подличали, как все... Но теперь все определилось: большинство откровенно служит за блага – за шмутки, за иностранные поездки и за все прочее, а меньшинство, нет, не меньшинство, а несколько десятков героев пошли в диссиденты... Так что нам надо ехать. Слава Богу выпускают. Неужели упустим шанс?! Поедем, очистимся, отмоемся... Раз в диссиденты идти не можем, надо уезжать. Одна я еще, пожалуй, подалась бы в инакомыслящие. Но какие они борцы?! – Мария Павловна со страхом смотрит на дочь и мужа. – Они для Лефортова не годятся. Едем, папа... Что поделаешь? Строили мы с тобой эту тюрьму, но ведь необязательно ждать, пока нас в нее посадят!..
– Какую тюрьму! – кричит старик. – Ах, стишки... Ну, с ними я в расчете. Тюрем, к сведению присутствующих, – он мрачно глядит на зятя, – я никогда не строил. И к шахтам уже семнадцать лет отношения не имею.
– А пенсию тебе платят?! – озлобляется Мария Павловна. – За что, интересно?! Я тебе скажу, за что. За то, что строил. Так что пенсию ты вполне заработал. Сто двадцать рубликов, один к одному!
– Но... – старик тут же спохватывается, понимая: Машенька только и ждет, чтобы он возразил: "Как же ты у меня брала такую пенсию?", и тогда она вскинется: "Ах, попрекаешь!", учинит скандал и отговаривать ее будет поздно.
– Успокойся, девочка. Ты раздражена. Потом поговорим... – бормочет старик, ничего более путного сказать не решаясь. Но в мыслях он не настолько придавлен дочерью и позволяет себе отбиваться: "Что за диктат – либо в диссиденты, либо в эмигранты? Либо прислуживать, либо бороться. Между этими "либо" худо-бедно умещается четверть миллиарда советских граждан. Они не борцы, но и не прихлебалы. Просто люди. Живут, притираются, как могут. Что за категорические императивы? Если и надо отмываться, то почему непременно за рубежом? Ты у нас была активная, ты здесь очищаться пробуй... А Светланку с такой учебой нигде в институт не примут. Что же до Гришки..." Но, не додумав о зяте, старик взрывается:
– Не понимаю, чем писателю плохо?! Сиди себе и пиши. Над головой не каплет.
– Но ведь не печатают, Пашет... Ничего не печатают... – краснеет зять.
– А как же другие? Вон этого – фамилию забыл – сколько наиздавали. И как будто не особенно потрафляет властям. Пишет о разных мелочах жизни и довольно похоже.
– Да что вы все как сговорились!? – сердится Мария Павловна. – Нашли одного ханурика и тычете им в глаза. Ну, печатают его... Пока печатают. Но ведь он только тоску разводит. Ничего важного не говорит, все острые углы огибает. А долго ему ходить чистеньким? Он ушлый, осторожный. Под себя гребет. Кого-нибудь он хоть раз защитил?! Как же... Чуть услышит, что друга или товарища собираются вышвырнуть из Союза писателей, тут же улепетывает подальше. Другой бы на авиабилетах разорился. Но, помяни мое слово, этого храбреца скоро прищучат. Скоро его вымажут или он сам себя так обосрет, что любо-дорого будет на него глядеть. Нет, незамаранным здесь никто не останется.
– Ну что ж, допустим, о чисто литературных делах вы осведомлены лучше. Допустим, не подличая, печататься здесь трудно или даже невозможно. Но жить пока еще позволено. Разговаривать друг с другом не запрещено. В гости ходить и принимать друзей у себя не возбраняется. Мы и этого не могли. Я сорок лет рот раскрыть боялся. Словом перекинуться было не с кем. Разве, девочка, с твоим дедом...
– Ты, Пашет, особ статья... – улыбается зять, на всякий случай обходя упоминание о докторе Токаре.
– Не я один. Все боялись.
– Скоро опять забоятся, – предрекает Машенька, тоже не откликаясь на призыв вспомнить погибшего деда. – И что спорить? Можно удрать? значит, нужно удрать!
– Но ведь все не уедут! И какой толк в отъезде?! У французов есть поговорка: уехать – это немножко умереть. Женя вот уехала...
– Мы не французы, мы – евреи! – кричит Машенька.
"Ого, – удивляется сквозь свою печаль Челышев. – Это нечто новое! Этого я от нее еще не слышал. А как же бабка-полячка? Или кем ради отъезда не пожертвуешь?.. Тоже выискали спасение..."
– Не глупите, ребята, – говорит вслух. – Сами не заметите, как заиграетесь. Это так же опасно, как притворяться сумасшедшим. Редко кому такие игры сходили безболезненно. Поймите, ничему ваш отъезд не поможет. Все свое беды, недуги, неурядицы – не оставите на таможне. Потащите на себе. А с кем за границей этим поделитесь? Да и что вы там станете делать? Вы здешние. Тут все ваше. Даже бестолковая ваша жизнь вся отсюда. Она, признаюсь, часто была мне не по душе, но, в конце концов, я с ней примирился. Все-таки во всем этом непотребстве, в пьяной болтовне что-то есть... Вокруг этого – на первый взгляд – безобразия что-то завязывается. Люди после долгой немоты, так ли, этак, учатся общению. Вот и меняется здешний духовный климат, – с улыбкой передвигает ударение Челышев, поскольку высокий стиль – не его стихия. Видишь, девочка, твой родитель все-таки понял вас. Правда, не сразу, почти у смертного порога, но понял. А кто за границей вас поймет? Они даже вашего языка не знают. Посмотрят и скажут: бездельники, безобразники, пьяницы. И пошлют вас подальше... К тому же у тамошнего народа своих бед выше головы. Так что побереги, Машенька, императивы. Даже Аденауэр был не столь категоричен. Помнишь, до стены, когда миллионы немцев бежали через метро, старый канцлер просил гедеэровских врачей не покидать советской зоны. Понимал: нельзя оставлять людей без медицинской помощи. А просто без помощи – можно? Вокруг вас, ребята, крутится бездна народу. Авось, что-нибудь и сварите. А не сварите – все равно от вашего жару что-то в воздухе переменится. Простите старика за красивые слова, но перестаньте дурить. Ведь отъезд – самая заурядная капитуляция. Признание, что родились и жили в своей стране – напрасно. К тому же это еще и самообман, а также чисто эгоистическое начинание. Другие ведь уехать не могут. Рязань, Казань, Алтай, Калугу и прочее народонаселение вы с собой не вывезете. Не может все это двинуться из России. И ничего ваш отъезд в этой стране не переменит. Бабы по-прежнему будут рожать, маяться с неслухами-детьми, изводиться на казенной и домашней работе, набираться слухов в очередях и драться с пьяными мужьями. А мужики будут неутоленно пить, лаять советскую власть, по-детски мечтать о несбыточном и тоже никуда не уедут. Я вовсе не считаю, что Россия должна раскрыть глаза закосневшему в грехах Западу. Но как бы там ни было, эта страна многое повидала, и своим отъездом вы ее не перечеркнете. Она и не заметит, что вы исчезли...
Но Мария Павловна не слышит отца и нервно твердит:
– Ехать, папа, надо. Ехать. Вызов на четверых. Покажи, – велит мужу.
– Вот, Пашет... Без очков разберешь? – робеет зять. Ему неловко, что разговор начат в лоб. Надо было тестя исподволь подготовить. Все-таки старый человек.
Челышеву не хочется подниматься за очешником. Держа на отлете три твердых иностранных бланка, он с удивлением узнает, что неизвестная ему Ребекка Блюм искренне заинтересована в его судьбе:
"Настоящим обращаюсь к соответствующим компетентным Советским Властям с убедительной просьбой о выдаче моим родственникам разрешения на выезд ко мне в Израиль на постоянное жительство.
После многих лет разлуки и всего пережитого велико наше общее желание объединить наши семьи и жить в дальнейшем неразлучно.
Я и моя семья материально хорошо обеспечены и обладаем всеми средствами для предоставления моим родным всего необходимого со дня их приезда к нам".
– Впечатляет, – бормочет Челышев. Он расчувствовался. Еще бы!.. Чужая женщина, выдав себя за родню, не прочь позаботиться о старике. Он-то своим Климу и Леокадии – ни разу не написал, и в Европе боялся с ними столкнуться... А эта Ребекка зовет к себе и предлагает помощь.
– Хорошая, видно, женщина, – говорит Челышев. – Неужели сядете ей на шею?
– Да это, Пашет, форма такая. Видишь, даже шрифт типографский... – зять краснеет.
– А я думал: всерьез...
Теперь старику стыдно, что на мгновенье поверил, будто он кому-то нужен.
– Поедем, папа! Где наша ни пропадала! – сквозь слезы улыбается Машенька. – Посмотрим, как люди живут. Ведь ничего не видели...
"Когда она успела захмелеть? Глупая... – хочет он образумить дочку. Бежать, да еще в Израиль! А там Гришка тебя бросит ради этой Ленусь или Ленки".
– Девочка, ну что ты в Израиле потеряла, – бормочет старик, ощущая загрудинное жжение.
– Вы что, дед, их развести хотите? – настораживается внучка.
– Да мы, папа, не в Израиль! Неужели не понял? Мы – к Надьке... Пусть только попробует нам не помочь!
– Час от часу не легче... Ты в своем уме меня к: ней тащить?! И не подумаю... Зачем бумагу испортили? – тычет старик в глянцевитые бланки. – Без меня вас не выпустят, а я не поеду. Зря себя раскрыли. Ведь это фик-си-ру-ет-ся! – Он отталкивает от себя сколотые листки. – Почему ты такая невезучая? – с горечью смотрит на дочь. – Все у тебя впопыхах. Не спросясь, навлекла на себя новые неприятности. Ведь это – как самодонос.
– У нас есть еще... – мрачнеет зять, и старик , убеждается, что гражданин Израиля Вениамин Шнейдер считает своими родственниками только Токаревых Григория и Светлану, а также Челышеву Марию.
– Тогда в добрый час... – вздыхает Павел Родионович и за весь вечер не произносит ни слова. Новость переполнила старика, накачала обызвествленные сосуды и так раздула череп, что хоть стучи – никакого впечатления.
Приходит железнодорожник. Но Павел Родионович не замечает его и не слушает прожектов дочери, как бы исхитриться, чтобы Виктора прописали в этой квартире.
– Ничего не выйдет, – злорадствует зять. – Мы должны быть вне подозрений. А то придерутся, что жульничаем с жилплощадью.
– Но он – мой брат...
– Это безразлично.
– Я же велела выяснить! – раздражается Мария Павловна.
– А я узнавал насчет этих... – Токарев опасливо перекладывает оба вызова со стола на подоконник подальше от шурина.
– А вы не едете? – пропуская, как всегда, имя-отчество, спрашивает старика викинг.
– П-шш-л... – очнувшись, сипит старик и снова куда-то пропадает.
– Опять, Машка, он базарит. Спросить нельзя?..
– Может, поедем? – обнимает брата Машенька. – Страшно тебя оставлять.
– А чего! Я не пропаду. Мне много не надо. В руководство не лезу, ухмыляется викинг, забывая, что даже не доучился в десятилетке. – Получу, Машка, твою хату, с меня и хватит. Вот у нас в поселке был чувак, деревня деревней, а тут встречаю его – уже начальник внешних сношений чего-то этакого. Дают, говорит, ему хавиру в пять комнат, а он, понимаешь, не берет. Две ванны и два сортира хочет. Не могу, мол, с домработницей одними удобствами пользоваться. А я – мальчик не требовательный.
– Не получишь ты ни черта, – сердится Токарев.
– А ну вас всех! – кричит Мария Павловна и тут же плачет. – Иди, Витенька... Я что-нибудь придумаю. Я добьюсь. Иди. Голова трещит...
Слепому видно, что дочка на пределе, но старик и сам выдохся.
– Коматозное состояние. Ухожу в невесомость... – шепчет он и с трудом добирается до тахты.
"Отщепенство начинается с почтового ящика, – торопливо писал Токарев в распадающемся гроссбухе. – Ни календарей ЦДЛ, ни приглашений на концерты и сборища книголюбов, ничего. Раньше эту макулатуру, не проглядывая, отправлял в помойку, а теперь ее вроде как не хватает. Пашет же вообразил, что все у меня распрекрасно. Не верит, что бросать его, дряхлого, больного, мне вовсе не просто... Да и выпустят ли? Мы повисли между землей и небом.
Что будет, если влетим в отказ или нас продержат хотя бы год? А Пашет решил: захотели – уехали... Не поинтересовался даже, что случилось в Союзе писателей, когда я пришел за характеристикой для ОВИРа. А ведь они учинили надо мной всамделишную гражданскую казнь...
Возможно, когда-нибудь я об этом напишу роман или повесть, а пока несколько слов для памяти.
...Двадцать московских секретарей неистовствовали, кто как мог. Одни кричали, что я стал диссидентом и в этом нет ничего неожиданного. Они догадывались, что именно этим я кончу. Когда я пытался возражать, что никакой внелитературной деятельностью не занимался, другие секретари кивали: да, вы не диссидент, вы – антисоветчик. Недаром они давно не встречают моих статей. Поэтому, прежде чем выдавать мне характеристику, надо проверить, что я пишу. Возможно, я переправил на Запад клеветнические материалы.
Я отвечал, что по-прежнему занимаюсь критикой, а если меня не печатают, то виноват вовсе не я. Нет, вы, – возражали мне, – ваши статьи отвергают именно потому, что они антисоветские.
Третьи обзывали меня сионистом, так как бросаю страну, осуществившую братство народов, ради сомнительного шовинистического государства, в котором угнетают арабов. (Не мог же я им сказать, что еду в Америку. Они лопнули бы от зависти, хотя сами туда катаются по два раза в год!)
Четвертые, в основном прежние друзья-приятели, с кем выпил цистерну водки, угрюмо допрашивали, кто такой Вениамин Шнейдер. Что-то я прежде не упоминал о подобном родственничке. Детей от моих первых браков они знают, старика-тестя тоже. Но дети и Машин отец остаются в Москве. Какое же, простите, это воссоединение семей?! Самое настоящее разъединение!.. (А я не мог им сказать, что еду к родной сестре.)
Пятые улюлюкали: пусть себе уезжает. Нисколечко и не жалко. Выгоним таких (они даже не скрывали, что подразумевают евреев!) и воздух сразу очистится...
Шестые – это были секретари-евреи – особенно негодовали. Да как он смеет покидать родину!? Родину, которая его кормила, поила, воспитывала! Понимаю, сказал один, – детство у Токарева было нелегким. Его отца необоснованно репрессировали. Но ведь партия решительно осудила культ Сталина, и отец Токарева посмертно прощен. К тому же сам Токарев никакой дискриминации не подвергался. Напротив. Еще недавно чуть ли не в каждом номере нашего лучшего журнала появлялась либо его статья, либо рецензия. Его печатали, на мой взгляд, даже чересчур охотно.
"Как же, – подумал я. – Ты ведь у меня в ногах валялся, умолял написать о тебе хотя бы страничку".
Не знаю, антисоветчик ли Токарев, – закончил свою речь этот семит, – но утверждаю, что он явный предатель.
Следующий еврей сказал, что я недостаточно стоек и слишком обидчив. Подумаешь, не печатали?!. Надо было драться. В одном месте не взяли статью, неси в другое. У него тоже не брали повесть ни в "Москве", ни в "Молодой гвардии", ни в "Нашем современнике". Но он не задрал кверху лапки. Он боролся. И вот теперь другой видный журнал (из суеверия он пока не назовет, какой) подписал с ним договор, а издательство "Советский писатель" включило повесть в план выпуска. Токарев же растерялся, обиделся и докатился до отщепенства и измены. (Подозреваю, что этот секретарь считал себя исключительно храбрым и достойным человеком. Еще бы! Он ведь прямо намекнул, что такие-то редакции не печатают евреев. А то, что он поклевал меня, так что ж... Все меня пинали, и к тому же я покидаю СССР. А ему тут жить и публиковаться.)
Словом, все двадцать мужчин и женщин выступили по разу, а кто и по два. Потом они дружно подняли руки, и первый секретарь объявил мне, что я единогласно исключен из Союза советских писателей. Характеристику же, сказал, перешлют в ОВИР, но даже не намекнул, что в ней напишут. (А мудрые головы говорят, что от характеристики как раз-то зависит, выпустят или нет. Но ведь судьбу не угадаешь...)
Так я стал отщепенцем и, что еще хуже, тунеядцем. Каждый день жду повестки из милиции: мол, устраивайтесь, гражданин Токарев, на работу, не то привлечем по статье... Поэтому пустой почтовый ящик, пожалуй, даже радует. Хотя участковый может явиться лично, если ему прикажут ползти на пятый этаж..."
Какая ни погода, старик торчит на балконе, но радио больше не слушает: без него есть о чем думать.
"Что я здесь потерял? – Он глядит на почерневшую за зиму гору ящиков. Это ли Россия? Правда, снег... Но его уже мало, а новый не выпадет до ноября. Снег – безусловно Россия... Хотя я его половину жизни почти и не видел. Какой в Малороссии снег? Вроде этого, весеннего..."
Направо и налево от ящиков сиротски лепятся к высоким панельным домам старые пятиэтажные "хрущобы".
"Может быть, все-таки уедешь? – терзает себя старик. – Нет, не хочу. Пусть Гришка бежит. Закрутился, бедняга... Кидало его от надежды к безнадежности, после XX съезда снова к надежде, а теперь у него впереди вовсе "зеро". А мне зачем страгиваться? Я здешним никогда не очаровывался, поэтому в нем не обманулся. И до революции мне здесь не больно нравилось, а потом – и подавно. Когда Клим уходил с деникинцами, я уже видел, к чему все идет, и не ждал никакого всеобщего счастья. И после не ждал – ни когда Троцкий неистовствовал в бывшем купеческом клубе, ни когда я сам палил из парабеллума в день победы. А Машенька и Гришка вечно чего-то ожидали. Без ума очаровались Россией и так же, не подумав, проклинают ее теперь и рвут с ней напрочь. Не приучены к терпению. Сразу им подавай счастливую жизнь, или хотя бы надежду, что таковая вскорости наступит. Но как пообещаешь, если ничего веселого не брезжит? Привыкли ребята к оттепелям. А я, честно говоря, особенной теплыни как-то не заметил. По-моему, всю жизнь длилась одна зима. Вечно закутываться надо было, не распахиваться, а главное, не суетиться. Зимой ведь спешить некуда. Зима время самопознания. А ребята метались и ничего толком не обдумали. В итоге у них – одни просчеты и провалы. Вот и напустились на меня: каменщик... каменщик... Как там дальше? Помню, не поленился, сходил в библиотеку, списал и выучил. "Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, тех он, кто нес кирпичи". Это сын каменщика вспомнит, которого в ту тюрьму засунут. А отец, то есть сам каменщик, отвечает стихотворцу: "Эй, берегись! под лесами не балуй... Знаем все сами, молчи!"