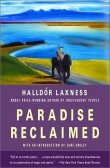Текст книги "Каменщик, каменщик"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Заткнись, мать. Надоел твой цинизм.
– Это не цинизм, Гришенька, а житейская мудрость, – улыбнулась бандерша. А вот в стол писать – это хотя и не цинизм, но, прости меня, онанизм... Так неужели ты намерен им заниматься в ожидании прекрасной дамы, то бишь эпохи? Вдруг она вообще не появится. А ты молодой. Тебе слава, как баба, нужна. Нет, Гришенька, мы тебе пропасть не позволим. Правда, не позволим, Павел Родионович?
– Я сказал: оставьте меня в покое!.. – отвернулся старик и вдруг увидел, как распахнулась дверь ванной и оттуда вынырнула невзрачная медсестра с удрученно-стыдливым личиком, а следом за ней вылез вовсе не благостный, а хитровато-веселый длиннокудрый гость.
– Ба, вот вы где, Павел Родионович! А я вас искал. Надеялся, поговорим. Ну, не в последний раз видимся. Еще побеседуем, побеседуем, – улыбнулся длиннокудрый и похлопал старика по плечу.
– Погуляй, детка, – кивнул он фельдшерице и, оттеснив Челышева, пролез в кухню.
– Ты тут, старенький? Об чем спор? – спросил он Григория Яковлевича.
– Да вот сержусь на вашего друга за то, что отворачивается от жизни, засмеялась бой-баба. – Подражает, видите ли, своему тестю. Но что позволено Юпитеру, в нашем случае пожилому человеку... – подмигнула она как сверстнику длиннокудрому, который годился ей во внуки.
– Безусловно так, – приосанился длинноволосый, стараясь выглядеть вдвое старше и вчетверо хмельней. – Ты, старенький, не спорь... – Он поднял руку, предупреждая возражения Токарева. – А вы, Павел Родионович, – повернулся к старику, – опять не правы. Я вам в субботу объяснял: не надо пугаться смерти. И жизни тоже не надо. Жизнь – она ведь...
– Именно, именно! – подхватила бой-баба. – Как хорошо, что вы тоже так думаете! Видишь, Гришенька, мы с твоим товарищем еще не успели познакомиться, а уже солидарны. Нет, глупо, глупо отворачиваться от реальной жизни. Вне ее ничего нет...
– Позвольте, уважаемая! Разрешите! – Длиннокудрый поднял обе руки.
– Нет, нет, я начала – я докончу, – заторопилась бандерша. – Как хорошо, что мы с вами сошлись во мнении. Без вас все меня перебивали.
– И правильно делали... Кто вам сказал, дорогуша, что жизнь кончается здесь, на бренной земле? Наукой установлено, что душа не умирает. В Соединенных Штатах каждый месяц оживляют до ста человек. До ста! Слышите? Каждый месяц сто душ уходят на тот свет, и их силой, против их воли, возвращают оттуда. Они хотят туда, но реаниматоры их не пускают. Души людей стремятся в тот мир. Они видят там своих родителей и родственников. Они рвутся к ним, и покидают их лишь, когда мать или отец им велят: "Возвращайся!" И даже тогда возвращение к нам для них мука. А вы: "Жизнь кончается здесь!"
– Чепуха, – хмыкнула бой-баба.
– Нет, уважаемая мамаша. Совсем не чепуха. Смерть – это не конец, а только переход в другое, высшее состояние. И вообще здешняя жизнь – еще даже и не жизнь, а так, черновик, репетиция. И попутно – испытание, ниспосланное каждому. Как бы экзамен – на выбор достойных для лучшего мира.
– Знаешь, сынок, не заливай мне баки. От тебя несет водкой и разит девкой. Не думай, будто поверю, что эти радости ты сменяешь на ладан и райское занудство. Так что охмуряй других, а я вумная... – Бой-баба затряслась обиженным смехом и покинула кухню.
"О переселении душ я мог бы послушать и Машеньку..." – подумал старик. Длиннокудрый его больше не забавлял, а усатая бандерша злила сильней прежнего, потому что всколыхнула еле-еле притихшую ревность к жене.
"Что же она, – подумал Челышев о Жене, – меня окрестила каменщиком, а этой все прощает? Бой-бабе можно – и приспосабливаться к власти, и жить на полную катушку, а мне не дозволено и малого люфта. Бывший каменщик должен дрожать в кооперативной норе, ожидая, пока его супруга соизволит явиться. А каменщик, между прочим, тоже мог бы ходить в офис". Старик забыл, что как раз Женя уговаривала его не выходить на пенсию и что нынче, на восьмом десятке, ему все равно пришлось бы сидеть дома. Но, забыв о возрасте, Челышев вспомнил об Америке, и ему стало совсем худо. Он поплелся в Машенькину комнату. Но Марии Павловне опять было не до отца: она самозабвенно скандалила с бой-бабой.
Бандерша, уязвленная спором на кухне, заявила Машеньке, что отпевание Варвары Алексеевны представляется ей весьма странным, поскольку Варвара Алексеевна не была верующей. Машенька злобно ответила, что, наоборот, мама была глубоко религиозна. Бой-баба снова возразила, что Варвара Алексеевна, умница и гедонистка, должна была презирать веру в потустороннее.
Тут в комнату вошел Токарев, но жену не осадил. Очевидно, сердился на бандершу. Впрочем, обуздать Машеньку было не просто.
– Да ты темна, как валенок! – кричала Мария Павловна. – Что в твоей глупой голове, кроме бебихов и цацок? Нацепила их на свои тухлые мяса – глядеть противно... Вера! Да ты знаешь, что такое вера? Думаешь, это всучить маме платье из Тбилиси, а мама поверит, что оно от Диора? Привыкла всем пудрить мозги, так и вера, по-твоему, – обман!? А ну катись отсюда, чтобы духа твоего не было! Назвал мой муженек всякую нечисть в христианский дом!..
Бой-баба, такая разухабистая и уверенная в себе, оторопело замигала голыми веками и начала сипеть и уменьшаться, как прохудившийся надувной матрас. Но вдруг, будто ее ужалили, опрометью кинулась из комнаты и, столкнувшись в дверях с Женей, расхлюпалась у той на плече.
– Что случилось? – спросила старика Женя.
– Не... не понял... – промямлил Челышев.
– Как же, Пашет?!
Женя нарочно не замечала падчерицы и Токарева, которого при падчерице укорять не могла. А старик зачарованно смотрел на раскрасневшуюся Женю, словно она впервые перед ним возникла, и его изумление длилось бы еще долго, если бы Машенька снова не закричала:
– Да что, Женька, базаришь? Чего к отцу прицепилась? Он мухи не обидит. Это я ее гоню. Думаешь, напилась? Трезвей тебя. Беги в свои Штаты, прибарахляйся! Не любишь ты России, вот что тебе скажу! – расходилась Машенька, словно Женя собиралась в Америку навечно. – Езжай. Колбасой катись. Совсем ты не русская. Русские – мы с Гришеком. Мы тут родились, тут умрем и никуда не уедем. А ты – мотай отсюда. Уведи ее, папа, а то я за себя не ручаюсь!
– Маша! – вмешался наконец Токарев, но так же, как в субботу, чересчур поздно. Пашет и Женя уже сбегали по лестнице.
Так старик остался один. Теперь Женя из лаборатории возвращалась рано, стряпала в кухне, читала в комнате (хорошо хоть на машинке не печатала), но как бы не замечала мужа. Они почти не разговаривали. Евгения Сергеевна не желала обсуждать свой отъезд, опасаясь, что Пашет разжалобит ее и отговорит. Старик же терзался молча:
"Бог с ней, с Америкой! Но к Надьке – означает назад, в сорок пятый год, к развилке жизни. Выходит, дождавшись меня, она (то есть Женя!) просчиталась и желает взглянуть, чем себя обделила. Ясно, я старый, ей со мной плохо. И Америка – это отыгрыш за долгие скучные годы с раздраженным, заевшим ее век склочником..."
Супруги молчали, но в квартире стало шумно. Бой-баба, преодолевая сопротивление Жени, все чаще приводила своих малопонятных приятельниц. Их голоса сливались в непереносимый гул, из которого старик с трудом выуживал: "ОВИР... Соединенные Штаты... Приглашение... Пустят... Не разрешат..." Прежде он не подозревал, что столько людей влюблено в зарубежье и тем только и занято, что мотается взад-вперед, словно в России им не жизнь, а каторга. Появление разодетых в пух и прах красоток сразу превратило комнату в нищую конуру. Распластав джинсовые юбки, позванивая браслетами, дамочки наперебой ругали руководство, что нещедро пускает их за границу.
"Должно быть, режим костерят мужья, а эти – попугайничают, – морщился старик. – Их мужья никакие не диссиденты, а попросту ленивая, падкая до барского пирога, болтливая челядь. Безземельная дворня. Они хуже холопов. Те хоть землю пахали, а эти по-холуйски лают бар, дескать, мало откидывают им барахла, жратвы и заграничных прогулок... Это какой-то особый орден. Не рыцарский, не монашеский, а номенклатурный. Ничего они не умеют, и никто, кроме нынешнего, столь же убогого начальства, кормить бы их не стал. Я боялся советской власти, работал даже больше, чем она требовала, откупался от нее как мог, только бы на несколько часов оставила в покое. А эти ни черта не боятся и обирают старуху Софью Власьевну, как альфонсы".
Джинсовые дамочки, словно заведенные, твердили:
– Нет, нет, двоим не подавать! Двоих не выпустят!
"Стало быть, я нечто вроде заложника", – мрачнел старик.
Женя меж тем собирала документы.
– Ну не дуйся, Пашет, – иногда все-таки приникала к мужу. – Ведь не навечно еду. Уверена, долго там не выдержу. Все у них другое, и они сами давным-давно не те. Альф не хромает, а Надюха нарожала дочек.
"Еще намек, – мучался Челышев. – Уехала, была бы с детьми..."
– Соскучиться не успеешь, а я уже вернусь. Понимаю, вокруг суетня. Эти невозможные тетки чего-то хотят. Той – отвези, этой, наоборот, привези. У каждой куча советов...
– Да я уже смирился. Но тебя за бабьей каруселью не видно.
– Вернусь – вся буду с тобой...
– Вернешься – тоже начнешь бредить: ах, Лонг-бич, ах, Пасадена! И тошно тебе будет в России, как солдату в казарме. Снова начнешь, как в увольнение, на Запад проситься...
– Не поеду... – вздохнула Женя, пораженная глубиной его печали. – Знаешь, самой расхотелось... Честное слово, обрадуюсь, если откажут.
Но судьба никогда не баловала Челышева, и Е.С. Кныш беспрепятственно выдали заграничный паспорт.
Последнюю неделю суетня достигла пика. Женя спала не больше двух часов в сутки, бегала по магазинам и приятельницам, одурев от недосыпа, наставлений и просьб.
– В самолете отдохну, – бодрилась она, обнимая мужа. – Пашет, ну что молчишь, глупенький?! Я же разревусь... Ведь не на всю жизнь... Отпусти хоть на месяц. Неужели месяца не выдержишь?
– Я не о себе... Но если тут – крутеж, то в Америке его – вдвое. Будешь носиться как угорелая: ничего не пропустить, все переглядеть, и свалишься от спешки и новых впечатлений...
В Шереметьеве – громадном стеклянном безликом бараке – провожавшие вздыхали:
– Все переменилось.
– Этой перегородки не было.
– И той – тоже...
А Павел Родионович не мог понять, чему же меняться, если все сплошь бездушное. Проведут после тебя тряпкой, и словно ты никуда не приходил. Как в небе – никаких следов...
"Но в небе, – подумал, – нету таможни".
На старика никто не обращал внимания. Окружили Женю и зятя. И прощались Женя и Гришка так долго, что старику почудилось, будто отлет предпринят женой лишь затем, чтобы вот так откровенно-безнаказанно при всех впиться в Гришку.
Но тут Женя, наскоро перецеловав приятельниц, прижалась к Челышеву.
– Пашет, прости... Вернусь, все будет по-другому...
Но обескураженный старик не вслушивался в ее всхлипы и лишь нетерпеливо ждал, когда жену позовут за перегородку из желтого и голубого пластика.
Все-таки до последней минуты Челышев не верил, что она улетит. Но Женя поднялась в воздух, и, отказавшись влезть в чьи-то "жигули", Павел Родионович заковылял к остановке.
День был по-осеннему просторный. Покачиваясь в пустом автобусе, старик размышлял: "Хорошо, что я в Москве. В каком другом городе так затеряешься? В Сибири или на Украине докучали бы соседи".
Однако он с любопытством глядел в окно, понимая, что высвободилась куча вольного времени. Захочет – выберется за город или забредет в какой-нибудь сквер. Может хоть полдня играть на бульваре в шахматы с такими же дохлыми стариками. Жаль, теплые дни на исходе и давно позабыл мудреные гамбиты. Эх, если бы досталась такая свобода полвека назад!..
Оттого, что в молодости осторожничал, нынче хотелось отмочить нечто рискованное. Но ничего не приходило в голову, кроме киношек.
В первый день он просидел на трех фильмах подряд – арабском, индийском и югославском. На другое утро, даже не напившись кофею, поехал в центр на новый итальянский, но фильм оказался не лучше вчерашних. Кино, тайный грех, стало для старика чем-то вроде дневных снотворных. Зять с Машенькой зашлись бы хохотом, узнав, что он смотрит. Но в темном пустом кинозале одиночество равнялось только одиночеству. Юная азиатская кинематография не могла разочаровать, ибо ничего не обещала. Зато сладко покалывала обида: там, в Штатах, Женя смотрит первоклассные ленты, а он вот чем тешится...
Растревоженный, Павел Родионович возвращался домой, ел прямо из холодильника и до позднего вечера не знал, чем себя занять. Хотя разговор с Нью-Йорком стоил кучу долларов, а Альф, судя по всему, был скуп, старик все-таки надеялся: Женя позвонит. При разнице во времени это могло случиться от второй половины дня до утра. Звонить же первым Челышев не хотел.
Шесть суток телефон молчал, а на седьмые примчались дочь, зять и даже десятиклассница Светланка.
– Плохо, пап... – запыхалась Машенька, словно бежала на восьмой этаж, а не поднималась в лифте. Она сунула отцу шершавый желтый бланк, на котором странно запрыгали латинские литеры: "Jenja tjajelo bоlnа" силился прочесть старик, но буквы никак не складывались, а когда складывались, все равно мало что значили, потому что ,,Jenjа" совсем не была той Женей, что жила в этой комнате и, казалось, не улетела за океан, а лишь ненадолго выбежала к подруге. В комнате сохранялся порядок, оставленный Женей. Все здесь помнило жену, потому что сам порядок был Женей. И разве мог ничтожный листок желтой бумаги что-то переменить в комнате и в самом Челышеве?
– Папа, не волнуйся... Ложись... Все, наверное, не так серьезно. Но ты ложись... – бормотала Машенька, а зять и внучка смотрели мимо старика.
– Уйдите. Я хочу один... – прохрипел Челышев.
Но тут раззвонился телефон, зять схватил трубку, нервно махнул: мол, тише вы... задергал кадыком:
– Надя! Надька!.. Да, да... Слышу... Да... – и, не сдержавшись, разрыдался.
– Папуля... – в унисон Токареву захныкала внучка.
– Папа... – последней заплакала Машенька, по-прежнему не выпуская старика из своих сильных рук, чтобы не вырвал у Гришека трубку.
– Павел Родионович... – все-таки донесся до Челышева измененный временем, расстоянием и американским акцентом Надькин крик, но тут же другой – спокойный – женский голос что-то сказал по-английски, и стало тихо.
Первой опомнилась Машенька. Она вытащила из облупившейся хозяйственной сумки "давлемерку" (так в детстве называла аппарат Рива-роччи) и больно стянула отцовскую руку черной манжетой.
– Да здоров я, здоров... – отталкивал старик дочь.
К чему мерить давление, пусть оно хоть сто раз напомнило о себе?! Ведь Жени уже нет – и не только в этой комнате, нет нигде, даже в малоправдоподобных, как полагал мальчишкой, Северо-Американских Штатах. Но это не могло случиться, несмотря на телеграмму, странно-протяжные звонки и заокеанский вопль Надьки. Это случается не так. Вон сколько мучилась Бронька. С Бронькой действительно было это. Или когда утонул отец... Там была река, и потом запечатанный гроб... Или мать... Пусть ее не нашел, но был морг со штабелями трупов. И на последней войне мертвых можно было потрогать руками. Все это были смерти... Но Женя, живая Женя, которую любил и мучил, которой ничего не прощал, с кем простился, не примирившись... Разве с Женей это? Разве Женя теперь будет не с Челышевым, а со всеми ними, давно ушедшими от Челышева?
Вдруг осознав, что никогда больше не увидит жену, старик закричал:
– Уходите все! Все – вон отсюда!
Но Машенька сжимала грушу, приговаривая:
– Папа, не крутись, не дергайся... – И вдруг, побледнев, шепнула мужу:
– Зови неотложку.
Так Павел Родионович очутился в палате на одной из шести коек. Его поместили возле окна. Было еще тепло. Челышев не казался самым безнадежным, только старым и несчастным. Возраст и горе – не повод ложиться в кардиологию. Но в тот вечер у него просто не было сил спорить с дочерью.
– Пойми, я на вас всех не разорвусь! – сердилась Машенька. – Кто за тобой присмотрит? А там – уход...
Старику хотелось одного: плыть на своей широкой тахте, как на плоту, и медленно, еще медленней, чем рапидом, сызнова пропускать через память кинокадры с Женей. Он не мог объяснить Токаревым, что не боится смерти. Куда страшней пустая квартира. Но и квартира покамест не пустует, потому что старик населяет ее Женей. Женей во всех временах, ракурсах и платьях.
Дочь и зять опасались оставить его, беспомощного, неухоженного, со взвинченной гипертонией, и на неотложке перевезли в эту палату, где вспоминать жену было трудней, но зато легче готовиться к собственной смерти. Только что двух больных выкатили отсюда в реанимацию, и это событие служило поводом для шуток, а ночью повергало палату в бессоницу.
Старик тоже не спал, хотя был безразличен даже к загрудинной боли первому симптому инфаркта. Мучило другое. Ведь не договорили, ничего не выяснили, все обиды с претензиями оставили до ее возвращения, и вот...
Ему все еще казалось, что Женя жива, словно их ссора перечеркнула ее смерть. И потому что Челышев знал: Жени нет, но все-таки в это верил, покоя не было, давление не падало и горячая, острая, точно шампур, боль не остывала.
"Ну и помру..." – утешал себя, и становилось горько, что не открыт благодати, не верит в будущую жизнь и, стало быть, уже не увидит Женю... Не проводил до могилы, не поцеловал, не кинул земли на гроб. Или Женю сожгли? Ничего эти американцы не пишут. Понимают, что сгубили Женю...
Время в палате еле текло. Больные лениво переругивались или невесело подтрунивали друг над другом. Их шутки не задевали старика. Он непрерывно думал о кончине жены. Мысли изнуряли Челышева, однако удерживали здесь, по эту сторону жизни, в третьей терапии, на койке с приподнятым изголовьем.
"Отчего? Зачем? Кто виноват? – вспыхивало в его мозгу с неумолимостью светофора. – Стенокардия? Тяжесть долгого перелета? Волнение перед встречей с Надькой? Но с грудной жабой живут, в Америку летают, и какое такое волнение, если Женя и Надька дружили всего полтора года, к тому же тридцать лет назад?! Или смерть Жени – возмездие? В сорок пятом году не уехала, изменила своей планиде, а теперь, когда одумалась, оказалось: поздно?! Но если судьба Жени была в Америке, значит, ее годы со мной – ошибка? Все двадцать восемь лет впустую? Ну хорошо, в Москве мы изводили друг друга. Я ревновал ее ко всем и мучил как мог. Но ведь в Сибири она казалась счастливой..."
– В Сибири у нее не было выбора. Она была ссыльной, – сказал вслух, и грудь вновь будто пропороло горячим шампуром.
Впрочем, оставались кое-какие земные заботы, и старик заставил себя вспомнить о Токаревых. Время от времени дочь и зять возникали возле его койки, но он их как бы не замечал. А тут понял: пока правоспособен, то есть может поставить подпись, надо хоть на бумаге съехаться с Машенькой. Все же хоть какая-то от него польза: квартира останется.
...– Лучше бы родственный обмен, – потупился зять. Деликатный разговор угрожал затянуться, а Токарев заскочил к тестю с творогом и термосом всего на минуту.
– Что такое – родственный? – спросил старик с досадой. Он считал: довольно, мол, его согласия, а пути и средства – это забота живых.
Зять, не присаживаясь, стал объяснять, что родственный обмен, по сути дела, обмен фиктивный. Пашет прописывается к Маше, а Светка – к Пашету, но все пока живут на своих прежних местах.
– Пока?.. Ну, иди. Пока... – буркнул Павел Родионович и спустил ноги на пол, хотя вставать не велели.
– Ты чего это, батя, раздухарился? – спросил лежавший наискосок от старика худой небритый парень. Закинув руки за голову, он дышал тяжело, будто отбегал два футбольных тайма. Парень в самом деле был форвардом провинциальной команды, и первый инфаркт застиг его два года назад во время игры. С тех пор бедняга не покидал больниц, перенес второй инфаркт, и вот теперь, в ожидании третьего, пробился в московскую клинику.
– Вроде не твой сын, батя. Похож слабо и к тебе без уважения...
– Зять, – ответил старик, чувствуя вину перед футболистом. Престарелых неохотно берут в больницы, но при этой работала Женя, и Машенька тотчас вытребовала отцу приоконную койку, куда собирались положить форварда.
– А ведь я не сразу допер... – прохрипел парень. – Гляжу, в зятьке что-то не тое... Еврей? Да?
– Крещеный, – сам не зная зачем, сказал Челышев.
– Это, дорогой коллега, дела не меняет. Помните, конь леченый, вор прощеный?.. – раздался звонкий голос слева от старика. Там лежал маленький плотный мужчина с черно-сивой копной волос и угольными цыганистыми глазищами. Впрочем, слово "лежал" не определяло положение соседа. Скорее он ерзал, но и ерзал не долго. Тут же вскакивал, выбегал в коридор, возвращался, пританцовывал в проходе между койками, ударял себя по пяткам и ляжкам, пел похабные частушки и сам же радовался, как мальчишка, впервые услышавший жеребятину.
– Ох, и здоровенный у тебя гвоздь в жопе, Филипп Семенович, – удивлялись больные.
– Давно зятек учудил? – спросил цыганистый мужчина. – У меня жена тоже в церковь бегает. Но это она с детства...
– Теперь многие к вере обратились. Модно... – сказал старик, отлично зная, что все куда сложней и серьезней. Ему не терпелось отвязаться от соседа.
– Да, мода страшная штука, – согласился живчик Филипп Семенович. – Но держится она, дорогой коллега, сезон – два. А тут нам как будто предрекают религиозное возрождение. Боюсь, новые пророки тоже попадут пальцем в небо. Что с возу упало, то – сами знаете... А жаль. С религией поспокойней. Ведь поглядишь вокруг – жуть берет. Сплошь воровство и пьянство, пьянство и воровство. Удержу никакого. Я бы сам в Бога поверил, если б Он хоть на процент нас обуздал, а тех, кто к пирогу ближе – процента на два. А то ведь разграбим страну. Да что там!.. Сам не пойму, как до сих пор не растащили Россию? Ведь давно ничего не производим; только потребляем да потребляем. Тут бы Церкви нас усовестить. Но что она, бедняжка, может? Тыщу лет Россией правила, а скинули чуть ли не в один день. Почему – не объясните?
– Укоренилась недостаточно...
Изнуренный горем и бессоницей, старик не был готов к разговору.
– Десяти веков ей недостаточно? – усмехнулся Филипп Семенович. – Нет, это потому, что вера не была крепка. В России никогда Бога не почитали. Пушкин что писал? У него в "Гаврилиаде" Христос – сын дьявола.
– Баловство. Бесился по молодости лет...
– Ничего себе баловство, хоть и вольтерьянское... Попробовал бы сейчас кто-нибудь сочинить, мол, мы духовные дети не Ильича, а, скажем... Ну да ладно... Нет, Николай Палкин либерал был. Простил такое. Но вот чего не пойму: если полтора века назад умные люди в Бога не верили, с чего же правнуки их поверят? Нет, не поверят. А если какие крестятся, то, честное слово, от пустоты жизни или вот, как ваш зятек, дабы вовсе отъевреиться.
– В Царствии Небесном несть ни эллина, ни иудея...
– Да. Но мы, коллега, не в Царствии Небесном, а в русском государстве, где не то что евреям, а даже славянам нет житья.
– Но с моим зятем, поверьте, не просто...
– Просто, дорогой. Просто. Я сам еврей, – перешел живчик на шепот. Правда, не крестился. Комсомольцем был. "Долой, долой раввинов, долой, долой попов!.." Не пели? Религия наизнанку. Вы какого года? Второго. Я на червонец моложе. По своему тогдашнему разуму чуть в партию не подал. Спасибо, в тюрьму закатали. Нет, не надолго. Больше в ссылке загорал. На механика выучился, оклемался, а там война и прочь судимость... Воевали? Полковник? Ах, капитан? Небогато. А где? Подходяще. Драпануть, – он совсем приглушил голос, – не собирались? Нет, не из Харбина – из Вены?..
– В голову не приходило, – нахмурился старик не только оттого, что разговор становился чересчур вольным, а потому, что вплотную приблизился к далекому Надькиному отъезду и, значит, к смерти Жени.
– А я в Германии ночей не спал, и все же не рванул. Жену пожалел. Перед самой войной сошлись. Вернулся, смотрю: не стоило ради такой возвращаться. Женился на следующей – и эта не лучше. Только после третьего захода понял: женщины – низменная нация. Теперь держу их на дистанции. Никаких привязанностей. Переспали – и будь здорова! Вообще на молоденьких перешел. С этими – проще. А вы?
– Я свое откупался.
– Не понял?..
– Где-то у Толстого дети зовут старика на пруд, а он им: я свое откупался.
– Зря. Если ноги отсюда унесу, по-своему лечиться буду. На востоке как врачуют? Старику с каждого бока по девочке подкладывают.
– Где же на всех наберешь? Пенсионеров вон сколько...
– А сексуальная революция на что? – засмеялся живчик, но тут же помрачнел. – Мне два "звонка" было. Зарубцевались. Эскулапы проглядели. Извиняются: "Вы, Филипп Семенович, на ногах свои инфаркты перенесли". А вам "звонило"? Нет? Растревожил вас? Отдыхайте. Здесь это можно... "Я и у себя мог. Но теперь вот он, мой дом... – подумал старик и, повернувшись на правый бок, накрылся с головой. Мешало солнце. – Вот так бы и отойти. Тихая смерть под казенным одеяльцем, сбившимся в серо-застиранном пододеяльнике. Незаметно, никому не докучая, прямехенько в морг, оттуда в новый загородный крематорий. И никаких отпеваний, как у Броньки. Женя не приедет и не станет, словно донна Анна, "кудри наклонять и плакать...". У Жени были гладкие волосы... Я ее убил. Я один. От меня она сбежала за океан, а в ее годы не бегают..."
На другой день старик объявил дочери о родственном обмене. Ворочавшийся рядом на койке Филипп Семенович демонстративно отвернулся, но Челышев чувствовал, что тот ловит каждое слово.
– Глупости, – рассердилась Машенька. – Светланке шестнадцать лет. Кто ей выпишет отдельный ордер? Меньше мудри и лежи тихо.
– Но что-то надо делать...
– Не что-то, а нечто определенное. Ненавижу паллиативы.
– Тогда поступай, как знаешь...
Чтоб голос прозвучал уверенней, старик сел на кровати и заметил, как недовольно дернулась спина Филиппа Семеновича.
"...Серость, тоска, холод. Боже мой, что связывает меня со всем этим?" писал в растрепанном гроссбухе Токарев. Он сидел в маленькой восьмиметровой комнате пятиэтажного панельного дома. За окном действительно было серо, тоскливо и холодно. Мелкий невидимый дождик сыпался на штабеля сваленных в овраг пустых ящиков, и ничего, кроме оврага и ящиков, на свете, казалось, не существовало.
"Ненавижу такое время – ни зима, ни осень. Хоть бы повалил снег, продолжал писать Григорий Яковлевич. – Семь недель назад, когда мы сюда въехали, я, несмотря на спешку, смерть Жени, болезнь Пашета, стоя перед этим окном, чувствовал Бога. Там вдали, за ящиками, небо было синим и само спускалось ко мне. Что-то в нем было вечное и одновременно юное, словно оно было сотворено только что, но сразу и навсегда. Не окунаться в дневник мне тогда хотелось, а через распахнутое окно вбирать в себя мое небо и ждать, когда перешагну подоконник и пойду по этому синему полю так же просто, как хожу по земле. Нет, не моя душа, а я сам, в точности такой же, каким стою в этой комнате...
А теперь дождь или изморось (через два немытых стекла не разберешь!) туманит пространство и отвращает меня от здешних мест. И Бога я уже не вижу...
А как с Ним было хорошо!.. Всё, как говорят в глубинке, было рядышком, и я был неразделим с русским народом и прощал ему старые и новые обиды... Но вот по-дурацки умерла Жека, Машу выгнали со службы, переменилась погода, ко мне вернулись давние страхи, и я вновь ощутил, что я здесь чужой. Так было уже после Литинститута, когда не брали на работу. Но тогда я считал: это из-за биографии, а не национальности. Лишь во время хрущевской оттепели понял: лучше отсидеть в лагере, чем родиться евреем. Еврейство – это отчуждение на всю твою жизнь, и жизнь твоих детей, а возможно, и внуков.
...Однажды мы с Пашетом и дочкой спешили пустым загородным поселком к последней электричке и вдруг услышали за спиной пьяные голоса. Светка прижалась ко мне, а я не мог ее успокоить – сам был напуган. Пашет же плелся как ни в чем не бывало и спорил со мной, не понижая голоса. Я догадался: он спокоен не потому, что уже стар и не страшится смерти. Просто уверен, что свои его не тронут. И они действительно прошли мимо.
Потом в электричке я похвалил Пашета. Ведь пьяные, как собаки, носом чуют, кто их боится. Я признался тестю, что если ночью слышу ругань, всегда ожидаю: начнут бить...
Пашет нахмурился. Очевидно, его оскорбляла моя откровенность. Впрочем, он до сих пор недоумевает, почему я крестился. Говорит: мол, всю свою жизнь я выдавливаю из себя жида. Но разве я виноват, что не чувствую с евреями кровной связи? Не хочу плохо думать о родственниках, но вдруг Альф поскупился на докторов и Жеку не спасли... А как ее хоронили? Какое положили надгробье? Или ее кремировали? Тогда где урна? Надька ничего не пишет, и мне стыдно смотреть в глаза тестю, словно это я отправил Жеку за океан.
...Ну что ж, пусть Пашет думает о моем крещении что угодно. Но я русский интеллигент, и мне, честное слово, чужды местечковая узость, еврейский прагматизм и зазнайство. Я взращен российской словесностью и мой Бог – Бог русского народа!
...Мы пришли с Машей в православную церковь и сразу же поплатились. Кто-то стукнул в институт об отпевании тещи. Там провели конкурс. Машу, естественно, провалили и теперь никуда не берут. А меня все так же не печатают, и денег нет никаких. К тому же мы въехали в ужасную квартиру с чужой грязью и запахами. Представляю, как разнервничается Пашет. На днях его выпишут. Дольше держать старика в клинике просто неприлично...
А ведь прежние хозяева сами вызывались привести жилье в порядок. Но Маша спешила, боялась, что Пашет вот-вот преставится, взяла за ремонт деньгами, а деньги профукала... Зря мы обменялись. Как взберется тесть на пятый этаж? И вообще не надо было его укладывать в клинику. У себя отлежался б, раз ничего опасного у него не нашли.
А то я занял отдельную, обещанную Пашету комнату, пододвинул к подоконнику стол, и теперь жаль переселяться в проходнягу. Подлец-человек, привыкает к уюту...
Седьмой час. Пора везти передачу. Хотя то, что здесь варим, вряд ли калорийней больничного..."
Захлопнув гроссбух, Токарев поднялся не сразу. Не хотелось ему ехать в больницу. Только что отшумела четвертая арабо-израильская война, и подогретое газетами и телевиденьем нерасположение к евреям весьма ощущалось в палате. К тому же туда недавно положили щуплого, подавшего на выезд семита с крючковатым носом и курчавыми пейсами. При нем Григорий Яковлевич чувствовал себя скованно.
По счастью молодой еврей куда-то вышел, зато форвард бушевал вовсю:
– Везет пархатым! Здесь насрали, теперь к себе бегут...
Появление Токарева его не смутило.