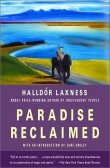Текст книги "Каменщик, каменщик"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Правильно отвечает. Молчи. И нечего обзываться... – Старик сердится, забывая, что каменщиком его окрестили не дочка с зятем, а Женя.
"Каменщик... А что было делать? Поскольку с Климом не ушел, только и оставалось, что строить – в прямом и в переносном смысле. А если уж я каменщик, то чего мне отсюда уезжать? Здесь строил, получу свой камень и под ним лягу. Нечего мне примазываться к другой державе. Там я не строил, доли моей в ее богатстве нету, и нехорошо побираться в чужом краю. К чему новое горе искать, когда старого по горло хватает?! Ребятам бросать неловко... Ничего, перебьются. Будто легче везти меня с собой? А до богадельни или крематория я уж как-нибудь дотащусь..."
Так старик сидел, не замечая капели, и хотя балконную дверь больше не закрывали, он был уже начисто отделен от всех семейных новостей, раздоров, примирений и новых скандалов, что у Токаревых чередовались с удручающей последовательностью.
– Оглох он, что ли? – удивлялась Мария Павловна.
– Повредился... – Внучка крутила мизинцем у виска.
– Знаете, что? Давайте его женим, – предложил зять.
– Ну и чудик ты, папочка, – захихикала Светланка, но Мария Павловна стала тотчас перебирать возможных невест.
– Только надо деликатней, – сказал Токарев. – После Жеки ему не просто...
– Да катись ты со своей Жекой. Подумаешь, цаца! – закричала Машенька, но тут же испугалась, что услышит отец. – Прости, Гришек... Нервы. Обрывай меня, если что...
– Папа, тебе нельзя одному, – сказала она вечером, входя в отцовскую клетуху. Старик лежал. Мария Павловна села рядом, и он погладил ее по седой, давно некрашеной копне волос.
– Девочка, я в полном порядке. Никого мне не надо.
– Тогда поедем. Еще можно переиграть. Не хочешь зависеть от Надьки? Я выхлопочу тебе пенсию. В Америке с определенного возраста всем платят пособие, а ты к тому же воевал с фашизмом. Еврейские общины это ценят.
– Поедем, Пашет, – сказал зять. Он вошел незаметно. Худой, все еще красивый и по-юношески застенчивый, стоя, касался головой притолоки.
– Нет...
– Но почему?
– Здесь помирать проще.
– Да ты всех нас переживешь, – улыбнулся Токарев. – Но если даже... то ведь там – рядом с Жекой...
– Уйдите. – Старик отвернулся, и дочь, немного подождав, вышла вслед за мужем.
Что написал в ОВИР писательский секретариат, осталось тайной, однако разрешение Токаревы получили. Правда, на сборы им дали всего десять суток. Начались кавардак и спешка. Летний день мешался с короткой ночью, а входная дверь не закрывалась, как при покойнике. Проходную комнату завалили всевозможными чемоданами – новыми, синтетической кожи, купленными в долг, и старыми, дышащими на ладан, так называемыми еврейскими, поскольку выдерживают поездку лишь в одну сторону, а также ящиками, корзинами, картонными коробками, узлами и просто не упакованным еще барахлом.
– Куда вы столько?
– Это же курам на смех!
– Ради Бога, не увлекайтесь!
– Только минимум-миниморум, – советовали знакомые.
– Правда, Маша, перебарщиваем. Надька нам все необходимое предоставит, урезонивал жену Токарев.
– Гроб она нам предоставит, – огрызалась Машенька.
На балкон трудно было пробраться, а в комнате Челышева тоже паковались. Поэтому он пристраивался где-нибудь в углу и на все вопросы бормотал нечто невнятное. Со стороны казалось, что старик выжил из ума или пребывает в прострации.
– Знаешь, я поняла, почему отец не согласился,– шепнула Мария Павловна мужу. – Он оберегает свои воспоминания.
– Вряд ли... Вспоминать можно и за границей.
– Но он там никогда не был. Он весь отсюда. Его память накопила только здешние впечатления. Все его мысли, страхи, даже бредни не годятся на экспорт.
– И здесь его, можно считать, тоже не было... Он вечно стоял в стороне, ни во что не ввязывался. А теперь даже на улицу не выходит. По-моему, все гораздо проще: мы с тобой в глубине души надеемся вернуться, а он этого уже не просчитывает. Для него – "другой не будет никогда", – помрачнел Григорий Яковлевич, вспомнив ночь отъезда из Сибири, Надькину гитару и Жеку, еще совсем юную, даже моложе Ленусь.
– Не то, не то, – упрямилась Мария Павловна. – Папа семьдесят – или сколько ему? – лет прожил здесь, и все здешнее творилось при нем. Здесь он жил подневольным, как вы с Женькой его прозвали, каменщиком. Здесь забивался в нору. Но здесь! И теперь он все – и то, что прожил, и то, что нынче творится, – обмозговывает. А чем ему в Америке заняться? Там никто его не поймет, и он что ему куда важнее! – никого и ничего не поймет. Там у него отнимут последнее – память и угрызения совести. А что дадут взамен? Шмутки? Лучшие удобства? Географические впечатления? Они ему безразличны. Нет, в Америке его никогда не было и делать ему там нечего.
– Но и нас там не было.
– То-то и плохо. Не было – значит, не будет. Боюсь, Гришек, все зря. Зря, – повторила Мария Павловна, взглянула на мужа и, вместо того, чтобы разрыдаться, холодно отвернулась.
"Мы едем на чужой счет, – уже не в гроссбухе, а на случайно подвернувшемся листке наспех писал Григорий Яковлевич. – Лена дралась с дружинниками, когда они ее выволакивали из Центрального телеграфа. Еврейские ребята держали голодовки, пробирались в приемные Верховного совета, МВД, ЦК и вот пробили брешь. Благодаря им я выезжаю из России, и даже не в Израиль. Выходит, я просто-напросто захребетник. А ведь я – русский писатель, человек совести. Я пытался срастись с Россией, я болел за нее душой, но вдруг понял: я ей не нужен. И подался за океан. Смешно и глупо... Что я знаю о той стране? Кому я нужен там, кроме Надьки? Да и Надьке уже вряд ли...
Маша права: мы жили здесь, а там нас не было. Когда под пятьдесят, не начинают жить заново. Пашет тоже прав: отъезд смахивает на капитуляцию. Жил, страдал, надеялся и все перечеркнул одним махом...
Можно, разумеется, заняться само-психо-терапией, убедить себя: мол, еду в Америку бороться за свободную Россию. Дескать, организую там журнал и вытащу русскую литературу из подполья на свет Божий. Но ведь никакой я не борец и не организатор. Укатала меня здешняя жизнь, а к тамошней я уже не годен.
"Два чувства равно близки нам", – писал Пушкин. – "Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам". Праха отца я, разумеется, не искал, но к матери вскоре после войны поехал. Тетя Сусанна помогла. Еще ходили "пятьсот веселые" составы, то есть те же теплушки, в которых мы убегали от немцев. Прямо с вокзала я отправился на еврейское кладбище, но от него ничего не осталось. Рядом строили завод, и неясно было, кто своротил кирпичный забор и уничтожил памятники – немцы, местные жители или строительные бульдозеры.
Часа четыре я ползал по бывшему погосту, пока не нашел несколько кусков мрамора с почерневшими буквами "О", "Р", "А" и "Б". Составляли ли они прежде "ДОРА ТОКАРЬ" – не знаю. В тот же день я уехал и больше в том городе не появлялся. Сегодня он раза в три больше довоенного. А мраморные осколки затерялись при многочисленных переездах...
Итак, либо неправ Пушкин, либо я выродок, потому что мне горько оставлять здесь не гробы и не пепелища, а что-то иное, чего даже выразить не могу... Мне жаль не того, что покидаю, а того, что здесь наступит и пройдет без меня. Помню, сокурсники-инвалиды жаловались, что ноют оторванные ноги. А как быть с душой? Протезом ее не заменишь! Некоторые хорохорятся: уедем и тут же забудем эту страну. А со мной, заранее знаю, все будет иначе. Весь останусь тут. Думать буду только о здешнем. Каждого приезжающего стану умолять: расскажи, как там?! Кто что думает, делает, пишет? На последние центы буду покупать "Правду", которую годами не разворачиваю, или разрыдаюсь над пустяковой рецензушкой в "Литературной газете". И затоскую по очередям за водкой, по долгому и бестолковому русскому застолью, по пьяным в пустых электричках, и, наверное, никогда до конца не разберусь, почему уехал..."
Но вот визы выкуплены! (Заимодавцы, не тревожьтесь! Надька так ли, этак вас отблагодарит!) Вещи упакованы и свезены на таможню. Аттестат зрелости без всяких экзаменов, к великой радости Светланки, получен. Остался последний вечер – проводы.
Народу набилось больше, чем год назад на поминки. Гость стоял стеной, и старик надеялся в тесноте затеряться. Но среди новых токаревских друзей-отказников, которых мурыжат по несколько лет, и среди тех, кто недавно подал или раздумывает подавать или повременить, сновали бывшие приятели. Они надирались и скандалили. Особенно неистовствовал гривастый, который некогда обещал снять печаль с души старика. Теперь, обнимая и тряся Челышева, он кричал: мол, Павел Родионович – истинный русский мужик и поэтому остается. А те, кто бежит, – крысы, хотя Россия никогда не потонет. И вообще не по-христиански бросать одинокого беспомощного старца...
Еще тормошили Павла Родионовича бой-баба и другие подруги Жени, обещая всяческую поддержку – кто от чистого сердца, а кто от возвышенности минуты или лишней рюмки. Когда же он все-таки отбился от них и протиснулся в кухню, ему снова не повезло. Там, обхватив сестру здоровенными ручищами, белугой ревел железнодорожник Витька, а его немолодая, загородного вида супруга дубасила викинга по широченной спине.
...Все-таки к ночи гость стал редеть. Часам к трем ушли последние. Но ложиться было поздно. Светланка прикорнула, не раздеваясь, а Машенька с зятем бесцельно слонялись по квартире, такие вымотанные, что не могли подмести пол. А может быть, из суеверия не хотели.
– Папа, ты замучился. Не провожай нас. Ложись, – вздохнула Мария Павловна. – Я попросила дворничиху. Она все здесь приберет.
– Правда, Пашет, не стоит. Из Шереметьева тяжело добираться, – сказал и тут же смутился Токарев. Получалось, будто он суеверно боится за себя и своих. Мол, провожал Пашет Женю, а что вышло...
– Хорошо, не поеду, – кивнул старик.
Зазвонил будильник, вскочила внучка. Начались объятья, крики, слезы, суматошные поцелуи... Но вот захлопнулась дверь, и Челышев остался один. Он прошелся по квартире и, не поверив в мифическую дворничиху, принялся за уборку. Все равно, мети – не мети, Токаревы не вернутся. Работы хватило до самого вечера.
Потом, не боясь Машиных нареканий, он забрался под душ, пустил его до отказа, но вдруг почувствовал себя худо и еле добрел до тахты. Отлежавшись, он решил сменить постельное белье, но оставшиеся в стенном шкафу простыни оказались в дырьях. Павел Родионович подумал, что проворочается на них до утра, однако уснул тотчас.
В эту ночь старику приснился Клим. Он снова надел рясу и стал неправдоподобно огромным, каким казался Пашке Челышеву только в далеком детстве. Но борода у Клима была не рыжая, а сплошь седая, словно у самого Господа Бога. Где стоял дядька – в помещении или под открытым небом – тоже осталось неясным. Клим был какой-то на себя не похожий. Впрочем, старик не стал слишком допытываться, дядька родной перед ним или не дядька.
– Худо мне, Климентий Симонович, – сказал старик. – Видишь, ни к чему не пришел... Скверно свой век прожил... И, кажется, не подличал, не ловчил, никого локтями не распихивал. Ни в какое начальство не лез. Напротив, из норы, можно сказать, не высовывался. А Жене, жене моей, со мной было скучно, тошно, и ребята окрестили меня каменщиком и, видишь, бросили. Не знаю, у них самих выйдет что... Уже немолодые.
– Не выйдет, – сказал Клим.
– И у меня не вышло... Что за собачья жизнь? Все несчастны. Может, стоило уйти с тобой, всегда мальчишкой был?..
– Но-но... Не спеши. Старый, а торопишься. Скулишь и обижаешься, как дите, – загудел Клим. – Ну, назвали каменщиком – велика обида? А что было делать, если окромя тюрьмы ничего не строили? На полу, что ли, валяться? И что со мной не ушел – тоже хорошо. Человеку жить надо дома и помирать опять-таки не в гостях. Хотя и дома, и в гостях – к одному пристанем...
– К смерти с большой буквы да еще в разрядку? – обрадовался Челышев, потому что дядька как-то уж чересчур легко расправился с "каменщиком".
– Верно, – засмеялся Клим. – К СМЕРТИ И К БОГУ...
– Ты что, Климентий Симонович, вернулся в Церковь?
– Вернулся.
– А зачем? Не мог разве с Господом беседовать через фортку?
– Мог, да слабый я. Жизнь мою, Пашка, прожить – это не поле, а целое море перейти. Так что мне без Церкви все равно, что одному в плоскодонке по бурным волнам пускаться. А Церковь – Она, словно океанский пароход, где у каждого своя каюта.
– Разного класса? – усмехнулся Челышев.
– Все дерзишь? Старый, а не унимаешься?.. Ну, ошибся: не корабль, а большой плот, где уж в точности все равноприближены.
– Кроме тех, что с краю...
– Ох, прибери тебя лукавый! На краю плота всегда самые смелые, те, в ком веры больше.
– Вроде тебя, расстриги, что сорвался, а не потонул?
– А хоть бы и так... Отстал я, а все же воротился. Вот мне и рады. Блудный сын дороже неблудного.
– Значит, и меня примут? – спросил Павел Родионович.
– Не сомневайся. Там по доброте всех берут. Но ты, Пашка, не блудный. Ты просто дурень. Через фортку или с балкона разговаривать с Богом захотел. И то, когда в жилах зябкость образовалась и косточки гнуться перестали. Много вас, хитрых, в самом конце, за минуту до отбоя, воротиться спешат. Ответь, как на духу: от лени через фортку молиться решил или ноги до храма не донесут?
– И ноги... и неловко... С чего это вдруг напоследок прибегу? Стыдно.
– Стыдно – это хорошо. Христос с тобой, давай через фортку. А лучше бы через кого из наших. Мы сами грешные и тебя, шкодливого, поймем. На общем плоту за тобой присмотрим.
"Наверное, Леокадия ему рассказала", – пугается старик.
– Не трясись, Пашка, Господь всемогущ и добр. Он тебя и всех тебе подобных распускает как бы на каникулы. Знает, что, как в школу первого сентября, прибежите.
– А нет – силой приведет?
– Да на кой Господу тебя тащить, если ты сам к Нему бежишь, хоть и через фортку.
– А что мне будет?.. Там смола у вас или что?..
– А ничего. Ничего не будет. Хватит с тебя. Настрадался. Теперь отдохнешь. Понял?
– Понял... – шепчет старик и просыпается.
Клима нет. В комнате пусто.
– Поблазнило... Подразнил – умрешь, мол, легко и просто... – сердится старик и обреченно глядит в окно, в белесый, почти парной туман, который обещает боль в затылке, жжение за грудиной и неутоленные муки все еще живой совести.
1974-1978 гг.