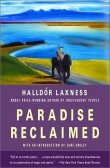Текст книги "Каменщик, каменщик"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Перестаньте, – сказал футболисту старик. – Уйди, – тут же шепнул зятю, но тот продолжал распаковывать передачу.
– Лишнего, батя, не скажу. Бывают и у них неплохие ребята. А этот родину продал.
– Ша. Чей концерт?! – раздалось из дверей. И, пропустив вперед рослую молодую женщину, в палату в обнимку с очкастым евреем ввалился Филипп Семенович. – Кто родину продал? – прижал он локти к бокам, словно собрался драться.
Форвард угрюмо горбился на койке.
– Учти: второй раз услышу – врежу, – пригрозил живчик.
– Офигел, да? – спросил мужчина, лежавший у другого окна. Этот не столько лечился, сколько норовил заболеть всерьез. Подолгу высовывался в фортку и жадно глотал сырой ноябрьский воздух. На его фабрике началась ревизия.
– Чего, Филя, ерепенишься? – повторил симулянт. – Парень верно сказал. Разные они. У меня двое каждое лето дачу снимают, так люди хорошие.
– Небось дерешь с них?
– Да нет. Они ж как свои... А те, что едут, изменники.
– Чепуху несешь, – раздался из другого угла непререкаемый, очевидно, хорошо настоенный на окриках голос. Туда с утра лег корпулентный мужчина, должно быть, немалый начальник, потому что на вопрос, открывать фортку полностью или чуть-чуть, он отмахнулся – мол, все равно, вечером ему освободят отдельную палату.
– Уезжают, и хрен с ними. Или хочешь, чтоб остались? – усмехнулся корпулентный товарищ.
– Маркушка, не обращай внимания, – громко сказала молодая женщина. Она еще не присела, и Токарев любовался ее ладной фигурой и ловко упакованными в высокие замшевые сапоги ногами.
"Жаль, Пашета выписывают и я ее больше не встречу. Какое удивительное лицо! И на еврейку совсем не похожа..."
– Это вы изводите Маркушку? – повернулась женщина к симулянту.
– Ленусь, успокойся, – сказал молодой еврей.
– Не волнуйтесь, деточка... Эй вы, слышите?! – обратился Филипп Семенович ко всей палате. – Повторяю: первому, кто обидит Марика, отвешиваю пару апперкотов и лично обеспечиваю вынос...
Живчик закатал пижамную куртку до бицепса.
– Заткнись, Филя. Тут не ринг, а больница, – прохрипел форвард. – Тебя не трожут – не лезь.
– Как не лезь, когда я сам еврей?!
– Иди врать... Что ж не сказал? Не-е, заливаешь, – протянул форвард без уверенности.
– А вот и еврей! – воодушевился живчик, и Токарев почувствовал, как Филя горд, что уже не скрывает своей национальности. "Мне бы так... – подумал с горечью. – Но что я могу? Пригрозить дракой? Но тут в самом деле больница. А дискутировать бессмысленно. Они считают меня чужим, хотя я здесь родился и хлебнул, может быть, больше любого из них. Хорошо Пашету – он свой. Хорошо Ленусе – уедет со своим сионистом в Палестину. А я? Но какая поразительная женщина! Азартная. Глаза горят. Недаром Филя перед ней распавлинился".
Филиппа Семеновича и впрямь прорвало:
– Ах, дети мои, гляжу на вас и молодею. Вот он, мой народ! Уедете, сабру родите.
– Да он подохнет. Там жара, – хмыкнул форвард.
– Здесь не умер, там сто лет проживет. Здесь климат хуже.
– Да ну тебя, Филя!
Футболист слез с койки и поплелся к двери.
– Сам не сыграй дубаря, – засмеялся Филипп Семенович. – Ах, Марк, смотрю на тебя и вспоминаю детство. Такие, как ты, были у нас в местечке. Ешиботники назывались. Носились с этими еврейскими семинаристами, как со святыми. Приютить, накормить ешиботника считалось великой честью. Они, как пастухи, из дома в дом переходили. И ты, Марк, такой: очки, пейсы...
– Он – кандидат наук, – засмеялась молодая женщина. Сидя на корточках, она наводила порядок в тумбочке мужа. Токарев не отрывал от нее глаз. "Как же так?! – удивлялся себе. – Я в полном прогаре. Правда, "Попытку биографии" дописал, но ума не приложу, что с ней делать? Теперь сел за большой роман и снова трясусь: вдруг придут с обыском. Наверняка я у КГБ на примете. А денег нет и ждать неоткуда. Разве что отдать "Биографию" на Запад? Но возьмут ли? Здесь я не свой – оттого и не печатают. А там кому нужен? Но допустим, "Попытку" издадут, а она не прозвучит. Что тогда? Ни денег, ни славы и лишь узкая известность среди офицеров госбезопасности... А время уходит. И у нас, и за рубежом публикуют кого ни попадя, а Григория Токарева как будто нет в живых. Уже и не помнят такого. И вдруг после всех катастроф я глаз не свожу с чужой женщины! Смешно? А может быть, чудесно? Вдруг в ней мое спасение!?"
– Это что?! – вскрикнула Ленусь и вытащила из-под стопки книг лист бумаги, на котором Токарев, сощурясь, разглядел неумело выведенные череп и кости.
– "Убирайся в свой Израиль, жидовская харя, а то совсем обрежем!" – прочла она вслух. – Вы писали?! – накинулась на симулянта.
– Анонимками не занимаюсь, – ответил тот с достоинством.
– Кто-нибудь из соседней палаты подложил, – вздохнул Филипп Семенович.
– В конце концов этого следовало ожидать, – усмехнулся Марк.
– Чепуха, – сказал живчик.
– Нет, не чепуха, а реальность. Антисемитизм ведь никогда не исчезал. Лишь на какое-то время припрятался. Но после войны все, дорогой Филипп Семенович, обнажилось. Сначала нам закрыли доступ в университет и в привилегированные вузы. Затем просто в хорошие вузы. Потом перестали брать на работу. Теперь эти бумажки. А скоро закричат в лицо: "Бей жидов!" и начнут спасать Россию древне-дедовским способом...
– Маркуша, перестань волноваться, – сказала женщина.
– Ленусь, я совершенно спокоен. Я лишь объясняю Филиппу Семеновичу, почему мы решили уехать. Не подумайте, что из страха. В Израиле опасностей не меньше. Просто вдруг поняли, что здесь мы лишние... Три поколения еврейских интеллигентов мечтали вписаться в русскую жизнь. Они отреклись от своего Бога, от своей избранности. У них была одна страсть – стать русскими. Казалось, им это удалось. Они бредили Толстым и даже Достоевским. Да, Достоевским, несмотря на его юдофобство. Они – в том числе мы, четвертое поколение, – считали Россию своей родиной, а себя – русскими. Недоброжелательство же части низов и верхов мы относили либо к отсталости первых, либо к вынужденной реакции вторых на происки так называемого международного сионизма. Но что меня, Ленусь и всех наших друзей потрясло больше всего – это ненависть к нам не каких-то подонков или чиновников, а настоящих интеллектуалов. Да, да, писателей, поэтов, художников и нашего брата – физиков. Они безоговорочно объявили нас чужими, безродными, даже вредными для России... И тогда мы поняли: надеяться не на что, и вернулись к себе, к своим забытым истокам. Вспомнили, что мы избранный народ со своими предначертаниями, стали зубрить иврит, учить талмуд и, с мукой, с обидой оторвав от себя Россию, подали на выезд.
– Больно нервные, – пробурчал корпулентный мужчина. – Подумаешь, малость прижали, так сразу охают: свои, чужие! Вас бы, как нас, в тридцать третьем годе голодушкой поморить, что бы запели?!
– Если бы хоть сразу выпускали, – сказала молодая женщина. – Но ведь никогда неизвестно, разрешат или влетишь в отказ... А что касается голода, повернулась она к корпулентному, – то меня этим не испугаешь. Я восемь дней голодовку держала.
– Бедненькая, – посочувствовал Филипп Семенович.
– Дурачье, – сказал корпулентный. – Всех надо выпускать. Пусть едут. Наконец-то избавимся...
– Точно, – поддакнул симулянт.
– Я вам глубоко сочувствую, Марк, – вступил в дискуссию старик Челышев. Ему мешало присутствие зятя, но ввиду оголтелости корпулентного молчать тоже стало неловко. – Нехорошо, что в России всех делят на коренных и пришлых. Но, боюсь, как бы и в Израиле вам не оказаться приезжими. У каждой нации достаточно предрассудков.
– Евреи не нация, – осклабился симулянт.
– Боже мой, да у тебя сталинская каша в голове, – засмеялся живчик. – Дай послушать умных людей. Так что ты, Пашка, начал про Израиль?
– Что там свои сложности. Я несколько представляю тамошних жителей. Во всяком случае, тех, кто уехали сразу после гражданской войны. Тогда тоже выпускали со скрипом. На эмиграцию решались лишь самые отчаянные. Помнишь? спросил живчика, не назвав его ответно – Филей.
– Не помню. Я из дому убежал. Наша братва больше перла в комсомол или в партию.
– Скажи лучше – в Троцкие и Зиновьевы... – хмыкнул симулянт.
– Точно, – раздалось из другого угла.
– Точно-то – точно, но без Троцких тебе вряд ли обломилась бы отдельная палата, – с недобрым прищуром поглядел в угол Филипп Семенович.
– А у меня дед прасол был. Я бы и так не пропал, – усмехнулся корпулентный мужчина.
– Так вот, Марк, – продолжал старик, – ехали в Палестину самые решительные и смелые, но, простите, не интеллигенты, а местечковые граждане. Этим легче было подняться. Они в здешнюю жизнь не больно вросли да и благодарить Россию им, честно говоря, было не за что. Жили они замкнуто, до минимума сократив общение с чуждым миром, не слишком им интересуясь и мало его понимая. Боюсь, что, осев в Палестине, они не изменились, и с той же местечковой непримиримостью делят людей на своих и чужих, коренных и пришлых. Ребята они, безусловно, храбрые, воюют превосходно, но вот мира с арабами не добьются. Очевидно, все из-за той же провинциальной узости, зазнайства, из-за нежелания понять врага и его проблемы.
– Это клевета! Израилем руководят европейски образованные люди! – Марк даже побагровел.
– Прекратите!.. Ему нельзя волноваться, – рассердилась молодая женщина.
– Ша. Тихо. Никакого спора, – шутливо вздел руки Филипп Семенович. Молодцы, детки. Завидую вам, что едете. Но сам я, грешный, полюбил Россию и ее женщин. Ничего не попишешь. Первая жена русская, вторая и третья – тоже. Дочери записаны русскими, а внуки, может, и не догадываются, что их дед семит. Прикипела еврейская душа к славянской расе, а? – подмигнул симулянту. Правда, случалось и наоборот. Что молчишь? Старшая твоя дочка – о младшей не скажу – с прожидью?
– Ну и что? Старшой брат должон быть сверху, – хихикнул симулянт.
– Смешного мало, – раздался начальственный окрик. – Наплодили полукровков – ни туда их, ни сюда... По мне такие еще вредней.
"Бедная Светка, – подумал Токарев о дочери. – Этот зверюга на мой крест не посмотрит. Что ему крест, когда он зоологически ненавидит?"
– Выкурить всех до последнего, – заключил корпулентный потомок прасола.
– Значит, сжигать не собираешься? – спросил живчик.
– Я с Гитлером воевал, – насупился корпулентный. – Но огулом фрицевское не лаю. Полезное и у него было.
– Например, своих евреев перевел? – побледнел Филипп Семенович.
– А что мне до тамошних, когда тутошних вижу больше, чем надо?!
– ... И все-таки, Павел Родионович, Израиль – типично западное государство, – повторил Марк.
– Зазнайства бы израильтянам поубавить, – вздохнул живчик. – Пашка прав. Надо им добиваться мира с арабами.
– И с палестинцами? – вспыхнул Марк.
– С этими – в первую очередь. Соорудите им нечто вроде буфера или лимитрофа.
– Арафат никогда не согласится...
– Тогда найдите другого, посговорчивей.
– Эге... – снова раздалось из угла. – Гитлера ругаешь, а квислингов ищешь.
– А ты что, за арабов? – спросил Филипп Семенович.
– Нет. Нам арабы до лампочки. По мне пусть все черные, желтые и прочие дети разных народов мотают отсюда. Кто намылился, пусть отваливает, а кто не желает, заставим.
– Точно, – обрадовался симулянт.
– А дочку от евреечки куда денешь? – усмехнулся живчик.
– Пусть они, Филипп Семенович, успокоятся. Чуть Маркушка поправится, мы сразу отправимся в так называемое местечковое государство, – сказала Ленусь и обняла мужа.
– Вы меня не поняли, – смутился старик. – Я весьма сочувствую вашей будущей родине. Воссоединить народ спустя двадцать веков – это подвиг. Но вот что меня тревожит: те же двадцать столетий мир почти сплошь пребывал христианским. А евреи, стремясь сохранить свою религию и свою самобытность, естественно, прошли мимо...
– Христианство одно из ответвлений иудаизма! – перебил старика Марк.
– Вряд ли. Но если даже так, то ответвление стало магистралью, и, отринув христианство, теряешь две тысячи лет духовного опыта. Я не так ортодоксален, как мой зять, – кивнул старик на Токарева, – но все ориентиры, все эталоны добра и зла у меня да и, наверное, у вас – христианские. А в Израиле, действительно государстве-чуде, возведенном на крови погромов, на пепле освенцимов и на ненависти всех антисемитов, боюсь, вам будет недоставать Спасителя.
– А мы Его забывать не собираемся, – сказала молодая женщина.
– Э нет, – усмехнулся живчик. – Чего уж нет, того нет... Без иудаизма как слепишь немецких, африканских, бухарских, грузинских и еще наших российских пришельцев? Вокруг сто миллионов арабов плюс заковыка с нефтью. Так что против зеленого знамени Ислама поднимай белое с шестиконечной звездой! А Христу, хоть Он оттуда родом, через две тысячи лет нету места в Иудее.
– Вы совершенно не правы. Израиль – демократическая страна, разнервничался Марк. – При демократии все возможно. Даже иудо-христианство. Я знаю таких.
– Смотри, все-то у них есть, – подивился симулянт.
Корпулентный мужчина, видимо, хотел что-то добавить, но вдруг побледнел, приподнялся на кровати и сорвал со спинки шерстяной, в косую клетку, халат.
– Ты что? Тебе ж нельзя! – удивился симулянт, но корпулентный лишь махнул рукой и выбежал из палаты.
– Доспорились... Довели мужика... – зевнул симулянт.
– А ты бы судно ему поднес, если жалостливый, – сказал живчик.
– Он при девчонке не станет...
– Позовите его. Я выйду, – предложила Ленусь.
"Мелочи больничной жизни... Как же Пашет, когда лежал, обходился? Ни я, ни Маша санитаркам рублей не совали. При своей деликатности, наверное, страдал, бедняга..." – подумал Токарев и робко взглянул на тестя. Тот лежал вполне отрешенно.
Вдруг распахнулась дверь, и форвард втащил в палату внука прасола. Тот в распахнувшемся халате стал как-то тощей и ниже ростом.
– Х-хы, х-хы, – дышал он часто, и его "х-хы" походило на стон.
"Раз, два, три..." – стал зачем-то считать Григорий Яковлевич. Секундная стрелка на ручных часах пропрыгала четверть круга, когда корпулентный прохрипел в девятый раз.
"Почти, как пульс..." – подумал Токарев.
– Да не пугайся! Главное, не дрейфь, – Филипп Семенович подошел к койке корпулентного, но тот словно его не слышал и не то стонал, не то всхлипывал.
"Шесть... восемь... двенадцать..." – продолжал считать Токарев. Получалось сорок восемь вздохов в минуту. Теперь они напоминали бульканье, будто в легкие корпулентному набуровили воды.
– Его мутит. Подставьте судно, – сказал живчик, но симулянт отвернулся к окну, а форвард распластался на своей кровати. Видимо, и его прихватило.
– Отвернитесь, деточка. Я займусь Аникой-воином, – подмигнул живчик жене Марка и достал из-под койки фаянсовый подсов. – Смелей, паря. Два пальца в пасть и разом... Э, да ты уже зеленый... Ну, мигом кто-нибудь за врачом!
Жена Марка выскочила в коридор и вернулась с заполошной докторицей. Та, отогнав живчика, села на койку корпулентного и стала измерять ему давление.
– Да он захлебнется! – сказал Филипп Семенович.
– Не учите. Вы мешаете... – Врачиха покраснела. Она никак не могла пристроить к аппарату Рива-роччи грушу, из которой выпадал резиновый шланг.
– Позовите сестру. Пусть принесет историю болезни! – крикнула врачиха. Голос у нее был растерянный.
Ночная сестра, лихая бабенка с богатым и почти неприкрытым бюстом, видимо, успела клюкнуть, но, не подавая виду, бегала расторопно. Тут же принесла большой шприц и всадила корпулентному в ягодицу.
– Легче тебе, миленький? – спросила на удивление ласково.
– Не-а, по-од-со-ов... – сквозь всхлипы процедил потомок прасола.
– Садись, красавчик, садись... – Сестра подняла его за плечи.
– Ширму поставьте, – сказала врачиха. Она упрямо листала историю болезни, но, взглянув на лихую бабенку, самолюбиво добавила:
– Уколы не помогут. Везите капельницу.
– Покличьте кого-нибудь еще, – весело сказала бабочка, и вторая медсестра вкатила желтую ширму.
"Точно такая отгораживала тещу... – вспомнил Григорий Яковлевич. – Зря я тогда к ней не входил. Проворонил ее смерть, а писатель таким опытом пренебрегать не имеет права. Неужели и этот помрет?"
С койки тестя ничего не было видно. Ширма проглотила всего внука прасола. Лишь высовывался белый, будто из пемзы, изъеденный псориазом локоть. Никаких злобных чувств к корпулентному Токарев уже не испытывал. Их смело любопытство. Он даже перестал смотреть на Ленусь. Впрочем, та сидела к Токареву спиной, заслоняя от Марка столпившихся в палате сестер и круглого, как гиревик, реаниматора.
"Этот из самого ада вытащит", – с восхищением разглядывал Григорий Яковлевич розовощекого усатого врача. Реаниматор держался весело, словно готовился к чему-то приятному, скажем, к жаренью шашлыков, а не к возне с полумертвым телом.
– Кислорода, ясное дело, нету, – усмехнулся усач, когда отвернули настенный кран. – Тащи наше хозяйство, – кивнул молоденькой, очевидно, реанимационной сестре.
Дверь в палате распахнули на обе створки, и вслед за капельницей сюда въехал стол со шприцами и склянками, второй стол с непонятными Токареву приборами, а теперь молоденькая сестра вкатила за ширму что-то черное, кожаное, похожее не то на сумку, не то на седло.
– Давай дыши, не ленись! – подбодрил сестру усач, и через щель в ширме Токарев разглядел, как реанимационная девчонка, нагнувшись, словно при стирке, стала сжимать черную штуковину.
– Дыши, дыши, не сачкуй! – повторил усач, но его голос больше не казался веселым. – Разрежьте рубаху, – сказал тише. – Справа, справа. Еще правей...
– Не смотри, – шепнул зятю старик, но Григорий Яковлевич вертел головой до неприличия.
– Прямо в грудь запузырили, – заговорщицки подмигнул Токареву симулянт. Этому все было видно. – Чик-чик ножничками кожу, и вон как пошло! В грудь не то, что в вену.
Токарев и сам заметил, что жидкость в капельнице забурлила, как кипяток.
– Накачают раствором, будет как новенький... – восхищенно сказал симулянт.
– А ну, разговорчики! – рассердился реаниматор. – Отвернись, мужик. Это тебе не телевизор. Высунувшись из-за ширмы, усач погрозил симулянту и устало вздохнул:
– Тесно здесь и больные реагируют. Везите его, девчата, к нам.
Снова все зашевелилось. Один стол отъехал к окну, второй – в коридор, ширма сплющилась, и койка с белолицым несчастным потомком прасола, которого уже никак нельзя было назвать корпулентным, медленно и торжественно, как катафалк, выплыла из палаты.
– Побазарили, – прохрипел форвард.
– Н-н-да-а, – сказал живчик, и оба недружелюбно взглянули на Токарева, хотя тот за весь вечер не раскрыл рта.
"Кончились их распри, – подумал Григорий Яковлевич. – Перед смертью они все заодно, и я для них – снова чужой, потому что не болен. Как бы там ни было, а чужой..."
Вяло кивнув тестю, Токарев спустился в вестибюль, оделся и вдруг решил подождать жену Марка. Гардеробная нянечка, снизойдя к его рваному пальто, не погнала Григория Яковлевича на холод.
Наконец по лестнице застучали сапожки, и, вырвав у гардеробщицы шубку, Токарев подал ее молодой женщине.
– Спасибо, – сказала Ленусь. Ее плечи дернулись, и он понял, что она на взводе.
Женщина застегивала шубку, и нельзя было дать ей уйти одной. Обычное в таких случаях: "Откуда вы такая?" или "Где вы были всю мою жизнь?" нынче не годилось. Нужно было что-то проникновенно-серьезное и пронзительное. Тогда шепотом, чтобы не посвящать нянечку, однако не скрывая волнения, Токарев спросил:
– Значит, уедете?
– Намылились, как сказал этот мерзавец... Простите, этот бедняга... усмехнулась Ленусь, и Григорий Яковлевич приободрился. Все-таки не был он уверен, станет ли с ним разговаривать эта женщина. В палате он держал себя индифферентно, и после реплики тестя Ленусь могла решить: раз он выкрест, то заодно с юдофобами.
– Намылились, – повторила женщина, – но у Маркушки микроинфаркт.
"Последствия овировских стрессов. Куда этому дохляку тягаться с русской державой?" – подумал Григорий Яковлевич и вывел женщину на больничный двор, посветлевший от медленно летящего снега и круглых матовых фонарей. "Погода! обрадовался, – лучшей не пожелаешь! Начало зимы – начало любви. Все! Больше о Маркушке ни слова!"
Но на черно-белом просторном дворе Ленусь в своей легкой бельковой шубке и похожей на чулок вязаной шапочке казалась нищему, оборванному Григорию Яковлевичу еще недоступней, чем в палате. "Боже, чем я могу привлечь такую женщину? – снова ощутил он свою неизбывную беспомощность. – Ведь меня почти нету. Есть Маша с пьяными взбрыками и плачем. Есть Светланка с капризами, двойками и неуправляемым характером. Они либо меня поглотили, либо сквозь меня проросли. Я – жалкое подобие прежнего Токарева. Чем я, теперешний, могу завлечь такую женщину?"
Все-таки он схватился за последнее:
– А не жалко покидать все это? – Он обвел рукой потемневшие от соседства со снегом безжизненные призмы белых панельных корпусов.
– Раньше задумывалась, а теперь уверена: не жаль...
– А вдруг все-таки затоскуете?
– Исключено. Но вы этого не поймете. Вы плохой еврей... Не обижайтесь. Я тоже, если бы не стала бы плохой еврейкой. Наверное, крестилась бы, как вы.
"Все-таки зацепил я ее..." – повеселел Токарев, даже не огорчившись, что женщина видит в крещении нечто недостойное.
– Я жила совсем плохо. В суете, в крутне. Теряла себя и ничего не получала взамен. А вы нашли себя в православной Церкви?
– Ищу... – смутился Григорий Яковлевич.
– Простите, я спрашиваю не из любопытства. Мне это в самом деле важно. Что вас толкнуло на такой шаг? Ведь вы умный. Марк мне сказал, что вы критик и ваша фамилия Токарев. Я хорошо помню ваши статьи. Мы когда-то их читали всем курсом. Почему я теперь нигде не встречаю вашего имени? Вы под запретом, потому что крестились? Или, наоборот, вы крестились из протеста, что вас не печатают?! Или в самом деле поверили в Бога? Но ведь Бог и Церковь не одно и то же...
"Одно..." – едва не возразил Токарев, но понял, что спор уведет в сторону. Когда-нибудь он ей все объяснит. Он расскажет, как в далеком детстве уже сомневался в горкомовской справедливости: особняк, электрические игрушки, голубой велосипед; как в несчастье с отцом увидел некое возмездие; как в Сибири восхищался русскими людьми, их открытостью, их беспечной незаботой о будущем и почти детской уверенностью, что с ними и с их страной все обойдется (а ведь шла такая война!); он расскажет этой удивительной Ленусь, то есть просто Лене, как новая любовь к России загасила в нем прежнюю, унаследованную от матери мечту о мировой революции. (Потом, когда снова объявили о ленинских нормах, он был только рад, что имя отца очистили от лишней грязи, но сами по себе нормы ему были уже ни к чему... Он разуверился в марксизме.) Когда-нибудь он признается Лене, как вдруг ему стало одиноко, холодно, страшно, словно очутился ночью в чужом проходном дворе... А ведь это его страна. Никаких иных держав он не видел; других языков не знает; даже весьма средне знаком с чужой историей. Он здешний, свой. Это его Россия, и вера России, вера Достоевского его вера, что бы там Достоевский ни писал о евреях! (Впрочем, Достоевский имел в виду иной тип сознания!) Лена все поймет...
А сейчас, остановившись и повернув женщину к себе, он хрипло выдохнул самое простое:
– Почему поверил? От страха... От одного страха...
Ему хотелось обнять женщину, чтобы разом утопить в ней всю свою тоску и все отчаяние, но он чувствовал: еще рано, может сорваться... И хотя лицо Ленусь было совсем близко, он только шептал горячо и поспешно:
– От страха... Без Бога страшно... Я это однажды понял в самолете... Мы попали в болтанку. Вокруг – молнии и сплошные тучи. Все это летит на тебя. Лайнер швыряет вверх, вниз, перекидывает с крыла на крыло, а ты беспомощен, незащищен, унижен...
Увлекшись, Токарев забыл, что летал не часто, в болтанку не попадал и пересказывает не свои впечатления, а тестя. Это Пашет с Женей позапрошлой осенью возвращались из Крыма, и их самолет долго не приземлялся. Тогда Пашет уподобил авиационную тряску земной жизни, и Токарев воодушевленно излагал молодой женщине соображения старика.
– Понимаете, как несчастлив человек в болтающемся лайнере? Пол под ногами – не пол, а одна видимость. За тонкой обшивкой – бр-р-р... – холодная смерть. Но пассажиры либо листают тонкие журнальчики, либо с любопытством поглядывают в иллюминаторы. Грозы, молнии, бешено летящие облака – весь этот заоконный апокалипсис ничуть их не тревожит. Они верят в надежность лайнера и в опытность его командира... Вот так же и в нашей жизни: громов, скоростей, ужасов и безнадег – не сосчитать, но если веришь в разумность мироздания и в благость Господа, то не боишься, как бы тебя ни трясло и ни швыряло. Я понятно говорю?
– Скорей красиво, – грустно усмехнулась молодая женщина. – Слишком красиво. Но я вас понимаю. Вы какой-то для меня открытый, словно нарочно распахиваетесь. Это, наверное, оттого, что вы тоже несчастны...
В комнате было метров тринадцать, но две стены изгадили обычные двери, а третью – балконная, и широкую тахту втиснуть не удалось. Старику стелили на внучкином коротком диванчике. Стена, у которой лежал Челышев, не выходила на лестничную клетку, однако он слышал, как хлопают двери на всех пяти этажах. То ли дом рассохся, то ли с самого начала его плохо слепили, а Павел Родионович, обзаведясь на восьмом десятке бессоницей, слуха не потерял.
Впрочем, спать мешало многое. Старик не предполагал, что квартира окажется такой запущенной. Обои, сальные и в непонятных разводах, были – особенно понизу – ободраны сплошь. Видимо, прежние хозяева держали собаку. В кухне из-за грязи неприятно было есть. Ванна заржавела, и, представляя себе, как еще недавно в ней купали пса, старик мылся стоя, отчего вода разбрызгивалась по полу.
– Не вытирай! Сама вытру! – кричала через дверь Машенька. – И не вздумай стирать свое белье. Разведешь грязь или прольешь на соседей. Сама потом ваши сранки выполоскаю.
В квартире было три комнаты. Но отдельную занял зять, внучка с Машенькой теснились в крохотной запроходняге, а старик жил на тычке, мешая всем. Ночью не спал, мучился днем, пока однажды не вспомнил о балконе. Напяливая на себя все мыслимые одежки, он теперь вытаскивал туда табурет (стул не умещался) и сидел часами, похожий на сторожиху. Потому окрестил себя по-польски "старушком". Стыдясь прохожих, вниз он глядел редко, а чаще – вдаль, на овраг, из которого вырастала гора ящиков, или вверх – в серое небо. Балконную дверь, чтобы не дуло, за ним закрывали, но он чувствовал, как нет-нет, а кто-нибудь из домашних посмотрит в стекло: мол, не помер или не сиганул через перильца? Помереть старик был готов, однако валяться на тротуаре дряхлой, обмотанной шарфами и шалями, куклой не хотелось...
"Я тут как в вольере, – думал Челышев. – Пятый этаж без лифта – вот она моя смерть..."
Возможно, он набрался бы духу спуститься на улицу и возвращался бы не спеша, приваливаясь к стенкам на каждом полумарше. Но тогда его заставили бы выносить мусор, загрузили бы магазинами, прачечной и еще Бог знает чем. Поэтому он выбрал тесный балкончик. Ненадежно приваренная к стене люлька стала последним прибежищем. Порой, как ребенок, теряя чувство реального, старик воображал, что отсюда по воздуху ближе к Америке, и значит – к Жене. Но бред кончался. Челышев стучал в стекло, и если дверь открывала внучка, то ворчала:
– Дует... Надо заклеить балкон. А то я никогда не избавлюсь от насморков и не получу аттестата зрелости.
"Не получишь, потому что не тем занята", – мысленно отвечал ей старик. Он уже кое-что знал о внучке. Однажды, когда дочь и зять ушли, Светланка заперлась с телефоном в отдельной комнате.
– Значит, сдаешь? На пятерки? Ах, у вас еще зачеты... – щебетала внучка, забыв, что стены отлично проводят ее голос. – Всё-всё время трудишься? Умник. Умник, говорю. Как живу? Плохо. Есть причина. Нет, не школа. Родители? Х-м... Они сами по себе. Я на них не похожа. Я монахиня. Не смейся... Хорошо, не монахиня, а затворница. Никуда не выхожу, вроде деда... Живехонький! Пронесло. Это бабки испарились... Макабр? Что такое макабр? Ах, это когда смеются над смертью. Поэтому и смеюсь, что жить не хочется. Тебе интересно? Что же не звонил, если интересно? Ах, новый телефон потерял?! Вовремя потерял... Почему? Потому что у меня сейчас то самое, что весной... Не помнишь? Напрасно. Напрасно, говорю, не помнишь. Тебя тоже касается. Ах, догадался?! Ну и как?
"Вот почему Машенька не вызвала ее на похороны Броньки! Она была после аборта. Шестнадцать лет – что за роковой возраст..." – вздохнул старик, тут же ощутив свою вину перед внучкой. Не качал, не растил. Машенька на версту не подпускала Женю к Светланке, и Челышев из солидарности не приближался. Только дарил коляски, одежки да трехпроцентные облигации.
– Ну, проглотил язык? Вкусно? Не бойся... Ах, смелый?! И что посоветуешь? Спасибо твоей бабушке. Зачем звоню? Не для того, чтобы учил. А мне без разницы, что ты там думаешь. Тебе – тоже? Не верю. Меня не колышет, а тебя колышет. Ты трус. А мне так вообще на все наплевать. На тебя, на школу, на всех-всех!.. – кричала за стенкой внучка. – А вот докажу. Возьму и слиняю. Нет, не в Крым. Что там хорошего? Там сейчас дождь. В Америку – вот куда. Тетка за мной прилетит.
"Неужели они пригласили Надьку? – испугался тогда старик. – То-то зятек подкатывался: неплохо, мол, Пашет, освежить квартиру, переклеить хотя бы обои. Ничего себе освежить! Это все равно, как грязного, потного, годами немытого обрызгать "шипром". А на какие, извините, шиши? Все ушло на поездку Жени. Неужто приедет Надька? Хоть бы Альф ее снова отговорил. Год назад он писал, что не пустит жену в Совдепию, откуда с таким мучением вырвались. Вспомнить страшно... А потом еще пришлось бежать из Польши, где по ночам бандиты убивали коммунистов и еще охотней – евреев. Он, Альф, был тогда хромой, Наденька еле жива после выкидыша, а пришлось переходить две границы и шесть лет в Баварии ждать американской визы. Так что Наденьку он в СССР ни за что не отпустит. Вот если можете, приезжайте погостить к нам. Примем как своих. Тут вам понравится, потому что где и жить, как не здесь, где люди друг другу не мешают и НКВД не боятся..."
Итак, днем Челышев торчал на балконе, а ночью прислушивался ко всяким стукам, шорохам, голосам на лестнице и особенно к негромким монологам, роняемым в переносной телефон. Казалось, квартиру занимала не одна семья, а три независимых человека, причем наличие других каждый считал чуть ли не покушением на собственную свободу. Жили здесь порознь, спали порознь, обедали порознь, даже молились в разных комнатах. У зятя висела старая, с двумя ковчегами, очевидно, XVII века неотреставрированная икона, а у Машеньки аляповатая, явно недавняя мазня.