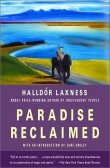Текст книги "Каменщик, каменщик"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Корнилов Владимир Николаевич
Каменщик, каменщик
Владимир Николаевич Корнилов (1928-2002).
"Каменщик, каменщик..."
Роман
На семьдесят втором году Челышев жалостно напоминал мальчишку. Тощий, невысокий, он даже обижался невзросло, от чего седой хохолок петушился на темени.
– Ты, Пашет, злиться не умеешь и не пробуй, – смеялась Женя, вторая жена старика. Она была много моложе Павла Родионовича, он ее обожал, но вбил себе в голову, что Женя непременно его бросит. Не сегодня-завтра заскочит к некоему удачливому сослуживцу и останется навечно. Женя очаровательна, Женя умница. Он же, Челышев, и раньше-то считался заурядсубъектом, а теперь и вовсе нуль пенсионер с Бог знает каким стажем.
Каждое утро, едва за женой захлопывалась дверь, старика душил страх неминуемого сиротства. Под вечер предчувствие обращалось в уверенность: все кончено, жена не вернется, жить незачем...
Проходил час, другой, третий. Старик, словно наказанный ребенок, упоенно воображал себя покинутым, тяжелобольным, даже мертвым, и Женя потом долго выволакивала его из этого печального запределья.
– Ну что ты?.. Ну, задержалась... Я ведь советская замотанная женщина. Москвичка. Утром не хочу идти на работу, а вечером – домой.
– Не смешно, – морщился Челышев, но как-то стихал до утра.
Сегодня была суббота. Женя осталась дома, но старик все равно ожидал подвоха. И впрямь – после завтрака она, раскрыв на секретере пишущую машинку и распухшие, неопрятного вида тетради, сказала, как отсекла:
– До двух не надоедай.
"Гришку перепечатывать будет", – догадался старик.
Гришка, Григорий Яковлевич Токарев, его зять, был писатель, точнее критик.
Но машинки и тетрадей Жене показалось мало. Бережно, словно хотела украсить комнату, она поставила на верх секретера стопку книг в мягких и жестких обложках.
"Их-то зачем?.." – помрачнел старик и побрел в кухню, надеясь отвлечься по хозяйству, но все – от мойки до белых полок сияло, как в день въезда. С домашней работой Женя расправлялась мгновенно.
– Пашет, займись чем-нибудь и не изображай страдальца, – сказала жена. Челышев притворился было, что не слышит, но, не выдержав одиночества, вернулся в комнату и спросил:
– Что, машинистки найти не мог твой Токарев?
– Это нельзя отдавать на сторону, – улыбнулась Женя и, несмотря на седину и дымчатые очки, показалась Челышеву такой же, какой он встретил ее в год Победы. Обидевшись, что улыбка жены обращена не к нему, а к зятю, старик сокрушенно махнул рукой и стопка книг полетела на пол.
– Сядь. Не мельтешись. Ну вот, помял...
Опередив мужа, Женя подняла книги.
– Я их собрала для Надюхи.
Надька, сестра челышевского зятя, подруга Жени, жила в Нью-Йорке.
– Но это макулатура для утильной палатки! – сказал старик.
– Так считаем ты и я, – неохотно согласилась Женя. – А Надюхе приятно прочесть на супере "Гр. Токарев".
– Сам пусть доставляет ей такую приятность!
– Пашет, перестань. Отлично знаешь: он тридцать лет скрывал, где сестра. У него, помимо Надьки, куча неприятностей: все статьи отвергают. А начнет переписку с Америкой, сразу смекнут: решил уехать...
"Себя бы поберегла, – подумал Челышев. – Гришке-то чего спасаться? Вольная птица... А ты, как пришитая, сидишь в лаборатории. Вот вышвырнут оттуда за Надюху и уж точно никуда не возьмут. Биография подпорченная и все-таки возраст..." Но вслух он сказал:
– Нечего Токареву тебя эксплуатировать.
– Никакой эксплуатации! Сама вызвалась.
– И напрасно. Лупишь без роздыха. Сердце поберегла б.
– Печатаю, как привыкла. А сердце в порядке.
Женя ждала, что старик напомнит ей о стенокардии, и тогда она возразит, что до пенсии все равно должна работать. Но он промолчал, и Евгения Сергеевна примиряюще улыбнулась:
– Я, Пашет, в полном здравии. И потом – это хорошие мемуары. Ты бы тоже прочел. Он, кстати, тебя упоминает и Варвару Алексеевну...
Варвара Алексеевна, первая жена Челышева, нынче умирала от рака.
– Уж тещу свою мог бы оставить в покое... – рассердился старик и принялся ходить по комнате, надеясь отвлечь жену от машинки.
– Пашет, я просила: чем-нибудь займись, – не выдержала Женя.
– Занят. Смотрю, как размножаешь сплетни и пакости.
Женины пальцы повисли на клавишах, глаза за дымчатыми стеклами замигали.
– Прежде чем обижать, прочел бы...
– Читал твоего Гришку. Ничего, кроме благоглупостей, не выудил.
– Но это совсем другое: не критика, а воспоминания. Талантливые воспоминания.
– Расхваливаешь так, словно сама их написала. Вы что – сиамские близнецы?
– Не стыдно, Пашет? Он муж твоей дочери...
– И твой любовник! – вспылил старик и тут же перепугался.
– Нет, это невыносимо. Отлично знаешь: ничего между мной и Токаревым не было. Бедный Пашет... Тебе надо было жениться на настоящей, на естественной женщине. Она всю жизнь посвятила бы тебе. А я себя не переделаю.
– И любишь Гришку!
– Опомнись. Я лишь похвалила его рукопись. За что мучаешь? Тебе ведь столько меня не надо...
Павел Родионович похолодел, решив, что жена намекает на его стариковскую немощь.
– Не нужна я тебе вся. Оставь меня для самой себя немного.
"Ну вот, голова разболелась... Испортил рабочее настроение. Несчастный, ненормальный старик, – огорчилась Женя. – То сходит с ума, что я где-то шлёндраю, а дома сидишь – тоже нет покоя. Прямо хоть встань и снова куда-то беги. Чем ему мешали мемуары Токарева? Так хорошо было за этой чужой машинкой отвлечься от служебных интриг и окунуться в треклятое прошлое..."
Но тут Евгения Сергеевна подумала, что и она сама ненормальная.
"Определенно ненормальная, – будто перед зеркалом тряхнула головой, от чего косая с проседью прядь молодо коснулась щеки. – Ну что я так приклеилась к давно прошедшему? Тридцать лет, как вышла из лагеря, а все не могу забыть. Или боюсь забыть? Почему так накидываюсь на зэчьи мемуары, словно настоящая жизнь была только в зоне?! Или у меня с Пашетом не задалось, и я бегу туда, где Пашета не было? Старый брюзга и склочник стал невозможен. Чего мне только ни приписывает! Очевидно, подозрительность приходит с возрастом... Что ж, так бы и сказала, что убегаешь не от Пашета, а от близкой старости. И читать любишь о лагерях и арестах, потому что они – твоя юность. Все очень просто: ты самая ординарная трусиха... Неправда! – чуть не вскрикнула вслух. – Я не трусиха и не мазохистка. Разумеется, моя жизнь не удалась. Но у кого она удалась в наше раздерганное время?.."
Женя и дальше изводила бы себя внутренней перепалкой, но тут старику надоело гадать, отчего жена не стучит на машинке. Он заковылял к двери и буркнул у порога:
– Съезжу, Варвару Алексеевну проведаю.
С тех пор, как всю в метастазах Варвару Алексеевну выписали из клиники, старик, словно на службу, приезжал к своей дочери, где лежала больная, с деньгами, кислородными подушками, раздобытыми Женей болеутоляющими ампулами и сваренными Женей протертыми супами и кашами. Однако сейчас он страдал не из-за того, что угасала первая жена, а оттого, что вторая перепечатывала рукопись зятя.
– Но ты сегодня не собирался! Сегодня я дома... – сказала Женя.
– Ты вон где... – кивнул Челышев на расхристанные тетради и выбежал к лифту.
– Пашет, милый, разве я нарочно!
Женя кинулась на лестничную площадку и втащила закапризничавшего старика в комнату.
– Разве я хочу с тобой разлучаться? Да я с радостью взяла бы тебя туда. Ты сам туда не хочешь. Ну прочти. Что тебе стоит? Токарев, правда, пишет не о лагере, но о тех годах. Что поделаешь, мне они дороги. Хотя бы полистай. Очень важно, что скажешь. Растерянный Павел Родионович позволил подвести себя к тахте, послушно принял у жены стопку страниц, вздел на нос очки и сам же удивился своей столь поспешной капитуляции.
ПОПЫТКА БИОГРАФИИ
За нашим забором плакала красивая девочка. Мне исполнилось восемь лет. Я жил в отдельном особняке. У меня был голубой, единственный во всем городе японский велосипед. Я дружил с командующим гарнизоном дядей Августом. Но я был несчастным мальчуганом. Даже носил не отцовскую партийную и почти русскую, а материнскую местечковую фамилию – Токарь...
...Маша Челышева стояла за нашей ажурной решеткой, а ее хмурый отец дергал девочку за руку. Мне хотелось сказать Маше: "Возьми велосипед насовсем".
Мне многое хотелось ей сказать, но рядом был ее родитель, который меня презирал. (Он и сейчас меня не выносит, хотя от моего отца не осталось даже петитной строки в Исторической энциклопедии. А я Пашета люблю...)
У нас была странная семья. Моя мама, Дора Исааковна, родилась на шесть лет раньше отца, прежде него вступила в партию, но должность занимала маленькую: инспектор горнаробраза. Она презирала отцовский паккард, обедала в учительской столовке и все порывалась перебраться к своей горбатой сестре, белошвейке Юдифи.
– Хоть к черту! – кричал отец. – Но детей (то есть – меня и Надьку) не получишь!
Дело у них шло к разрыву. У отца начался роман с русоволосой пышной красавицей Ольгой, секретарем левобережного райкома. Ольга больше подходила к особняку и ко всему стилю отцовской жизни. А мама, увядшая, истеричная, мало годилась в хозяйки большого индустриального города.
Иногда мы с сестрой ездили к тетке Юдифи. Юдя жила на самой окраине в бедной мазанке. Ничего у нее там не было. Воду из колонки надо было тащить за три квартала, а щелястый сортир был в соседнем дворе, где паслись козы, копошились свиньи и печально отбивалась от мух корова начальника милиции. Шпанистые пацаны с Юдиной улицы не верили, что я дружу с комдивом и могу их привести в казармы, где нам дадут разобрать "максим" и покатают на тачанке. Пацаны, если рядом не было взрослых, дразнили меня "жидом" и вертели ножи у моего носа.
А вот Надьке еврейство не мешало. С Надькой всегда было весело. Она примиряла не только отца с мамой, но и меня со всеми несправедливостями нашей жизни. Скажем, особняк, автомобиль, прислуга, электрические импортные игрушки, что дарили мне в горкоме на октябрьских и майских утренниках... Все это не слишком правильно. У других ребят ни прислуги, ни машины – одно коммунальное жилье. А на утренниках – кульки с липкими подушечками...
– Ну и что, Кутик? – поднимет круглые плечи Надька. – Значит, так надо. Дали и радуйся.
– Но у других...
– Другие столько до революции не страдали. Нашу маму били в полиции.
– Но мама не ездит в паккарде.
– При чем здесь мама? Пойми, если всего у всех будет поровну, никто ни работать, ни учиться не станет. Ты, Кутик, сознательный, а несознательным надо показать, чего добьешься, когда не жалеешь себя и трудишься для народа.
– Но мама...
– Мама с чудинкой.
Так-то мы и жили. Я огорчался, что Пашет водит Машу в детский сад ИТР (инженерно-технических работников) другой дорогой, и радовался, когда она шла со своим дедушкой. Старого доктора Маша всегда тащила к нашему дому.
Однажды, заболев, я настоял, чтобы позвали не горкомовского, а частного врача, моего однофамильца Токаря.
– Та з нього писок сыплетця. Сильский ликар навить краше, – хмыкнул отец, считавший "украинську мову" более народной.
Доктор Токарь обстукивал меня холодными костяными пальцами, а мне было приятно: ведь это Машин дед.
– Впечатлительный он у вас господин, – нахмурился доктор и повернулся не к отцу и маме, а к Юде. – Бромчику попить не мешает.
– Та они, Токари, уси таки, – засмеялся отец. – Мабуть, вы им родына?
– Нет, не родственник, – казалось, оскорбился доктор.
Отец вздрогнул, и мне почудилось – шепнул: "Контра..."
Ночью я плакал, и в мою комнату на цыпочках вбежала Надька.
– Обидели Кутика? Ах, глупый старик. Не знает, что Кутика нельзя обижать. А Кутенька через забор влюбился... Чепуха на постном масле. Как рукой снимет. Еще много у Кутика будет девочек и девушек.
(Милая Надька! Она не знает в своем далеке, что по-прежнему не девочки и девушки, а одна Маша – радость и мученье моей несуразной судьбы...)
...За сестрой приударял молодой стихотворец Юз. Считалось, Юз ходит в особняк ради меня. Я тоже начал рифмовать. Но Надьке нравился другой москвич, красавец, любимец Сталина и давний приятель мамы. В тридцать шестом году он остановился у нас. Как-то, заглянув в кладовку, куда прятал самодельный лук, я увидел сестру и нашего гостя. Она его обнимала, а он по ней, расстегнутой, водил руками.
Пришла мокрая скользкая осень. Я упал с велосипеда, погнул руль, ушиб колено, и машину раньше времени убрали в чулан. Мама совсем поседела и рядом с отцом выглядела старухой. Они настолько отдалились друг от друга, что даже не ссорились, и в конце ноября отец без нее уехал в Москву принимать конституцию.
Три дня мама молча ходила по дому с черным страшным лицом и вдруг тоже собралась в столицу. А затем началось непонятное. Отец без конца звонил из Москвы; туда умчалась Надька, и в особняк перебралась Юдя.
Перед первым декабрьским выходным выпал снег, и вечером в честь конституции демонстранты несли факелы. Одна колонна прошла по нашей улице, чего прежде не случалось. Я выглянул за ворота, и мне протянули сосновую палку с горящим фитилем.
– Дом сожжешь! – закричала Юдя и тут же заплакала. – Бедненький мой сироткин. Нет у тебя больше мамы. Умерла наша Дора. Из-за Яшки-бандита отравилась угаром...
Мамины похороны запомнились очень четко. Им предшествовала напряженная суета в особняке, бесконечные перебранки Юди с охранником Петей, горничной, кухаркой и дворником. Отец, видимо, решил зарыть маму тихо, не привлекая внимания к обстоятельствам ее смерти. Юдя же настаивала на пышных похоронах. Приоткрывая дверь, я слышал, как тетка жаловалась маминым сослуживцам:
– Нарочно Дору сжег. Хочет, чтобы шито-крыто... Дудки! Дора раньше его в их бранже. Его еще в хедере цукали, а я ей в участок уже кушать носила. Не хочет музыки? Сама найму!
И вот, едва отец выходит из своего вагона, его оглушает траурный марш. Отец растерянно машет музыкантам, чтобы прекратили безобразие, но Юдя кричит:
– Не ты их нанял! Играйте, мальчики! – и, такая крохотная, вырывает у Надьки урну с овальной маминой фотографией.
Оркестранты дудят что есть мочи, а наробразовцы водружают на обмотанные кумачом носилки то, что осталось от мамы, и процессия движется по главному проспекту. Надька и Юдя идут сразу за носилками, а я и отец ползем позади всех в паккарде. Но вдруг, не доехав до еврейского кладбища, отец велит шоферу повернуть домой.
– Ничего, сироткин, ничего... – вечером утешает меня Юдя. – Мы теперь часто будем к маме ходить. От меня к ней близко. А Яшку, – кивает на полуприкрытую дверь кабинета, где отец укладывает желтый саквояж, – с собой не возьмем... Застеснялся, негодяй, что я Дору похоронила со своими... Так пусть его, босяка, с чужими кладут!
И напророчила. Утром отец отбыл на совещание в Киев, где его арестовали, а через два дня нас выгнали из особняка и даже не позволили взять вещи.
Впрочем, Юдя кое-что мамино давно перетащила в мазанку. Умудрилась даже уволочь туда японский велосипед. (Весной, стыдясь и ликуя, его купили для Маши старики Токари.)
В Юдиной мазанке не повернешься. Мне на ночь ставят "дачку" (складные козлы с мешковиной), а сестра и тетка спят на кровати валетом.
– Изверги, – вздыхает Юдя. – Сами своих мучают. Хуже петлюровцев. Ну, ничего... Не плачь, сироткин. Я тебя никуда не отдам. Руки есть, ноги есть, и Наденька теперь помощница...
Тетка никак не успокоится, что русская и украинская газеты, а также местное радио, заклеймили отца разложившимся, запутавшимся в сетях польской дефензивы врагом партии и народа.
– И Дору уморил, изверг... – добавляет Юдя, но тут же смолкает, потому что официально виновной в смерти мамы признана печная заслонка, и я могу отвечать всем и каждому: мол, отец отцом, а мама умерла честной большевичкой.
– Мерзавец! Шиксу, комсомолочку захотел!.. Так Юдя называет Ольгу, хотя та до своего недавнего ареста заправляла целым районом.
– Покажут ему комсомолочку!.. А вы, детки, не бойтесь. Вы – Токари. Ты, сироткин, не выдумывай. Ты – Токарь и Яшкину кацапскую кличку забудь.
Юдя переводит меня из прежней школы в окраинную, где учиться можно спустя рукава, и я запоем читаю "Мушкетеров" с продолжениями, "Парижские тайны" и Вальтера Скотта, словом, все, что отвлекает меня от нашей горестной действительности.
Будто по злобному волшебству, особняк превратился в тесную комнатушку, где с утра до вечера стучала ножная машина, галдели заказчицы и повсюду, отнимая у женственности тайну, громоздились необъятные панталоны, пояса и бюстгальтеры. Все переменилось – только не Надька! Надька обрывала зарвавшихся клиенток и не шикала на пацанов, когда подглядывали в сортир. ("Ладно уж, глядите, малахольные, если интересно!..") И смеялась, когда ночью Юдя толкала ее горбом. И по-прежнему отказывала Юзу, который, презрев страх, героически ухаживал за дочерью врага народа.
(Как мне не хватает Надьки и как презираю себя за то, что не пишу ей писем, хотя меня все равно не печатают!..)
Пятилетие на окраине оказалось сложным периодом жизни. Запомнился неприятный эпизод.
Весной за городом, позади еврейского кладбища, красноармейцы разбили палатки, и мимо нашей мазанки, разбрызгивая грязь, часто проскакивал автомобиль комдива.
– Эй, жиденок! – однажды крикнули мне пацаны. – Твой "даешь пулеметы"* катит! Познакомь!
* Строка из красноармейской песни: "Эй, комроты, даешь пулеметы".
Я обреченно вылез на улицу и, понукаемый шпаной, закричал:
– Дядя Август! Здравствуйте, дядя Август!
Форд, объезжая широкую синюю лужу, медленно надвигался на меня. Брезентовый верх был откинут, и суровый комдив сидел неподвижно, как перед фотокамерой.
– Дядя Август, это я, Гриша...
– "Дядя Август", выкуси накось! – загоготали пацаны, а я, давясь плачем, убежал в мазанку. Он, сажавший меня на колени, проехал в полутора метрах, не повернув головы!
Целый месяц я исходил злобой и горем, перебирая все варианты мщения. Потому-то, несмотря на нашу отверженность, сразу согласился пойти с Юзом на первомайский парад.
Ночью шел дождь, и утром тоже моросило, когда мы добрались до площади и скромно сели в конце гостевых скамеек. Я дрожал от холода и в прежнее время раскапризничался бы. Но теперь мне было девять с половиной лет и, чтобы переключиться, я стал критиковать развешанные вдоль площади портреты:
– Сталин совсем не похож, и у Маркса лоб кривой...
Но Юз увещевающе шептал, что кто как нарисован, обсудим позже.
Низенький круглый сверхсрочник важно прохаживался вдоль строя и без всякой жалости укорачивал ножницами шинели бойцов. Я подумал: дурацкая прихоть комдива. Ведь чем шинель длинней, тем теплее красноармейцу. "Ну ничего, тебе отплатится", – грозился я комдиву, с нетерпением ожидая выезда его гнедой Хельги.
Наконец скамейки заполнились до отказу. Меня и Юза стеснили слева и справа, а сзади навалились оставшиеся без мест. Все зааплодировали, и на трибуне появился тот, кто сменил отца, и с ним другие мужчины, среди которых я узнал только охранника Петю. Но я ожидал не их, а комдива. Мостовая была мокрая, и я тихо бормотал: "Пусть поскользнется, пусть..."
Юз, не понимая, что со мной, должно быть, уже раскаивался, что привел меня на площадь.
Грянул марш. Комдив выехал на Хельге навстречу комбригу. Его рука в перчатке изящно прижималась к козырьку, а я умолял кобылу, чтобы скинула моего обидчика. Я знал, что свалиться с лошади – позор, но не думал, что это еще и дурное предзнаменование. Особенно сейчас, когда многих арестовывают. Но с нашей семьей все самое худшее уже случилось.
Я с ненавистью слушал, как дядя Август своим прибалтийским, прежде мной любимым фальцетом приветствовал прямоугольники обчекрыженных по его приказу шинелей. Комбриг ехал рядом, и его лошадь выказывала беспокойство. А Хельга словно спилась с комдивом, с его длинной кавалерийской, прикрывшей даже сапоги шинелью, и я понял: ничего не случится, потому что дядя Август уже подъехал к последней колонне, поздравил ее с праздником, на что ему откричали:
– ...а! ...а! ...а!
И Хельга даже не вздрогнула, лишь картинно, как в цирке Шапито, мотнула мордой. Но тут комдив круто повернул кобылу, и, хотя минуло тридцать шесть лет, я до сих пор помню, как Хельга, словно по льду, всеми четырьмя копытами проехалась по брусчатке и завалилась на бок как раз против нашей скамьи.
Я обмер и тотчас пожалел комдива. Неловко подпрыгивая, как привязанная птица, он выпрастывал ногу из стремени. Два красноармейца бросились поднимать Хельгу. Дядя Август небрежно им кивнул, взобрался в седло и, поддерживая у козырька перчатку, подъехал к трибуне.
Юз решил, что мне дурно (очевидно, я позеленел) , и вывел меня через толпу зрителей в примыкавший к площади сад.
Спустя месяц комдив был отозван в Москву и расстрелян вместе с Тухачевским. Да и стихотворец Юз оставался на свободе недолго..."
"Что же здесь такого талантливого? – недоумевал старик Челышев. – Нет, зря, зря она надрывается. Стучит без роздыху, словно молодая".
Он приподнял очки и с жалостью посмотрел на Женины пальцы с коротко обрезанными ненакрашенными ногтями. "Рабочая женщина, – подумал с обидой. – И не стыдно Гришке ее загружать? Добро бы сочинил стоящее..."
И все же старика разбередили мемуары зятя, и он сам стал потихоньку ворошить пережитое.
Ему вдруг вспомнился один осенний день девятьсот четырнадцатого года.
Воротясь из училища, Пашка Челышев быстро сжевал оставленный мамашей нехитрый обед, в миг приготовил еще по-божески заданные уроки, и короткий сентябрьский день показался мальчишке бесконечным. Никто не дергал за уши, не гонял в лавочку за папиросами, с запиской к барышне или на соседний двор занимать у докторши Токарь трешницу. А все потому, что брат Артем (от лишнего ума, как считала мамаша!) подался из Горного института в вольноопределяющиеся. Теперь, небось, в учебной команде горланит на мотив цыганской "Белой акации":
Мы смело в бой пойдем
За Русь святую
И за нее прольем
Кровь молодую!..
Полтора месяца идет германская война, и мальчишки подбивают Пашку махнуть на позиции. Его, мол, не скоро хватятся. Отца у Пашки нету – утонул, брат в армии, а мать служит в городской управе и вечерами тоже занята. Крутится возле нее помощник нотариуса. Наверное, поженятся скоро. Конечно, неплохо бы удрать из этого хоть и губернского, а все ж таки скучного города на фронт, но, честно говоря, война отсюда далекая-далекая, как все равно Америка, куда, сколько ни грозились, так никто с их улицы не убежал.
– Эй, Чёлый! – увидев приятеля, закричал гимназист Дрозд. Он был еще замухрышистей Пашки и, оправдывая фамилию, сидел, как птица, на заборе. – К еврею-доктору беженцев понаехало! Чмара и пацанка. Чмара – во!.. – Коська расставил руки и чуть не свалился на землю.
Соседний двор выглядел побогаче: дом был каменный и даже имелась песочница. Бездетный доктор Арон Соломонович заказал ее дворнику, чтобы малыши не простужались на голой земле. Все мамаши Полицейской улицы умильно благодарили врача, но за глаза высказывались: мол, нечего жиду втирать очки православным. Известно, что мацу без дитячей крови не пекут, а хитрюга выгадывает: у больных-то младенчиков кровь жиже...
В семье Челышевых на подобную тему тоже вспыхивали споры. Артем утверждал: вранье, давний оговор... Мать, напуганная недавним делом Бейлиса, с сыном не соглашалась. Приезжавший с левого берега брат матери, молодой священник отец Клим, посмеиваясь, держал сторону племянника. Но Любовь Симоновна не слушала брата.
– Да ты, Климка, разве поп? – ворчала она. – Все батюшки – серьезные мужчины. А у тебя на уме вечные хаханьки. Тебе бы не в храме гудеть, а по ярмаркам скоморошничать.
Перескочив на соседний двор, Пашка никаких "понаехавших беженцев" не увидел. Только в песочнице копошилась пухлая незнакомая девчушка в батистовом, но уже намокшем платьице.
– Ты кто? – спросил Челышев.
– Воня... – пропищала девочка.
– Вправду воня. У тебя что, мамки нету? Вся обдулась. Зассыха.
– Воня! Воня!.. – пролепетала девочка и замахнулась совком.
– Злющая, – сказал Коська Дрозд. – Эй, Воня-Боня, мамку покличь. Простынешь.
– Ну ее. Идем, – скривился Пашка.
Он сразу потерял интерес к беженцам. У доктора в доме ванна на фигурных лапах, а ребенка не выкупают. Челышевы носят воду из колонки, но попробуй походи у мамаши с грязной шеей...
– Матка, матка... – захныкала девочка.
Дверь черного хода приоткрылась и на небольшом, аккуратно оструганном крыльце выросла... девушка? – не девушка; женщина? – не женщина, а скорее ангел женского роду. Продолговатое лицо мадонны, зеленые глаза, высокая грудь, тонкая талия и крутые бедра. Выглядела она не старше гимназисток последних классов, но было в ней такое, что гимназисткам не снилось. Пашка с Коськой разинулы рты.
Юная, осененная сентябрьским солнцем, запоминаясь мальчишкам на всю их жизнь, беженка осторожно ступила с крыльца на землю.
"Будто воду ногой пробует", – подумал Пашка.
Все в пятнах шелковое платье женщины, кроме духов, пахло еще чем-то греховным.
– Матка! матка! – верещала девочка, но беженка, подбирая подол, кралась по двору, надеясь, что ее не заметят.
– Матка!.. – ревела девчушка, словно догадывалась, что женщина торопится куда-то, где девочка будет ей помехой.
– Но... Цо с тобон, дзецко мое? – все-таки подплыла к ней беженка. – Не мам часу... Пше-пше... Матка Бозка...
Она подняла девчушку за шиворот, подтащила к крыльцу и, сморщась, хлопнула по мокрому задику. Но девочка почему-то не заплакала, а ползком вскарабкалась по ступенькам.
– Они не евреи, – сказал Коська Дрозд.
"Пожалуй..." – молча согласился Челышев. Евреи и вправду не лупцуют своих детей и не признают Божьей Матери, хотя Дева Мария – их племени.
– Ни-ни... Жиды, хлопчик, жиды... – вкрадчиво пропела беженка.
"Боится, что докторша выгонит", – подумал Пашка.
И вдруг, словно взрослому, красавица обещающе улыбнулась:
– Довидзеня, хлопчику!
Мимолетным виденьем она исчезла за воротами, а облако странного, смешанного с духами запаха унесло осенним ветром.
В тот вечер Пашка лег рано. Мать не возвращалась. Наверное, опять со своим нотариусом сидела в кинематографе. Пашка начал клевать носом, и вдруг беженка взяла его за руку и при всех подростках спросила, может ли он перевезти ее на другой берег. Для чего это ей, Пашка не понял (ведь есть каменный мост!), но сказал: "Могу", хотя после гибели отца на реку ходить боялся.
И вот он выводит беженку на Полицейскую улицу, а все мальчишки и Коська, как заколдованные, глядят им вслед. Лодки у Пашки нету. Лодка есть у Клима. Но Клим живет на другой стороне, ниже версты на четыре. Все-таки Пашка и женщина оказываются в лодке. Он – у весел, она – на корме, и молчат, потому что Пашка не знает, как начинают разговоры. Но вдруг красавица признается, что на тот берег ей вовсе не надо. Просто ей хочется побыть наедине с Пашкой. Здесь, на осенней воде, никто их не тронет. А на правом и левом берегу много нехороших людей.
Вот что она говорит Пашке по-русски, но ему боязно бросить весла и перебраться к ней на корму. На реке сильный ветер. Лодка того гляди перевернется. Холод пробирает так, что ноют зубы, и, очнувшись, мальчишка замечает, что не закрыл ставни.
Кряхтя, как не кряхтит сегодня, Челышев накидывает поверх ночной рубахи черную реалюшную шинель и в незашнурованных башмаках выползает из дому. В их дворе все спят, а из докторской кухни выбилась полоска света. На крылечке, рядом с худым длинным доктором, стоит городовой.
– Так вы, пожалуйста, ее разыщите. Мы с женой вас поблагодарим, – говорит доктор.
– Где ж теперь искать? Поезда каждый час проходят станцию. А еще сколько воинских эшелонов помимо расписания. Вам надлежало раньше побеспокоиться.
– Жена звонила в участок.
У доктора дома такой же телефон, как в управе у матери. И у Челышевых был свой аппарат, пока отец, не прогорев на строительных подрядах, снимал большую, в семь комнат, квартиру.
– Телефон – не бумага. Подпись не поставишь. Надо было прошение подать и карточку приложить.
– Фотографий нет. Она впопыхах бежала.
– А кем, извините, пропавшая вам доводится?
– Дальняя родня... – неуверенно отвечает доктор.
– А, случаем, не аферистка какая? Дите подкинула, а сама – шасть... и ищи ее по всем вокзалам империи. Я вам так посоветую, господин доктор: отнесите девочку в приют. Мало вам своей родни? А эту пусть окрестят, и никаких вам неудобств с ней не будет...
Но через день выясняется, что беженка бросать ребенка вовсе не помышляла. Просто торопилась на свидание. В номерах ее ждал офицер. Должно быть, познакомились в поезде или на узловой станции, куда она добралась из пограничного местечка. То ли была из влюбчивых, то ли офицер заморочил ей голову, но в гостиницу она пришла сама. Коридорный ее запомнил, но разве запрещено девице посетить военного?
А утром другой коридорный, проходя по второму этажу, почуял, что из-под двери двадцать третьего номера дует. С ночи погода переменилась, пошел дождь; постоялец же, видимо, во хмелю окна не закрыл и, смотришь, простудится.
Коридорный постучал. Ему не ответили. Тогда он спустился к конторщику, и они вдвоем вышли во внутренний дворик. Окно двадцать третьего оказалось распахнутым на обе створки, а в увядшую клумбу вбиты не съеденные дождем следы сапог.
– Зови, – вздохнул конторщик, и коридорный побежал за полицией. Дверь взломали. На железной койке лежала обнаженная красавица с чулком на шее. Ее живот и бедра были залиты кровью. Следствие установило, что маньяк исковырял несчастную шашкой и вытер клинок о валявшееся на коврике обтерханное платье.
Так писали местные "Ведомости", и Пашке долго снилась беженка, правда, не голая, но всегда окровавленная. Он даже решил, что красоте непременно сопутствует жуть убийства и тайны. Этот страх сохранился в Челышеве надолго, пожалуй, навечно, и спустя тридцать, сорок, даже пятьдесят лет он опасался, что кто-нибудь прирежет его дочь.
... Меж тем Артема производят в прапорщики. Он получает одного Георгия, второго, а мать все не выходит замуж. И вдруг батальонный командир собственноручно уведомляет Любовь Симоновну, что ее сын Артем Родионов Челышев пал смертью храбрых. Мать молчит, ходит в свою управу, но нотариус больше у них не засиживается. И однажды Пашка видит, что его мамаша – уже не молодая и вовсе не суровая. Неожиданно на первого осеннего Павла привела во двор за руль (как козла за рога!) взаправдашний, хотя не новый, велосипед. И глаза у матери такие настороженные, словно боится, что второй сын тоже убежит на войну. Месяц Пашка гоняет по всему городу. Но вот на окраинной улочке мальчишки ссаживают его с велосипеда, протыкают покрышки, выдирают спицы, уродуют передачу. Пашка отбивается велосипедным насосом, а когда вырывают насос, ребром ладони расшибает двоим пацанам носы и притаскивает на Полицейскую железного калеку. Ему стыдно перед матерью, но, полагая, что постиг законы человеческой зависти, он злится не на мальчишек, а на Любовь Симоновну и себя: