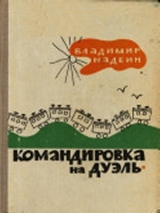
Текст книги "Командировка на дуэль"
Автор книги: Владимир Надеин
Жанры:
Сатира
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Бледный Василий, ловя на себе сочувственные взгляды товарищей, даже не просит пощады. Он знает, что судьба его решена, что спасения нет и что неугомонный председатель обяжет его съедать ежедневно минимум по десять килограммов оленины.
Не спешите попрекать председателя в насилии над пищеводами подчиненных. Ему самому, если глубже разобраться, тоже приходится несладко. Лето пришло, мясо скоро испортится. Не пропадать же добру!..
Целый год колхозники не покладая рук выращивают многотысячные оленьи стада. А когда приходит сезон забоя и настает время отправлять мясо потребителям, выясняется, что оно никому и не нужно. Так, по крайней мере, считает красноярская контора «Росмясорыбторга».
Правда, единомышленников у конторы не слишком много. Особенно за Полярным кругом. Например, хлебосольные норильчанки встречают гостей «с материка» радушным приглашением:
– Не угодно ли попробовать нашего заполярного деликатеса? Кушайте, кушайте, оленинка свежая, муж только вчера привез из командировки, из московского магазина «Лесная быль».
Тогда, может, норильское начальство, разгадав таинственные пороки оленины, недремлющим часовым стоит на страже заполярных рационов?
– Мы могли бы продавать, по крайней мере, в десять раз больше оленины, чем сейчас. Соответственно сократилась бы «потребность в завозе говядины и свинины из дальних краев, – развеял все сомнения начальник управления рабочего снабжения Норильского горно-металлургического комбината.
Так в чем же дело?
А в том, что продукцию полярных оленеводов нужно далеко возить. И даже не возить, а доставлять по воздуху. Конечно, не так далеко, как украинскую говядину или молдавскую свинину. Но для них предусмотрены специальные дотации, а оленина такой чести не удостоена. Почему – трудно сказать. Кто-то, наверное, забыл в свое время о ней напомнить, кто-то забыл подписать отношение...
Ошибку никогда не поздно исправить. Но для этого нужно, во-первых, ее признать. Во-вторых, составлять документы «во изменение». В-третьих, с документами куда-то «входить».
А «Росмясорыбторгу» не хочется входить. Ему проще сидеть в удобных канцелярских креслах, спуская оленеводам грозные директивы:
– Во избежание загнивания все произведенное мясо съесть на месте. Об исполнении доложить!
– Ну, а если не сумеют съесть?
– Выговор!
– А если все равно не сумеют?
– Строгий выговор!
– А если все равно?..
– Уволить без выходного пособия!
Суровая директива создает видимость кипучей деятельности. Иным кажется, что стоит подписать грозный приказ, и жизненные трудности мгновенно исчезнут. В фиолетовых параграфах чудится какое-то языческое всемогущество: приказано съесть – съедят.
Конечно, человеческий организм обладает громадными, до конца еще не выявленными возможностями. Стометровку пробегают за десять секунд, а будут, возможно, за девять. Потребляют по три кило оленины, а в перспективе возможны пять...
Все это так, но приказопоклонники не ограничивают себя сферой физиологии. В своих директивах они регламентируют аппетит не только людям, но даже доменным печам.
На Челябинском металлургическом заводе скопилась уйма железной руды. День и ночь полыхают металлургические агрегаты, переваривая ее и выплескивая сверхплановый чугун. Но рудники, подчиняясь указаниям Министерства черной металлургии, шлют новые и новые эшелоны. Причем в количествах, вдвое превышающих доменный аппетит.
– Помогите! – телеграфирует завод министерству. – Нам нужно не столько, а полстолько!
Но министерство мольбам не внемлет. Все свободное пространство предприятия, все склады, площадки, закоулки и тропки завалены толстым слоем руды. Подъездные пути забиты неразгруженными составами.
– Спасите! – надрываются челябинцы, – Мы летим в финансовую пропасть! Не нарушайте, пожалуйста, утвержденных прав социалистического предприятия!
Осмотрительно не ввязываясь в дискуссию о правах, заместитель министра черной металлургии спустил твердокаменную директиву: «Обязываю полностью принимать, оплачивать и использовать на текущее производство ежемесячно планируемую министерством поставку заводу бакальских сидеритов и аглоруды, а также ахтенских бурых железняков и сидеритов...»
Вот так! Аппетиты аппетитами, а приказано все съесть!
– А если не съедят?
– Выговор!
– А если все равно не съедят?
– Строгий выговор!
– А если это, в конце концов, ваша ошибка, ваша непредусмотрительность, ваша вина?
– Все равнб: уволить без выходного пособия!
ЛОШАДИНЫЙ ДЕФИЦИТ
В помещении кропоткинского «Общества охотников и рыболовов» царила уютная атмосфера межсезонья. Немногочисленные завсегдатаи степенно лузгали семечки, аккуратно сплевывая шелуху в газетные кулечки. Слушался актуальный вопрос об опыте натаски чемпиона среди ирландских сеттеров. Тут же лежал и сам чемпион – медноволосая собака с карими искренними глазами.
И вдруг уют взорвался. Раздался грузный топот, и на пороге появился запыхавшийся мужчина. Бисеринки пота орошали его багровое чело.
– Ага! – оглушительно заорал он. – На ловцов и зверь бежит!
– Какие ловцы? – изумленно спросил докладчик, оглаживая истошно лаявшую собаку-чемпиона. – Какой зверь? Выйдите, товарищ, у нас мероприятие.
Но посетитель оказался не робкого десятка.
– Ну, я зверь, я! – решительно заявил он, протягивая какую-то бумажку. – Ловите меня, пока не поздно! То есть пользуйтесь случаем и пополняйте мною свои ряды.
– Товарищ, вы мешаете! – раздраженно заметил докладчик. – Заберите свое заявление и уходите. У нас прием по средам.
– Э, нет, до среды я ждать не согласный. У меня и так суп совсем остыл.
– При чем тут суп?
– Как это – при чем? Да, суп, чтоб вы знали, – самая главная пища. Я без супа что бы ни съел – все равно голодный. Так что или выписывайте билет, или сяду здесь и буду сидеть хоть до самой среды.
– Псих, – тихо констатировал кто-то из охотников. – Лучше принять его поскорее, а то Джек совсем уже охрип.
Мужчина получил билет и убежал довольный. Но мероприятие продолжить не удалось. Не прошло и минуты, как пришла средних лет женщина с волевым лицом.
– Вот вступительные, – без предисловий заявила она. Вот членские. Вот две фотокарточки. Вот заявление. Быстренько!
Мадам, вы, вероятно, ошиблись, – галантно заметил председатель. – Курсы кройки и шитья – второй переулок налево. Здесь общество мужественных охотников, в члены которого принять вас, миль пардон, никак невозможно.
– Да неужто?! – заметила мадам ледяным тоном.
Она молча посмотрела на собаку, и чемпион трусливо поджал хвост. Она взглянула на мужественных охотников, и они враз перестали лузгать семечки. Она перевела выразительный взгляд на председателя, и через три минуты билет был выписан по всей форме.
– Сразу бы так! – назидательно сказала посетительница перед тем, как хлопнуть дверью. – Ваше счастье, что у меня тесто поднялось. А то бы я мигом навела здесь порядок.
Громовой раскат сотряс охотучреждение. В наступившей тишине послышался робкий скрип. Перед взорами собравшихся стояла сухонькая старушка в зеленом платочке.
– Здесь, што ли, принимают в душегубы? – ласково прошепелявила она.
– Чего тебе, бабуся?
– Куру купила. Молоденькая кура, диетическая. Хочу сварить – газа нету. А сырьем кушать не могу. И душа не лежит, и зубы уже не те.
– Но мы-то тут при чем? – с шаляпинским надрывом вскричал председатель. – Мы что, повара? Или газовщики?
– ДуЩегубы вы, золотко, душегубы, – льстиво запричитала старушка. – И газ нынче весь вашинский. В магазине так и говорят: кто хоть единого зверя не порешил, тому газу не продавать.
– Это какой-то бред! Заседание прерывается до выяснения причин.
Выяснение причин заняло немного времени. В магазине рыцарей двустволки встретило броское объявление: «Баллоны с газом продаются только по предъявлении членского билета общества охотников и рыболовов».
А продавщица растолковала ситуацию так обстоятельно, что ее уразумел даже сеттер Джек.
Недавно на прилавках Кропоткина в изобилии появились портативные газовые плитки. Они пришлись весьма кстати в условиях южного краснодарского быта. У многих кропоткинцев есть летние кухни, и портативные плитки пошли нарасхват, чему, кстати, способствовала и зазывная реклама. И вдруг выяснилось, что газовое хозяйство города абсолютно не готово к перезарядке возросшего количества баллонов.
С позиций формальной логики это «вдруг» кажется удивительным. Какое уж тут «вдруг», если местная газовая станция с первых своих дней влачит скудное существование. Но торговых работников это не интересовало. У них был лишь один интерес – побольше продать.
По утрам у кропоткинской газовой станции выстраиваюсь очередь в пятьсот спин. По утрам магазин с баллонами брали штурмом, как багратионовы флеши. Жертв было множество. В том смысле, что разжиться газом удавалось лишь единицам.
Очереди раздражают. Очереди возмущают. Очереди кладут пятно на городскую репутацию. Но как с ними совладать? Тут есть несколько путей, но самый простой и нехлопотный – ввести волевые ограничения. Объявив, например, что баллоны продаются только блондинам. Или только отоларингологам. Или только охотникам, как это придумали в Кропоткине, где догадливая публика немедленно повалила в огнестрельное товарищество.
В последнее время ученые много пишут об опасности нарушения биологического равновесия в природе. Широкая общественность постепенно приходит к пониманию того, что на три тысячи оленей нужен один волк. Для пользы самих же оленей.
А вот до необходимости оберегать бытовое равновесие населения некоторые товарищи доходят с трудом.
Как-то не вполне утвердилась еще та точка зрения, что киноаппарат без пленки – это не аппарат, а блестящая дацка, что лодочный мотор без лодки – не двигатель, а шумовой эффект, и что новинка, не обеспеченная необходимыми спутниками, уже не приносит радости и облегчения, а ведет все к тем же обрыдлым очередям.
Сегодняшняя очередь сплошь и рядом свидетельствует не столько о нехватке продукции, сколько об отсутствии снабженческой гибкости, умения торговать. В результате жгучий дефицит возникает на почве полного, даже изобильного насыщения отдельными видами товаров.
Именно так в Ямпольском районе Сумской области возник дефицит лошадей. Знаете, трактора, комбайны, электродвигатели и прочая моторизация – вот и выжили потихоньку тягловую скотину. То есть кое-что еще есть, но в совершенно недостаточных размерах. Настолько недостаточных, что даже хлеба уже скормить некому. Не черного, конечно, а белого, потому что черный граждане едят сами. С авоськами, полными свежими паляницами, бегают ямпольцы по улицам, приставая к прохожим с вопросами:
– Скажите, здесь случайно лошадь не проходила?
И, бывает, нарываются на невежливый ответ:
– Ишь, какой шустрый! Сами уже час ищем!
Все это кажется совершенно невероятным. Но вот свидетельство очевидца.
«В хуторе Воздвиженском я наблюдал такую картину, – пишет туляк Н. Боровик, приезжавший погостить в Ямпольский район. – Из хлебного магазина вышли две девушки. В сетках у них было по четыре буханки хлеба – поровну белого и черного. Девушки подошли к лошади, стоявшей неподалеку, и скормили ей весь белый хлеб. На мой удивленный вопрос они ответили, что живут они в шести километрах от хуторов, белый хлеб не любят, а нести домой, чтобы он там черствел, – не хочется. Зачем же тогда покупали? Иначе нельзя, ответили мне. Во всех магазинах района введен такой порядок, что черный хлеб продают только вместе с белым. Обязательная пропорция – 1:1.
Я не поверил и тут же отправился в магазин. Взял булку ржаного, но кассирша категорически потребовала, чтобы я взял и белый. Таков, объяснила она, приказ председателя райпотребсоюза тов. Качана. Сделано эго для того, чтобы белый хлеб, пользующийся меньшим спросом, не залеживался на прилавках, а производственные мощности не простаивали».
Девушкам, конечно, повезло, что лошадь оказалась неподалеку. Но представьте себе кошмарность положения, если бы рядом стоял не конь, а самосвал. Грузовику паляницы не скормишь, и хвостом в знак благодарности он не помашет. Пришлось бы им побегать по городу в Поисках проголодавшегося мерина, а потом ставить перед районными организациями актуальный вопрос об отставании коневодства.
Нетрудно заметить, что лошадиный, газобаллонный, кинопленочный и прочие дефициты не укладываются в классические рамки нехватки. Это дефициты-младенцы, появившиеся на свет буквально на наших глазах. Их породили ужасно непохожие причины. С одной стороны, – это день ото дня расцветающая палитра бытовых и продовольственных товаров. С другой – старый, как пень, морщинистый примитивизм, привыкший иметь дело с безгласным, всеядным, безотказно кланяющимся покупателем, а все недостатки выдавать за трудности роста.
Пора решительно расторгнуть этот мезальянс. Пора сделать так, чтобы появление новых товаров не сопровождалось старыми ошибками. Ну какой, скажите на милость, смысл в улучшениях, которые вызывают лишь раздражение?
ЕЛКИ-МОТАЛКИ
Гордость наших лесов – лось-великан поедает гордость наших лесов – красавицу березу.
Цитата
Жизнь неоднозначна. Она увешана множеством медалей, каждая из которых имеет свою обратную сторону. Даже такое благородное начинание, как бдительная охрана лосей, имеет свои отрицательные последствия. Животные активно поедают лиственный молодняк, уменьшая отчетный процент залесенности.
Эту шкодливость лесных великанов сначала просто игнорировали. Потом животных стали осуждать на совещаниях. Критика не помогла. Тогда заговорили ружья. Вполголоса заговорили, по куцым лицензиям.
Лосей поубавилось, но лес по-прежнему страдал. Казалось, сохатые бросили дерзкий вызов человеку. Каждое третье дерево в подмосковных лесопарках – в Бухте радости, Березовой роще, на Солнечной поляне – носило на себе безжалостные следы зубов, рогов и копыт.
«Шум-гул будоражит вековые угрюмые боры, когда гордый сохач, хрипя и роняя желтые хлопья пены, влекомый тысячелетним инстинктом утоления жажды, продирается к облюбованным местам водопоя, – велеречиво объясняли фенологи. – Мотнет гордой рогатой головой могучий бык, обнажит не знающие устали резцы – и вот уже никнет, истекая душистым соком, юная белоствольная березка».
– Стрелять их, – кратко отзывались охотники. – Жаканом его, вредителя!
На очередную либерализацию лицензионного дела лоси ответили утроенной поедаемостью лесонасаждений. И кто знает, до чего бы все это докатилось, если бы какой-то лось-хулиган не выгрыз на коре старинного дуба исполненные щемящей грусти слова: «Я ждал тебя, Маня!»
– Слушайте, – засомневались лесоводы, – а может, это выгрыз совсем не лось?
– А кто же?
– Ну, кто-нибудь более высокоорганизованный. Например, учащийся старших классов.
– Учащийся дуба не угрызет. Кроме того, у них природоведение проходят: срубил дерево – посади два. Нет, в школьников я верю крепко.
– Ну, тогда студент. Какой-нибудь суровый юноша с техническим уклоном.
– Гм, с техническим... Но это надо еще установить экспериментально.
Провели экспериментальный рейд. И на первом же километре изловили юношу физкультурной наружности с блуждающим взором и топором за поясом. На развитых плечах его покоились две прекрасные свежесрубленные ели.
– Ай-яй-яй! – сказали изловленному юноше Кошкину. – Не тому тебя, Вася, в школе учат.
– Какой я Вася! – надменно ответил физкультурник. – Я Василий Васильевич, студент химико-технологического института.
– Зачем же вы, Василий Васильевич, елки украли?
– Украли?! Это со склада крадут. А я просто срубил. Не ожидая милости от природы.
– Грамотные вы, Василий Васильевич.
– Да уж не юный мичуринец. С гербариями не мараюсь.
Ох, напрасно студент Кошкин хаял молодое поколение. Юннат нынче тоже пошел с запросами. Цветики-пестики, личинки-тычинки – все это уже в прошлом. Не успели просохнуть чернила на протоколе, увековечившем деяния студента, как взору участников рейда открылась картина широкой лесоразработки. Несколько десятков маленьких человечков, деловито ухая и поплевывая на ладони, мастерски вели лесоповал. Работами руководили две строгие дамы в нейлоновых кофточках и босоножках с белыми носками. В дремотной лесной тишине гулко разносились их педагогически поставленные голоса:
– Ты чего расселся, Вова? Пионер должен быть трудолюбивым.
– Я устал, Галина Никитична, – хныкал ленивый Вова. – Мне елка попалась твердая-претвердая.
– Тогда сруби ольху. Или березу. Но не сиди без дела. Воспитывай в себе силу воли, Вова. Достойно неси эстафету своих отцов и старших братьев.
– Мой папа шофер, он не рубит ольху.
– Не умничай, Вова! Маленький еще, чтобы умничать.
Ах, как радовался несовершеннолетний Вова неожиданному появлению лесоохраны. Но зато учительница Галина Никитична кипела от негодования:
– Вы подрубаете под корень педагогический процесс!
– А вы – двадцать семь деревьев! Посмотрите, что вы уничтожили! Ведь этой березе тридцать лет!
– Не тридцать, а тридцать два. Между прочим, мы для того и спилили ее, чтоб посчитать годовые кольца.
– Но ведь это варварство!
– Не варварство, – назидательно ответила учительница, – а закрепление пройденного материала.
Результаты рейда начисто реабилитировали лесных великанов. При всем желании нельзя было зачислить в лосиное семейство многочисленных обладателей столичной прописки, отчаянно орудовавших в пригородных лесопарках режущими, колющими и рубящими инструментами.
Так что зря критиковали сохатых, с хрипом продиравшихся к водопою. Над «зеленым другом» измывались совершенно недоступными для сохатых орудиями и методами.
– Так дальше продолжаться не может! – вполне резонно решили в Московском управлении лесопаркового хозяйства. – В местах массового отдыха почти не осталось неповрежденных деревьев. Так взовем к бдительной милиции.
Милиция охотно откликнулась на зов. Бдительный старшина Попырев, скрипя новенькими сапогами, непробиваемой стеной стал на пути лесонарушителей. В морозные предновогодние вечера он лично проверял груз у пассажиров электричек. И горе было тем, кто пытался провезти кудрявые елки. Старшина извлекал их из тамбуров, вытаскивал из-под сидений, неумолимо составлял протоколы и безжалостно конфисковывал незаконно порубленное.
После чего конфискованное тут же перепродавал желающим. По среднерыночным ценам.
И до чего же заразительной оказалась эта предпринимательская инициатива! Уж до чего, казалось, далеки от мероприятий по охране общественного порядка малоквалифицированный сварщик завода «Красный Октябрь» Б. П. Болдин и экс-токарь Красногорского механического завода А. С. Ершов. Но и они не остались в стороне от охраны лесных угодий. По собственной инициативе, никем не побуждаемые, надели они красные повязки дружинников и стали активно изымать у проезжих срубленные елки. Каждое конфискованное растение дало приятелям натуральный доход на сумму в 3 рубля 62 копейки.
Конечно, нетрудно обратить гнев общественности против алчных лжедружинников. Но что делать с теми, кто калечит леса, наивно считая себя искренним почитателем живой природы?
В субботне-воскресные вечера московские автобусы насыщаются концентрированным ароматом черемухи.
Это алчные любители природы волокут то, что взяли у леса на память. И даже не взяли, а отобрали, ограбили. Такая у них, видите ли, чуткая душа.
А лес шумит. Поэтично, но все же нечленораздельно. II лишь самые чуткие фенологи угадывают в шорохе его листьев грустную истину:
– Я-ю друг тебе, человек. А ты?
НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
Признаться, я не знаю технологии выращивания сахарной свеклы. Вероятно, поэтому доводы редактора зеньковской районной газеты до меня вначале не доходили. Как я ни старался его понять, у меня ничего не излучалось.
– Но это ведь так просто! – сокрушенно воскликнул редактор. – Простите за откровенность, но даже не верится, что в наше время встречаются еще журналисты, которые...
– Вы правы, – пробормотал я, заливаясь краской стыда. – Наверное, я был недостаточно внимателен и пропустил какую-то очень важную деталь вашего рассказа. Но если вы согласитесь повторить его еще раз, я буду предельно сосредоточен. Если можно, не спешите, чтобы я, преодолев необразованность, смог впитать ваши аргументы.
Редактор взглянул на меня не без сомнения, но согласился.
– Сахарная свекла – основная культура, произрастающая на территории нашего района, – скучным голосом начал он. – Из этого следует, что чем лучше ее урожай, тем выше авторитет районного руководства. Улавливаете?
Я заверил, что улавливаю.
– Решающий этап в борьбе за высокий урожай свеклы – прореживание посевов. Это трудоемкая работа, которая должна быть выполнена в максимально короткие сроки. Что для этого нужно сделать? Знаете?.. Правильно, разжечь огонь массового соревнования. Чем раньше разжигали этот огонь? Голыми призывами. А как положено разжигать теперь? На конкретном положительном примере. Видите, ничего сложного тут нету!
«До чего же полезная беседа! – радостно подумалось мне. – А я-то, чудак, был уверен, что организация соцсоревнования – сложное и хлопотливое дело!»
– Инициатором соревнования стали колхозники «Перемоги», – продолжал редактор. – Они выступили в нашей газете с обращением ко всем свекловодам района, где пообещали закончить прорывку рядков за семь рабочих дней. От имени всех членов артели обращение подписали председатель колхоза, секретарь парторганизации, агроном, звеньевые и так далее. Соответствующие районные организации эту инициативу соответствующим образом одобрили, и «Перемога» стала официальным положительным примером. А ровно через семь рабочих дней в нашей газете был опубликован победный рапорт колхозников «Перемоги», а также поздравления районных организаций. Ну, как, теперь вам все понятно?
– Конечно! – удовлетворенно сказал я. – Даже странно, как это я сразу не уразумел таких простых вещей. Возможно, потому, что вы упоминали о каких-то дождях, и это меня сбило с толку.
– Дожди – это само собой! – нетерпеливо передернулся мой собеседник. – Да, не отрицаю, дожди были. Даже не дожди – ливни. Из-за них-то свекловоды «Перемоги» и не выполнили своего обязательства. Прорвали свеклу не за семь, а за тринадцать рабочих дней.
– Что? – опешил я. – Но вот номер газеты! Вот рапорт, где сообщается, что все с честью сделано именно за семь, а не за тринадцать! Вот приветствие районных организаций! Вот портреты победителей! Вот передовая статья!
– Правильно! – подтвердил редактор. – А вы что, хотите, чтобы мы агитировали с помощью голых призывов? Нет, голубчик, так теперь нельзя! Надо на конкретном, на положительном примере колхоза «Перемога». Чтобы все как положено!
«Это ужасно! – с горечью подумал я, встретившись с чистым и твердым взглядом собеседника, – Очевидно, я просто недалекий, к тому же оторвавшийся от жизни человек. Я снова ничего не понимаю, и у меня не хватит духу просить, чтобы редактор в третий раз повторил свей рассказ».
– Может, вас как редактора ввели в заблуждение? – с надеждой спросил я. – Может, председатель, агроном, бригадиры и так далее подписали этот лживый рапорт с какой-то неприличной целью?
– А они-то здесь при чем? – удивленно всплеснул руками редактор. – Я писал рапорт, я его и подписал!
– За председателя?
– Да.
– И за агронома?
– Ага.
– И за бригадиров? За каждую из восьми звеньевых? За всех тех, кто «и так далее»?
– Именно.
От неожиданности у меня перехватило дыхание.
– Позвольте, но в таком случае никакой это не рапорт! Это же филькина грамота, фальшивка, «липа»!
– Как же это может быть «липой», – снисходительно усмехнулся редактор, – если это одобрили руководящие районные организации?
– А что, если этого не одобряют те, чьи фамилии подписаны под вашим рапортом? Если они не желают выглядеть лгунами перед всем районом? Если им не нужна дутая слава и лицемерные поздравления?
На лицо моего собеседника набежала туча.
– Вы, товарищ, говорите, – жестко сказал он, – но вы, товарищ, не заговаривайтесь! Если надо, нас поправят из области. Не вам судить, что так, а что не так! Сами ведь признавались, что не знаете технологии выращивания сахарной свеклы.
Удар был нанесен точно в цель. Я прекратил сопротивление. Потому и обращаюсь за помощью.
Дорогие коллеги из областных организаций! Вам подвластны тайны свеклосеяния. У вас всегда под рукой почвенно-климатические карты Зеньковского района. Для моего собеседника вы, без сомнения, авторитетны, а потому разъясните ему, пожалуйста, такие истины.
Нельзя прославлять колхозников только за то, что они почему-либо не выполнили своих обязательств.
Нельзя умиляться бегуном, который вывихнул ногу и сошел с дистанции.
Нельзя радоваться семейному счастью человека, которого по не зависящим от него причинам бросила любимая жена.
Нельзя восхищаться покойником за то, что гроб идет ему к лицу.
И ни за что, ни при каких условиях нельзя печатать подметные письма в качестве победных реляций.
Разъясните моему несговорчивому собеседнику, что похвала в таких случаях превращается в приписку, сладкая ложь – в надругательство, а социалистическое соревнование между колхозниками – в бюрократическую возню безответственных трубадуров.
Постарайтесь сделать это на конкретном, желательно отрицательном примере. Благо за ним недалеко ходить.
СОСЕДНЯЯ ПОЛОВИНА
Полностью сознавая опасность категорических заявлений, утверждаю, тем не менее, со всей ответственностью: в системе профессионально-технического образования нет и не может быть учреждения более благополучного, чем Тюменское сельское ПТУ № 13.
Вы не глядите, что у него такой настораживающий номер – тринадцать: все это предрассудки! Какой-то глубокой внутренней цельностью веет уже от выходных данных училища: созданное на базе треста «Тюменьмелиоводстрой», оно расположено на окраине города, в поселке Мелиораторов, и их же, мелиораторов, призвано готовить.
Два с половиной года назад управляющий трестом «Тюменьмелиоводстрой» тов. Пушкарев торжественно перерезал алую ленточку на новом трехэтажном учебнобытовом корпусе и передал ключи директору училища тов. Беляеву. Отдел кадров треста облегченно вздохнул. В далекое прошлое уходила беспросветная нужда в квалифицированных специалистах. Не надо больше переманивать людей с соседних предприятий, незачем побираться в сопредельных областях. Написал заявку – и жди!
На стендах объявлений, около автостанций, у сельских и городских школ запестрели ярко-красные громадные буквы: «Производится прием учащихся». И вскоре шестьдесят юных кандидатов в мелиораторы выстроились перед новым корпусом. Через полгода – еще шестьдесят. Еще полгода – еще столько же. Потом в училище решили не мелочиться и набрали сразу сто двадцать, поскольку трест наращивал темпы работ и нуждался в четырехстах специалистах. Ветры радужных перспектив надували паруса нового учебного заведения.
Впрочем, эти цифры – лишь тусклое отражение блистательного состояния дел в ПТУ № 13. За два с половиной года в его отчетных документах не зарегистрировано ни одного неуспевающего! Сколько угодно расспрашивайте окрестных дружинников и милиционеров – нет, не назовут вам ни одного факта, ни одной фамилии учащегося, который своим поведением бросил бы тень на честь кузницы мелиораторов. Уборщицы всей области смертельно завидуют тете Гале Возжиной, кастелянша Егорова спит спокойнее всех остальных кастелянш Западной Сибири, и, пожалуй, даже перед Уральським хребтом не сыщете вы коменданта, которому так легко давались бы его традиционно нелегкие обязанности, как коменданту СПТУ № 13 Екатерине Селиверстовне Иванычук.
А уж дисциплина, какая твердокаменная царит здесь дисциплина! Ровно в назначенный час от назначенного места отходит служебный автобус, увозя весь штат в поселок Мелиораторов. И даже шофер-ветеран не припомнит случая, чтобы кто-нибудь опоздал хоть на полминуты.
Да, никто не смог бы упрекнуть директора училища С. А. Бедяева в том, что он неумело подобрал кадры. У старшего мастера Василия Максимовича Устюжанина нет среди учащихся ни любимцев, ни пасынков, и фантастическим абсурдом кажутся ему доносящиеся порою до СПТУ № 13 вести о том, что в одном училище мастер распил с воспитанниками поллитровку. (Тут уместно отметить, что Серафим Антонович, директор, не пропускает ни единого совещания как в масштабе города, так и области, постоянно информируя преподавательский коллектив как об отдельных, увы, встречающихся еще недочетах в воспитательной работе, так и о передовом опыте.) Что же касается старшего бухгалтера Августы Корниловны Скобелевой, то даже в безупречно дисциплинированном коллективе училища она выделяется особым служебным рвением. И не зафиксировано случая, чтобы она забыла вовремя привезти зарплату, а привезя, упустила спросить у директора:
– Разрешите выдавать?
На что Серафим Антонович, еще раз мысленно обозрев безупречную работу учреждения в целом и каждого из подчиненных в отдельности, отвечает:
– Что ж, выдавайте.
Ах, дорогие читатели, какая жалость, что я не поэт!.. Я воспел бы училище № 13 высоким штилем, я сравнил бы его со сверкающим бриллиантом, с величественным тюльпаном в тюменском профессионально-техническом цветнике. Но я, к сожалению, сатирик, а потому скрепя сердце вынужден обратить внимание на то, что даже столь выдающемуся заведению присущи отдельные недостатки.
Ну, например, в объявлениях о приеме крупными литерами зафиксировано: «При училище организуется вечерняя общеобразовательная школа, работают спортсекции, кружки художественной самодеятельности и технического творчества».
Так вот все это, как бы помягче выразиться, несколько преувеличено. Не организуется вечерняя школа, не работают кружки технического творчества, не слышно в спортзале топота мускулистых ног, и задорные песни самодеятельности не рвутся по вечерам из сверкающих огнями окон трехэтажного корпуса. Впрочем, и сами окна ничем не сверкают. Они темны.
Ибо за два с половиной года своего существования наше безупречное училище № 13 ни одного дня никого не учило. Все четыре набора, последовательно выстраивавшиеся перед новым зданием, выслушивали печальное объявление о том, что занятия отменяются на неопределенное время, и отбывали навсегда. Из училища мелиораторов. Из поселка Мелиораторов. Из треста «Тюменьмелиоводстрой», который (о, ветер перспектив!) теперь уже нуждается не в четырехстах, а в тысяче специалистов.
А дело тут вот в чем. Аккурат на следующий день после того, как управляющий трестом тов. Пушкарев перерезал ленточку, городская санэпидстанция училище закрыла. Или, точнее, прикрыла. До тех пор, пока не будут построены канализация и водоснабжение. Согласно имеющимся инструкциям и полномочиям.
Конечно, училище, которое прикрыто, – это, строго говоря, не училище, а здание. Но трест и не отвечает за училище. В его обязанности входит лишь подготовить здание. Вот он и подготовил. Отчитался в досрочном освоении средств, выделенных на нужды профессиональной подготовки. И на том остановился, сочтя, что его половина дела выполнена. Дальше уже простирается чужая половина – Тюменского областного управления профтехобразования.








