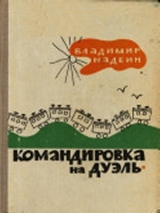
Текст книги "Командировка на дуэль"
Автор книги: Владимир Надеин
Жанры:
Сатира
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Но областное управление тоже знает, где начинается его половина: закупить инвентарь, выделить фонд заработной платы для персонала. И то, и другое было сделано в надлежащее время и с надлежащей щедростью.
Правда, по-прежнему, как и три года назад, нет молодых мелиораторов. В этом есть определенные преимущества: трест экономит на водоснабжении, а управление – на фонде заработной платы, поскольку ставки двух мастеров производственного обучения в училище до сих пор (вот она, рачительность!) вакантны. И если приедет какая-нибудь строгая комиссия, то обе стороны смогут бодро отчитаться за свою половину. Трест предъявит документы, согласно которым здание училища введено в строй. А управление выложит папки с утвержденными учебными программами, списками закупленного оборудования и ежемесячной тысячей рублей – той самой, которую регулярно привозит исполнительнейший бухгалтер Августа Корниловна, И даже отчитается за общую цифру подготовленных кадров, поскольку несостоявшихся мелиораторов спешно распределяют по другим учебным заведениям.
И все равно – нехорошо. Неловко. Управление ставит вопрос перед трестом. Трест, сетуя на нехватку средств, – перед вышестоящими инстанциями. Но вы ведь знаете, как трудно выбить дополнительные ассигнования. Труднее, чем построить еще одно училище мелиораторов. Кстати, вопрос этот, учитывая нужду в кадрах, назревает.
А нынешнее, номер тринадцать, можно оставить так. Чтобы не рисковать его идеальной репутацией. Чтобы сохранить в заповедной неприкосновенности удивительное ОПТУ № 13 – этот неповторимый цветок, взошедший на ничейной территории, на стыке двух «чужих» половин.
ВРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ!
Позвольте остановиться на очевидном. Позвольте громогласно отметить, что новые, прогрессивные традиции, круша и подмывая заскорузлые пережитки, стремительным потоком врываются в нашу повседневную действительность.
Фактов здесь хоть отбавляй. Поэтому исключительно для скептиков и маловеров приведу впечатляющую иллюстрацию – встреча скворцов! Встреча этих пернатых приятелей потихоньку становится всеобщим праздником. Не только простосердечные малолетки в пионерских галстуках, но и вполне взрослые граждане, нередко занимающие солидное служебное положение, с упоением стругают и сколачивают дощечки, чтобы весенний гость с первых минут почувствовал себя как дома, чтобы мог, не отвлекаясь заботами о крыше над головой, сразу же взяться за общественную полезную работу по съеданию личинок, червяков и гусениц, препятствующих садово-огородному изобилию.
Все это понятно. Скворец – существо полезное и забота о нем, кроме согревающего душу ощущения собственной доброты, дает весомый практический результат.
Конечно, установление новых традиций – дело сложное, деликатное, не терпящее суеты. Но хотелось бы обратить внимание на то, что не только среди пернатых, но и среди млекопитающих есть весьма полезные существа, не менее скворцов нуждающиеся в теплом приеме и пристойном жилье.
Среди подобных безусловно полезных млекопитающих мне бы хотелось в первую очередь назвать молодых врачей. Конечно, они не умеют склевывать гусениц, как скворцы, но ведь и птичкам не дано делать не только полостные операции, но даже элементарную пальпацию.
Между тем прием молодых врачей, скажем мягко, не везде еще стал маленьким или тем более крупным праздником. Может быть, потому, что прилетают они н? на трепещущих перьевых крылышках, а на могучих крыльях Аэрофлота. А может, потому, что они наотрез отказываются жить в скворечниках, требуя более комфортабельное наземное жилище.
Если трезво учесть разницу между пернатыми и дипломированными, то подобная настойчивость вряд ли может считаться чрезмерной привередливостью. Но находятся граждане, облеченные местной властью, которые с гневной страстью клеймят молодых врачей за «барскую изнеженность».
Аккурат год назад один такой руководитель из далекой северной области пришел в редакцию.
– ? Налетайте, фельетонисты! – призывно воскликнул он. – Актуальные темы бесплатно раздаются всем желающим!
Тема у далекого северного гостя была, собственно, одна, зато фамилий – несколько. Это были фамилии молодых врачей, позорно сбежавших с места назначения.
А места эти, отметим для объективности, были прелестные, дышавшие обильной таежной романтикой. В непосредственной близости от участковых больниц, рентгенокабинетов и родовспомогательных заведений токовали тетерева, всхрапывали могучие лоси, серебристыми торпедами вспарывали голубые водные долины таймени и хариусы. А подальше, километров за двадцать-тридцать, бродили мохнатые беззаботные медведи.
– Красота! – даже прищелкнул языком гость. – И всю эту прелесть молодые лекари променяли на копоть и бензиновый чад городов.
Долг фельетониста – внимательно проверить поступившие сигналы. Тем более такие, где речь идет о трусости, неблагодарности, а также вызывающем нежелании молодого специалиста выполнить свой долг перед обществом.
И вот мы сидим друг против друга – ян позорно сбежавший терапевт.
Терапевт как терапевт: очки, диплом, тонкий профиль и 24 года за плечами, включая младенчество, отрочество и коллоквиумы в медицине. И я в упор задаю вопрос, который должен сбить с него налет внешнего спокойствия и повергнуть в психологический шок:
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему вы сбежали из места распределения?
– Подробно не получится, – невозмутимо отвечает терапевт. – Причина только одна.
– Связанная с престарелой бабушкой? – иронически «догадываюсь» я.
– Нет, с шерстью.
– Какой шерстью?!
– Обыкновенной, лохматой. Видите ли, как и все, я страдаю одним существенным недостатком: у меня нет ни шерстяного покрова, ни подшерстка. Когда лежишь на сене во время осеннего заморозка, особенно остро ощущаешь нехватку этого атавизма.
– Значит, надо было уйти с сеновала, – подсказал я.
– Вы знаете, это прекрасная мысль! – с жаром подхватил терапевт. – Но куда уйти?
– Как куда? В дом.
– В какой дом?
– Который вам выделили.
– А если никакого дома не выделяли? В смысле выбора местожительства мне предоставили полную инициативу: живи, где хочешь. А точнее, где сможешь. Я смог только на сеновале. Учитывая тамошние климатические условия, это не всегда полезно для здоровья.
Как вы догадываетесь, уважаемый читатель, фельетона я так и не написал. С одной стороны, как-то неловко защищать дезертира трудового фронта. А с другой – сеновал, расположенный не столь уж далеко от Полярного круга, и впрямь не совсем подходящая квартира для молодого специалиста.
Но сейчас, предвидя грядущий выпуск молодых эскулапов, хочется всерьез поговорить о сеновалах. А заодно – о романтике.
Надо отметить, что правительственные решения составляют для палаточной романтики узкое поле деятельности. В этих решениях прямо и четко указывается, что молодых специалистов следует с первых же дней обеспечивать всем необходимым для работы и быта, в том числе благоустроенной квартирой. И ни в одном параграфе нет ссылки на то, что обилие непуганых глухарей в близлежащих окрестностях снимает с местных властей обязанность заботиться о жилье для специалистов.
Спору нет, молодой врач, трусливо убегающий из «глубинки» только потому, что он привык к индустриальному пейзажу, заслуживает стопроцентного презрения. Но следует учитывать, что работа вузовского выпускника основывается на четких договорных началах: я вам – знание, добросовестность и трудовой энтузиазм, вы мне – внимание, заботу и приличное жилье.
– А как же наши отцы и деды! – жарко возразит поборник зябкого сеновала. – Они шли навстречу трудностям, не хныча и не кивая на полное отсутствие коммунально-бытовых прелестей.
Снимем шляпу перед отважными отцами и дедами!
Снимем, помолчим и снова наденем.
А надев, скажем прямо: в наши дни бурного индустриального домостроения и возросшей инициативы местных Советов все эти ссылки на давно минувшие годы звучат красивой отговоркой. Более того, за восторженными романтическими ахами нередко маскируются и административная несостоятельность и элементарная безрукость.
В бодрые майские дни, когда институтские коридоры оглашаются последними звонками года, у молодых специалистов в особом почете крупномасштабные карты. Тщательно изучаются рельеф, пути сообщения и природно-климатические условия градов и весей, откуда прибыли заявки, удовлетворенные комиссией по распределению. Из насиженных комнат институтских общежитий разлетаются открытки, которые в тех или иных выражениях разносят идентичную информацию: пишите нам, подружки, по новым адресам...
Подружки, конечно, напишут. Но будут ли адреса?
Конечно, в подавляющем большинстве – будут. Будут новые дома, уютные квартиры и добротные хаты с палисадниками и фруктово-ягодными насаждениями.
Но нас сейчас интересуют не правила, а исключения, не преобладающие плюсы, а отдельно взятые минусы. Ибо морозные сеновалы сказываются отрицательно не только на верхних дыхательных путях молодого терапевта, но и на здоровье окрестного населения, которого означенное население вскоре лишится.
Молодой врач – это, понятно, не скворец. И гусениц он не клюет, и поет не так умилительно. Однако, несмотря на эти недостатки, смеем категорически утверждать: врачи прилетают – это вполне достаточный сигнал для того, чтобы строгать, циклевать, штукатурить.
И еще – проводить электропроводку, ибо врач – это все-таки не грач.
ГОРДЫНЯ КЛИЕНТА НЕ КРАСИТ
Тщательный анализ практики бытового обслуживания показывает, что в последнее время ряд клиентов ведет себя в принципе неверно. Происходит это потому, что в некоторых устных и печатных выступлениях слишком большое внимание уделяется обязанностям сферы обслуживания.
Каких только правил не обязаны соблюдать работники этой сферы! И быстро все делать, и качественно, и не обсчитывать клиентов, и даже улыбаться им за те же деньги.
А обслуживаемый? О его обязанностях говорится скудно: плати деньги и подвергайся сервису. Ну, и еще разве – не употребляй некультурных выражений в присутствии дам.
Практика показывает, что подобная теория только дезориентирует обслуживаемую массу и ей же, в конце концов, вредит. Потому что контакты со сферой быта – дело тонкое, деликатное, требующее определенной морально-волевой подготовки. И если говорить напрямую, то давно уже пора организовать курсы повышения квалификации клиентов.
Глубоко заблуждается тот, кто полагает, будто для получения услуг достаточно быть просто культурным человеком. Вот, например, краснодарский житель П. М. Степанов уж до чего интеллигентен: и слова умные говорит, и в интонациях вежлив, и вообще заведует кафедрой философии в медицинском институте. Но как клиент – абсолютно неподготовленный человек.
Конечно, сам тов. Степанов раньше об этом не подозревал. Лишь случай раскрыл ему глаза. В августе, проездом в Туапсинский оздоровительный лагерь, к Степановым приехала из Грозного дочь с мужем – супруги Медведевы. И, экономя время, попросили папу заранее купить авиабилеты на обратный рейс.
Папа оказался человеком слова. Ровно за декаду до намеченного срока он позвонил в Краснодарское городское агентство Аэрофлота.
– Чего? – отозвалась труба недоброжелательным контральто.
– Прошу два билета до Грозного.
– Нет, это просто нахальство! – почему-то возмутилось контральто и бросило трубку.
Тут автор обязан заметить, что тов. Степанов, естественно, был человеком философского склада ума. Не трепля понапрасну свою нервную систему, он самолично отправился в агентство, чтобы обслужиться предварительным заказом согласно рекламе Аэрофлота.
Но оказалось, что реклама рекламой, а жизнь жизнью. Пришлось тов. Степанову стать в очередь без всякой предварительности.
О, эта южная очередь в конце августа! Кто из нас не подогревал ее теплом своего размякшего от жары тела! Очередь немедленно вовлекла Степанова в организационную работу, наделив его общественной нагрузкой: записывать претендентов на полет и следить за пунктуальным соблюдением порядка.
И наконец – свершилось! Спустя два дня томительного стояния в кармане счастливого завкафедрой лежали хрустящие голубые билеты.
Но тут случилось непредвиденное. То ли супруги Медведевы ели немытые фрукты, то ли не кипятили воду перед употреблением, фактом остается лишь то, что аккурат накануне отбытия в Краснодар они оказались в Туапсинской больнице с острым желудочным заболеванием.
Будем гуманны, читатель! Прочь злорадную назидательность. Не будем читать нотаций о правилах санитарии и гигиены. Все больные достойны сочувствия, но еще большей жалости заслуживают иногда здоровые. П. М. Степанов был практически здоров, но именно на его долю выпали самые тяжкие испытания.
Оказалось, что сдать билет ничуть не легче, чем его приобрести. Дедушка терпеливо отстоял изрядную очередь к начальнику смены, чтобы получить санкцию на сдачу билетов. Потом выстоял еще более солидную очередь в кассу. Потом заполнил дотошную анкету, в которой подробно осветил свой жизненный путь от момента рождения до наших дней. И когда все, казалось, близилось к счастливому концу, кассирша сказала:
– Денег не верну!
– Но почему? – вежливо, но с достоинством спросил завкафедрой.
– А потому, что билеты выписаны на Медведевых, а вы – Степанов.
– Этот казус вполне объясним, – назидательно произнес философ. – Моя дочь, урожденная Степанова, вышла замуж за молодого человека по фамилии Медведев. Зарегистрировавшись законным браком, она взяла фамилию супруга и, таким образом, также стала Медведевой. Приобретая для них билеты, я, согласитесь, не мог игнорировать этот документальный факт. Но внезапно они заболели. В Туапсе. Вы, вероятно, не будете оспаривать, что в данной ситуации их отсутствие здесь совершенно оправдано.
Это было ошибкой. Спокойная уверенность, с которой тов. Степанов разъяснил положение, показалась кассирше вызывающей.
– Дочь, говорите? – недоверчиво прищурилась она. – С мужем, говорите? А где их паспорта?
– Там же, в Туапсе.
– Вот и обращайтесь в Туапсе! – злорадно воскликнула кассирша. – А нам говорить не о чем!
– Но позвольте, – сбиваясь с позиций созерцательной невозмутимости, взмолился философ. – Ведь билеты мне продали без удостоверения личности. А тут даю вам законный паспорт с собственной фотографией, печатями, с постоянной краснодарской пропиской – неужели мало?
– Не кричите, гражданин, вы не на базаре! – мстительно улыбаясь, ответствовала кассирша. – Откуда я знаю, чьи это билеты и где вы добыли свой паспорт? В общем, отойдите и не мешайте работать!
– Не мешайте человеку работать! – грозно повторил начальник смены, к которому обратился тов. Степанов. – Вы пассажир, вот и знайте свое место!
– Это вы знайте свое место! – не выдержал тов. Степанов. – Кто для кого существует: я – для вас или вы – для меня?
Спина презрительно удалявшегося начальника была ему ответом. Очередь безмолвствовала, и лишь какая-то добросердечная старушка участливо посоветовала:
– А ты не кричи, голубок, а ласкою, ласкою... Может, барышня к тебе и снизойдет... Гордыня, она клиента не красит!
Не знаю, сумел ли бы тов. Степанов лаской и смирением размягчить твердое, как черноморская галька, сердце кассирши. Эксперимент не состоялся, философ на компромисс не пошел.
Но в принципе старушка права. Ее реплика точно отражает нынешнее состояние взаимоотношений обслуживающего и обслуживаемого.
А отношения эти, увы, неравноправны. Гордый некогда заказчик низведен до жалкого положения смиренного просителя. Он канючит у прилавка комиссионного магазина, искательно заглядывает в глаза закройщику, осыпает холодными благодарностями меховщика и падает на колени перед высокомерно проносящимся мимо зеленым огоньком такси.
Но, конечно, в лести, как и во всем другом, следует соблюдать меру. То есть она может быть безудержной, сладкой, как рахат-лукум, выдержанной от начала до конца в самых примитивных традициях цыганских попрошаек. Но не надо излишней эмоциональностью травмировать психику обслуживающего персонала. Персонал этого не любит. Того из клиентов, кто дает волю своим эмоциям, ждет неминуемое фиаско.
По случаю грядущего бракосочетания группа родственников новобрачных обратилась в белгородский ресторан «Турист» с просьбой изготовить четыре праздничных торта. Как водится, уплатили сполна, узнали, когда являться за заказом. В назначенный срок явились.
– Гм, – сказала продавщица. – Чего же это вы пришли в два часа?
– А вот здесь написано: явиться в четырнадцать ноль-ноль.
– Мало ли чего написано. У меня до трех перерыв.
Перерыв так перерыв. Дождя, кстати, не было, светило солнце, родственники, согреваемые его лучами и мыслью о предстоящей церемонии, спокойно потоптались часок перед закрытыми дверьми. А ровно в три продавщица сказала:
– Знаете, у нас такой порядок – без заведующего заказные торты не выдавать. Он должен сам удостовериться в высоком качестве, чтобы заказчик был доволен.
– Прекрасно, – обрадовались родственники. – Пусть поскорее удостоверится, а то через полчаса молодые приезжают из загса.
– Ваши молодые могут приезжать, когда им вздумается, – заметила продавщица. – Но заведующий болен, так что приходите завтра или лучше послезавтра.
– Да, но у нас свадьба!
– А это уж меня не касается. Хотите, отмените свою свадьбу, а хотите, гуляйте так, без сладкого.
Тут бы пасть родственникам на колени, умолить. А они не сориентировались. И мамаша невесты совершила непоправимую ошибку. Она заплакала. Крупные слезы покатились по морщинистым щекам и гулко застучали по буфетной стойке. И до того все это расстроило продавщицу, что она закрыла кассу и ушла.
– Мне, – говорит, – не за то деньги платят, чтобы я на ваши слезы смотрела.
И тут какой-то решительный дядюшка по жениховской линии не выдержал. Закричал, зашумел, потребовал чуткости обслуживания и жалобную книгу.
Слезы мамаши – это был недолет. А вопли дядюшки – перелет. В конце концов он добился того, что торты выдали. Ну и что? Зато продавщица заявила, что на заказные кондизделия тара не фондируется. Другими словами, несите свои торты в ладонях, давите нежный бисквит выходными пиджаками, купайте свадебные галстуки в кремовых розочках.
Нет, клиент должен знать свое место. Плетью обуха не перешибешь. И чем раньше обслуживаемые поймут всемогущество обслуживающего – тем лучше для них.
Учитесь обслуживаться, граждане.
ТРОПКА К ЛИЦУ
Взяточник у нас идет на убыль. Не то чтобы его совсем уж нет – до этого, понятно, еще не дошло. Но в некоторых административно-территориальных пределах ряды мздоимцев настолько поредели, что иные граждане даже ощущают беспокойство и тревожатся, как бы в части искоренения не перегнули палку.
А иные из-за этого в целом положительного факта даже страдают.
Вот, например, Раиса Ивановна Петрова, которая как раз и пала жертвой. Она заведовала магазином № 6 Воронежского горкоопторга и взяток никак не брала. Она, конечно, поворовывала немножко, но не с целью какого-нибудь зверского обогащения, а, можно сказать, для души, потому что супруг у нее был пьющий.
Так что жилось ей и без взяток удовлетворительно, холодильник на зиму не отключался.
Только как-то приходит к ней на службу хорошая знакомая Александра, повариха из ресторана «Воронеж».
– Чувствую, – говорит повариха, – у меня с мировоззрением что-то неладное происходит. Совсем веру в человечность потеряла.
И в таком отчаянии опустилась на какой-то мешок, что даже белая пыль от нее пошла и что-то хрустнуло.
Прояви тут Раиса Ивановна заскорузлую черствость – кто знает, чем бы все окончилось. Но не проявила! Наоборот, отодвинула от себя мятые накладные, улыбнулась ласково и участливо промолвила:
– Встань, Александра, с макарон и расскажи, в чем дело. А то дамочка ты комплектная, и макароны под тобою моментально потеряют товарный вид...
Отчаяние Александры было вполне объяснимо. Полгода жизни потратила она, чтобы найти в Воронежском горисполкоме лицо. На лапу этому лицу хотелось поварихе положить две тысячи двести мудрено добытых рублей. Но сколько ни старалась, с какой стороны ни заходила – ничего не вышло.
– Квартиру? – догадалась Раиса Ивановна.
– Ее!..
– Двухкомнатную?
– Именно.
– С совмещенным санузлом?
– С раздельным, – зардевшись, поправила Александра.
– И не дают?
– Не то чтобы не дают – даже не берут! Такое распроклятое положение: деньги есть, а дать некому. Хоть объявление вешай, хоть сама вешайся! Я полагаю, потому не откликаются, что человек я мелкий, начальству подозрительный. Вы же как-никак заведующая, через вас возьмут.
И вот исключительно ввиду такой безвыходности страдающей поварихи, движимая чувством товарищеской взаимопомощи, по чистой простоте душевной и административной наивности, без единой корыстной мыслишки согласилась Раиса Ивановна посодействовать и деньги полной суммой от Александры приняла.
– Матушка наша заступница! – исступленно возблагодарила повариха и, ублаженная, побежала в ресторан шкварить порционные шницеля.
А Раиса Ивановна осталась с деньгами наедине. И стала думать.
Нельзя сказать, что совсем уж не было у нее знакомых, которые согласились бы те тысячи принять. И взяли бы, и услуги какие-нибудь оказали. По продовольствию или по промтоварной линии. Но такого, кто, получив, квартирой бы отблагодарил, – такого лица на примете не было.
И решила Раиса Ивановна, что незачем горячку пороть, а надо просто выждать, пока сам собою подвернется нужный человек и тогда уж дать на лапу в рабочем порядке.
А деньги пусть полежат. Не усушатся.
Так пробежало несколько недель, лишенных скольнибудь примечательных событий. Разве только стоит упомянуть, что почти каждый день прибегала повариха – поблагодарить.
Да, и еще однажды вечерком Раиса Ивановна подумала так:
«Если я и выявлю лицо, то давать ему две тысячи двести рублей просто глупо. Потому что двести – это вроде как от круглой суммы хвостик, который выглядит несолидно».
И, несолидности избегая, тут же хвостик переложила в свой карман.
А потом, по какому-то теперь уже забытому поводу, взяла еще двести. Конечно, она так в уме планировала, что потом, когда лицо подвернется, она две сотни вернет. Однако возвращать со временем расхотелось, и Раиса Ивановна взяла еще триста. Потому что полторы тысячи хоть и не две, но также звучит округленно.
Тем временем Александра оказалась не в силах утаить свое счастье. Она (по большому, понятно, секрету) рассказала нескольким надежным подругам, что совсем недолго осталось ей до квартиры с раздельным санузлом, потому что завмаг Петрова имеет такой надежный ход наверх, что даже деньги согласилась принять.
Подруги – тоже, конечно, по секрету – своим подругам. Те – своим. Короче: вскоре к Раисе Ивановне явились две труженицы коммунально-бытовой службы и еще один труженик-скорняк. И выложили на стол деньги с письменным примечанием, кому какая и в каком районе квартира надобна.
– Ни-ни! – наотрез отказалась Раиса Ивановна. – Это уже свинство! Сделай одному одолжение – все норовят на шею сесть.
Но тут труженицы принялись рыдать, а скорняк со словами «А как же мужское равноправие, равноправие мужское как!» – ручку лобзать, причем наколол ее усами пребольно. И отчасти по доброте, а отчасти – руку вызволяя, снизошла Раиса Ивановна и деньги общей суммой три тысячи сто пятьдесят рублей приняла.
– Только не всем сразу, – честно предупредила Раиса Ивановна. – Квартиры буду предоставлять в порядке живой очереди.
И загулял по городу слух – липкий, неотвязный. Говорили, что в Воронежском исполкоме берут совершенно уж в открытую, причем суммы назывались с жутким загибом в сторону невообразимости. Орошаемые буйными цифрами, привольно и безответственно прорастало мнение, что не мелкие канцеляристы тут замешаны, а облеченные, президиумные, с колокольчиком. Словом, отцы!..
Хоть ни одной квартиры не обеспечила еще Раиса Ивановна, но сам собою образовался у нее банк. Восемнадцать граждан несли к ней тучные свои накопления! За десять тысяч перевалило! Уж и заимствовала она из кучи, и просто брала не считая – и на ремонт, и на гарнитур после ремонта, на отдых южнобережный. Супруг же что ни день заливался марочным до полнейшей неодушевленности, – а клиент все ждал не ропща.
Потому что: действовала Раиса Ивановна психологично – сперва принимать отказывала, а уж потом уступала.
Потому что: расписки выдавала не морщась. Смешно ей было представить, что захочет скорняк объяснить прокурору, откуда у него взялись тысячи.
Потому что: куда податься поварихе, когда и кооперативная очередь в Воронеже – на несколько лет?
В такой вот обстановке появился на приеме у Раисы Ивановны клиент № 19 – нахал Гришка, Григорий Васильевич, водитель таксомотора. Он оставил каких-то жалких четыреста рублей, недоверчиво осмотрел расписку и пообещал прибыть через неделю.
И что вы думаете, – прибыл. И даже потребовал немедленно показать ему квартиру. Ту, которую получит.
– Ну, знаешь!.. – возмутилась Раиса Ивановна. – Забирай свои паршивые копейки и чтоб духу твоего не было!
– На ваши рекомендации мне начхать! – нагло ответил водитель. – Расписка – вот она. За свою взятку желаю жилплощадь!
Чтобы отвязаться, сообразила Раиса Ивановна чтонибудь ему все-таки показать. Завела в первый попавшийся ладный дом, на третьем этаже наугад позвонила.
– Из райисполкома! – небрежно бросила Петрова открывшей дверь старушке. – На что жалуетесь? Бачок не течет?
Не было у старушки жалоб, да и быть не могло. Потому что зять старушки – надо же случиться такому совпадению! – как раз работал зампредом райисполкома. Понятно, что бачки у него никогда не протекали.
Пока бабушка что-то бормотала, Раиса Ивановна успела показать Гришке всю квартиру. Уютную, просторную.
– Сойдет, – одобрил жилплощадь Гришка. – Выписывай ордер, я согласный. Только учти – без проволочек!
Да, шустр и нагл был водитель таксомотора. Уже на следующее утро прибежал к зампреду поторапливать, чтобы поскорее освобождал помещение.
– Это еще зачем?! – поразился ничего не подозревавший хозяин.
– А затем, что я буду здесь проживать. Давай выматывайся!
– Хулиган!.. Милиция!..
В магазине таксист появился с увесистым гаечным ключом. Но объясниться с Раисой Ивановной в тот день не удалось: она забюллетенила.
– Врешь, не обманешь! – прохрипел Григорий Васильевич и, оформив отпуск, устроил в торговом зале магазина бессменную засаду.
Через него и перезнакомились все вкладчики, терпеливо навещавшие благодетельницу. Тут-то и открылось, сколько их, безрезультатно давших.
Запоздалым прозрением, коллективным походом к прокурору и последующим осуждением Р. И. Петровой нарсудом Коминтерновского района дело не кончилось. Потому, что до сих пор ходит-мотается по Воронежу слушок, что берут в исполкоме совсем уж в открытую. И в доказательство истинности припоминают какого-то усатого скорняка, который, дескать, дал на лапу – и сразу получил. Трехкомнатную. С раздельным санузлом!
ПОЛУСРЕДНЕЕ УХО
В кабинет главврача Одесской портовой поликлиники шаркающей старушечьей походкой вошел человек. Был он молод, широкоплеч, крепконог. Если бы не скорбный взгляд и пук ваты, торчавший из правой ушной раковины, он вполне сошел бы за оживший персонаж иллюстрации на тему: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
– Вы ко мне? – спросил вечно занятый главврач.
– Нет, к Пушкину, – с чарующим остроумием отозвался молодой человек. Он с маху опустился на стул, и дерево жалобно застонало под его могучим телом. – Что же ж это такое творится в вашей паршивой лавочке?
Можно легко представить, как поступил бы любой владелец отдельного кабинета в подобной ситуации. Наверное, он вскричал бы громовым голосом: «Да как вы смеете!» или «Вон, наглец!» А может, молча и категорически указал бы зарвавшемуся пришельцу на дверь.
Да, так поступил бы любой владелец служебного кабинета, но только не главврач. Человеку его профессии сердиться не дозволено. Слово дано ему только для того, чтобы ласкать.
Итак, стараясь делать вид, что ничего особого не произошло, главврач участливо спросил:
– Что у вас?
– Вот! – ответил здоровяк и величественным жестом вынул из уха ватку, бросив ее на стол. – Полюбуйтесь!
Главврач послушно склонился над столом. Ватка как ватка, хотя могла бы быть и почище, постерильнее.
– И все же, на что вы жалуетесь?
– Как на что! На вашу ухогорлоносшу! Я к ней, можно сказать, на бровях приполз, а она бюллетень зажиливает. Это надо же, а? Да у меня все полусреднее ухо ярким пламенем пылает!
– Какое ухо?
– Правое полусреднее.
– Понятно, – кивнул главврач, – Вы за какую команду болеете?
– За «Черноморец». А что? – насторожился здоровяк.
– Ничего особенною. Просто советую запомнить: полусредние – это в футболе. Ухо же – внутреннее, среднее и внешнее.
– Не может быть, – на мгновение смутился визитер. Но тут же снова схватился за ухо. – А мне до лампочки, среднее оно или полусреднее! Мне главное бюллетень вынь да положь!
– Вы совершенно напрасно нервничаете, – мягко ответил врач. – И потому второпях схватились не за то ухо, из которого минуту назад вытащили ватку. Но ничего, это бывает. А теперь успокойтесь и идите работать.
– Ага, так ты издеваться! Да я за одно свое ухо трех твоих зубов не пожалею!
– Не волнуйтесь, пожалуйста. Я провожу вас до выхода.
Но едва главврач взял ревущего молодца под локоток, агрессивный пациент свирепо вознес свою копытообразную десницу и...
Тут, пользуясь авторским самовластьем, я должен на некоторое время законсервировать этот эпизод. Знаете, как стоп-кадр в кино. Или как популярная детская игра «Замри-отомри».
Так вот, скомандовав своим невымышленным героям: «Замрите!» – я перехожу к несколько вульгаризованному изложению диалектического закона единства и борьбы противоположностей.
Человечество делится на две части по многим признакам. Спортивный тренер, например, делит все население на перспективных и неперспективных. Последние интересуют его чуть меньше, чем мерцание далеких галактик. Девица предельно допустимого возраста подразделяет всех мужчин на женатых и холостых. При прочих равных условиях холостые, понятно, имеют в ее глазах бесспорное преимущество.
И т. д. и т. п.
Врачи, или, как принято изящно выражаться, люди в белых халатах, проводят не очень четкий водораздел между здоровыми и больными. Не очень четкий потому, что даже на идеальном организме богатыря возможен прыщик, грозящий абсцессом, в то время как мучимый воспаленной надкостницей страдалец может быть обладателем хрестоматийно чистых легких.
Но все же водораздел этот есть, и высшая точка его, по одну сторону которого размещается «то», а по другую – «не то», – больничный лист.
Есть у тебя больничный лист – ты болен.
Нет у тебя больничного листа – ты здоров.








