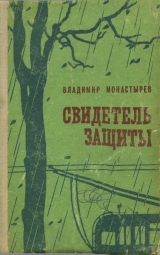
Текст книги "Свидетель защиты"
Автор книги: Владимир Монастырев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
7
Поселок Желобной несколько лет назад был поселком лесопункта. Теперь лес тут не рубили: по берегу реки его уже свели, высоко в горы лезть дорого и несподручно, тем более что правила рубок стали жесткими – сплошных лесосек не дают, выборочно – на здешних склонах леспромхоз еще не изловчился.
Население поселка сократилось, но он не опустел вовсе, как это случается с некоторыми бывшими лесопунктами. Жили здесь семьи наблюдателей заповедника, семьи лесорубов, работавших на соседних лесопунктах. Были люди без определенных занятий, в том числе и молодые: одни ждали, когда придет их время служить в армии, другие собирались с мыслями после армии.
Были в поселке дома заброшенные, с заколоченными ставнями, но многие отличались прочностью и ухоженностью. И скот здесь водился, и птица бродила по улице, и магазинчик торговал бойко.
– В городе, чтобы узнать подноготную целого района, – сказал Андрей Аверьянович, – надо суметь разговорить маникюршу.
– Тут маникюрши нет, – отозвался Прохоров, – тут есть тетка Эльмира, продавщица в магазине.
– Вы с ней знакомы?
– Не так с ней, как с ее сожителем. Мы к нему сейчас и наладимся.
Дом продавщицы Эльмиры стоял на отшибе, отступив из общего порядка к самому лесу. Большинство строений в поселке сборные, обмазанные глиной или оштукатуренные; дом, к которому подъехали Прохоров и Андрей Аверьянович, был срублен из пихтовых стволов, покрыт дранкой, наличники на окнах резные, замысловатого рисунка, крыльцо тоже изукрашено резьбой.
– Чья это работа? – спросил Андрей Аверьянович.
– Ипатыча, – ответил Прохоров.
– Он что же, из ярославских или владимирских? Там такие наличники делают.
– Точно, из тех краев, после войны здесь осел.
Они спешились и привязали лошадей к изгороди. На крыльце появился крупный русобородый мужчина. Лет ему было пятьдесят с небольшим. Легко переставляя деревянную култышку, ремнями пристегнутую к правому бедру, он сошел с крыльца, поздоровался и пригласил в дом.
В просторных сенях стены были заняты инструментом, на видном месте висела коса. В горнице бросалась в глаза большая русская печь, аккуратно побеленная; загнетка задернута ситцевой занавеской. Чисто выскоблен деревянный стол, прочны табуретки вокруг стола и у стен. На стене – ружье и патронташ.
Занавеска висит и на дверном проеме, ведущем в другую комнату. Сейчас она не задернута, и видны фотографии в темных рамках, край деревянной кровати с горой подушек. Пол деревянный, без щелей, тоже чисто выскоблен и вымыт, доски не скрипят, не прогибаются. Пахнет печеным хлебом и какой-то травой.
Понравилось Андрею Аверьяновичу в этом доме – добротно, аккуратно, чисто, витал здесь дух центральной России, которую он так любил.
Ипатыч пригласил гостей садиться, а сам, откинув за печкой люк, полез в подвал и достал соленые огурчики, маринованные грибы, квашеную капусту, все это было пахучее, ядреное, такое аппетитное, что сама собой во рту скапливалась голодная слюна.
Появились на столе графин с прозрачной жидкостью и графин с желтоватой, мясо с чесноком и душистый хлеб, выпеченный в русской печке.
– Закусим, – пригласил Ипатыч. – Эльмира моя придет не скоро, ждать ее не будем.
– Откуда она родом? – спросил Андрей Аверьянович. – Имя у нее, вроде, не русское.
– Родом она, как и я, – ответил Ипатыч, – из Ярославской области, а имя от нее независимо: родитель дал. Самого родителя звали Панкратом, и это прозвание ему не нравилось, потому как он был сильно привержен ко всему новому и поповские имена не признавал. Свое имя менять он не решился, а дочь нарек Ревмирой, что означало Революция мира, или по-другому Мировая революция. Ну, кличут ее больше Панкратьевной, а то Эльмирой, – привычней уху и выговаривать легче.
Выпили по стопочке из графина светлого. Андрей Аверьянович с непривычки поперхнулся.
– Это из диких груш, – пояснил Ипатыч, – ракой прозывается. Мутноватая получается и с душком, а я достиг чистоты, – он потянулся налить еще по одной, но Андрей Аверьянович заробел и попросил из другого графина, в котором было сухое вино.
– Имя у нее чудное, – выпив еще по одной, продолжал Ипатыч, – а воспитал Панкратьевну родитель правильно: хозяйка она хорошая, все эти соленья-варенья ее рук работа. И чистоту любит. А это для бабы первое дело. Мы с ней еще на фронте сошлись-то, когда я об двух ногах был. Она меня не бросила, когда мне ногу-то оторвало, разыскала в госпитале и сюда увезла. В свою Ярославскую мы не поехали, после войны там и на двух-то ногах мужики еле стояли, а мне с одной и соваться туда не стоило. А тут у нас корешок фронтовой жил, звал приезжать. Мы и приехали. По первости и здесь было несладко – после немца разор кругом. Потом ничего, обжились. Я по плотницкому делу, по столярному, корзины из прутьев могу изготовить всякие. А она по торговой части пошла, у нее это получается.
Ипатыч успевал и говорить и закусывать. Ел аккуратно, вкусно, приятно было на него смотреть. Андрей Аверьянович смотрел и слушал, выказывая интерес к тому, что рассказывал хозяин. Прохоров, боясь, что Ипатыч так и не доберется до дела, их интересующего, попытался вмешаться, но Андрей Аверьянович сделал знак, чтобы он не вмешивался, и таким тоном, будто его больше ничего на свете не занимало, спросил, почему же Ипатыч не узаконил до сего времени свои отношения с Ревмирой Панкратьевной. Хозяин на это ответил охотно:
– Сразу после войны Панкратьевна хотела, чтобы мы поженились, – рассказывал он, наливая еще по одной, – но я не соглашался: зачем ей инвалида с деревянной культей себе на шею вешать. Живем – хорошо, не заладится – разбежались в разные стороны и делу конец. Теперь оно и поздно разбегаться-то, а уж неловко перед людьми свадьбу играть. А и зачем она? Детей у нас нет, капиталов не нажили, делить и отказывать нечего.
Андрей Аверьянович слушал еще минут десять, а потом, когда Ипатыч уже окончательно к нему расположился, позволил Прохорову перевести разговор на историю с убийством браконьера.
– Мы тут сильно удивлялись, – сказал Ипатыч, – когда узнали, что арестовали Кушелевича. Не верилось, что он Гришку Моргуна подстрелил. Потом говорят – улики против него собрались. Никто как он. И вроде бы за здорово живешь, будто бы Гришка в него и стрелять не собирался, а он будто с испугу, как его увидел в лесу, так и пальнул. Выходит, раньше времени, – Ипатыч усмехнулся. – Надо было подождать, когда бы Гришка его продырявил, тогда принимать меры.
На крыльце кто-то громко затопал ногами, хлопнула дверь, и в комнату вошла крупная, круглолицая женщина.
– Вот и Панкратьевна пришла, – представил вошедшую Ипатыч. – Садись, мать, с нами, выпей стаканчик.
Панкратьевна метнула быстрый взгляд на стол и тотчас бросилась в прихожую. Погремев там кастрюлями, она вернулась с новыми тарелками, в которых лежали соленые помидоры и куски вареного мяса. Поставив на стол тарелки, Панкратьевна села, взяла стакан с вином и, обращаясь к Андрею Аверьяновичу, сказала:
– А и выпью. С добрыми людьми почему не выпить. Со знакомством.
Отпила глоток и аккуратно поставила стакан.
– А я им тут за Гришку говорил, – пояснил ей Ипатыч.
– Чего уж теперь за него говорить, – откликнулась Панкратьевна, – царствие ему небесное, как говорится. А тут на земле-то первый бандит в лесу был, никого не жалел и не миловал. Весь поселок его боялся. По правде сказать, народ у нас Кушелевича жалеет, потому как по справедливости Кушелевичу, если это его рук дело, надо благодарность объявить, а не в тюрьму сажать. Даже дружки Гришкины и те радуются, что его прибили. Он ведь и корешков своих, которые с ним по лесу шастали, вот так держал.
Панкратьевна сжала в кулак свои пухлые пальцы.
– Иногда и поколачивал, – добавил Ипатыч.
– Силен был? – спросил Андрей Аверьянович.
– Пашке Лузгину зуб выбил, – ответил Ипатыч, – Володька Кесян от него фонари носил. На что здоровые мужики лесорубы у нас были, и те с ним не связывались: с окаянной бил, как конь копытом.
– С окаянной говорите, – заинтересовался Андрей Аверьянович. – Он что же, левша был?
– Левша, – подтвердил Ипатыч.
– И ложку в левой держал, – добавила Панкратьевна.
– И стрелял с левого плеча, – сказал Ипатыч, – сам видел. Метко стрелял, другой и с правого так не попадет, как он с левого.
Андрей Аверьянович тотчас вспомнил, как стоял в рододендронах Прохоров. У него левое плечо было выставлено вперед. Левша, держащий ружье на руке, подставит правый бок. И если в него выстрелить с другого берега, то пуля как раз войдет в шею справа от кадыка, выйдет слева. Как и засвидетельствовано в медицинском заключении.
– Они все, вся их компания, сильно злобились на Кушелевича, – сказала Панкратьевна. Говорила она вроде бы для всех, но предпочтение отдавала все-таки Андрею Аверьяновичу, который так располагал к себе умением слушать. – После того особенно злобились, как он застукал охотничков с мясом в заповеднике. Моргун тогда сухой из воды вышел, а родной братец Пашки Лузгина, Федор, загремел в тюрьму. Пашка божился, что рассчитается за братца.
– А я так думаю, – высказал свое Ипатыч, – что не иначе, как он навел Моргуна-то на Кушелевича. Он не дюже храбрый, тот Пашка, но злой и хитрый, как хорек, чужими руками мастер жар загребать. Без него тут никак не обошлось. В тот день, когда Гришку убили, в поселке его как раз не было, это факт.
– А сам Пашка что говорит? – спросил Прохоров.
Ответила Панкратьевна:
– А ничего не говорит, ходит себе, усмехается. Следователь его допрашивал, а он доказал, что не имеет к этому делу касательства, потому как находился в другом месте, на пастбищах колхоза Кирова, там его видели, свидетели есть. Знать, говорит, ничего не знаю. А если что и знаю – про себя держу и другим советую.
– Это он, конечное дело, не следователю, а тут говорил, – пояснил Ипатыч. – Вроде предупреждение делал, чтобы не трепались, языки не распускали. Он теперь вроде бы за атамана у тех, которые мясо промышляют: хитер, ловок, стреляет метко. В стрельбе-то он самому Моргуну не уступал – за тридцать шагов консервную банку кидали вверх, он влет навскидку бил…
– От Моргуна терпели, теперь от Пашки будем терпеть, – вздохнула Панкратьевна, – один другого стоит. Вон Людка Зверева уже из поселка в город подалась. От Пашки сбежала.
Ипатыч усомнился:
– Она и раньше, вроде, уезжала?
Панкратьевна посмотрела на него снисходительно, как смотрят на человека, высказывающегося о том, что он знает смутно.
– Как Гришку убили, она уехала. Это верно. С горя уехала, убивалась по Гришке сильно. Любовь у них была.
– Ты скажешь – любовь! – возразил Ипатыч. – Как у кошки с собакой.
– Что вы, мужики, в этом понимаете? – усмехнулась Панкратьевна. – Самая это любовь и есть, когда один другому уступить не хочет. А как Пашка к ней сунулся, она его сразу и отшила и еще Моргуну пожаловалась. Вот тогда-то он Пашке зуб и выбил. И дружку его Кесяну фонарь поставил, – она повернулась к Андрею Аверьяновичу, полагая, что с Ипатычем больше и говорить не стоит на эту тему. – Уехала она, как в воду канула, а недавно вернулась. Пашка опять к ней. Защитника-то нет, оборонить от Пашки некому, вот она и сбежала.
– Лихая девка была, – не без мечтательности произнес Ипатыч, – Гришке под стать, фигурная, лицо белое…
– А ты уже так все и разглядел, – ревниво воскликнула Панкратьевна. – А ну их всех, гостям, поди, не больно интересно все это и слушать… Вот я вас сейчас холодным взваром угощу.
Она ушла за взваром, а Прохоров с Андреем Аверьяновичем встали из-за стола и стали прощаться, сославшись на то, что путь им предстоит еще дальний и сегодня засветло надо успеть в контору.
8
Вернувшись в город, Андрей Аверьянович еще раз внимательно просмотрел дело Кушелевича. Еще там, в горах, поинтересовался Андрей Аверьянович, далеко ли от места убийства Моргуна до пастбищ колхоза имени Кирова. Прохоров сказал, что хороший ходок, отлично знающий горные тропки, за два часа сможет «добежать» до пастбищ. Меньше, чем за два часа никак не добраться. «А если верхом?» – спросил Андрей Аверьянович. Прохоров ответил, что верхом еще дольше, потому что полдороги коня надо вести в поводу по крутякам и осыпям и разогнаться вообще там негде.
Пастухи колхоза имени Кирова засвидетельствовали, что после полудня Лузгин еще был у них на пастбище. «После полудня» – понятие растяжимое, следователь это понимал и не успокоился до тех пор, пока не допросил некоего Вано Курашвили, экспедитора, прибывшего в тот день из-за перевала, из Абхазии. Курашвили утверждал, что помнит, сколько было времени, когда они виделись с Лузгиным. Тот подряжался закупленное экспедитором масло поставить в селение Пслух.
Расстались они в два часа дня. Курашвили ориентировался во времени по часам, а не по солнцу.
Выходило, что в два часа пополудни Лузгин был еще на пастбищах колхоза Кирова, а убили Моргуна в три часа дня. Это время назвал Кушелевич и подтвердили медики. За час, уверял Прохоров, Лузгин при всем желании не мог с горных пастбищ «добежать» до места происшествия. То же сказал директор заповедника, ходивший теми тропами. Не было оснований и для предположения, что Лузгин склонил Курашвили дать неверные показания: они с тех пор не виделись.
Виктор Скибко и Владимир Кесян, приятели Моргуна и Лузгина, тоже в тот день находились в лесу. Скибко целый день торчал на лесосеке, его там видело несколько человек. Было алиби и у Владимира Кесяна. В полдень встретил его Филимонов возле кордона без ружья, с самодельной удочкой. Ушел он не вверх, а вниз по реке. В четыре часа дня, через час после убийства, видели Кесяна геологи, бившие свои шурфы в одной из щелей за хребтом, отделяющим Малую Лабу от Большой.
Андрей Аверьянович взял карту и стал прикидывать, далеко ли от той щели до места убийства. По прямой выходило не так уж и далеко. Но по прямой в горах не ходят. Следователь, конечно, проверял, можно ли за час «добежать», как здесь говорили, от геологов до места происшествия. Пришел к выводу, что нельзя. Надо было проверить этот вывод, и Андрей Аверьянович в конце дня направился к директору заповедника.
Зубра и оленя, смотревших со стен кабинета, он приветствовал, как старых знакомых. Сел в покойное кресло у стола.
– Этот у вас давно? – кивок в сторону короткорогой головы.
– Этого я принял вместе с кабинетом, – ответил Валентин Федорович. – Говорят, погиб он на осыпи – зашибло большим камнем, пришлось пристрелить.
Андрей Аверьянович спросил насчет тропы от геологов до верховьев Лабенка. Вместе с Валентином Федоровичем долго водили они карандашами по карте, висевшей за спинкой директорского кресла.
– Отсюда поближе, чем с горных пастбищ, – сказал, наконец, Валентин Федорович, – и не одна, а две тропы выводят к тому месту, откуда стреляли в Моргуна, но…
– Что вас смущает?
– А то смущает, что короткой тропой здесь давно не пользуются – оборвался висячий мостик через ущелье. Вот здесь, – он показал на карте, где был висячий мостик. – А другая вон как идет, вкруговую.
– Выходит, что у трех наиболее вероятных кандидатов в убийцы, – сказал Андрей Аверьянович, возвращаясь в кресло, – есть алиби. И снова мы возвращаемся к Кушелевичу.
– Но мог быть кто-то четвертый, кого мы и не подозреваем?
– Мог быть и четвертый, но мы о нем понятия не имеем, значит, практически четвертого не дано. Четвертый – Кушелевич. Он же пока что первый, кому предъявлено обвинение в убийстве.
Валентин Федорович, уперев локти в стол, стиснул голову ладонями. Медленно произнес:
– В горах, в самых диких и головоломных, все-таки легче и проще, чем в дебрях юстиции.
– Самые сложные и головоломные дебри – это жизнь, каждодневная, такая обычная на первый взгляд, – сказал Андрей Аверьянович, – сплетение и столкновение страстей, характеров, самолюбий. Человек недалекий не замечает этого, ленивый не хочет видеть. Юстиция не имеет права ни на то, ни на другое, она обязана проделывать в этих дебрях проходы, вести санитарные рубки, отличая низость от благородства, подлость от высоких побуждений.
– И всегда ей это удается?
– Увы, не всегда. Юстиция – это область человеческой деятельности, а люди могут ошибаться.
– Вот это меня и удручает.
– Я возлагаю большие надежды на судебное разбирательство.
– Суд может согласиться с доводами и выводами следствия.
– Может, конечно. А может и не согласиться. Кстати, первая забота адвоката как раз о том, чтобы суд не просто с кем-то согласился, а рассмотрел все обстоятельства дела заинтересованно и объективно, тем более что дело это не такое уж заурядное, как может показаться с первого взгляда. Хотя бы потому, что обвиняется один, а убийца скорее всего кто-то другой. По элементарной логике убить должны были Кушелевича, а убили – Моргуна. Почему?
– Вот именно, почему?
– Если бы у Лузгина или Кесяна не было алиби, я бы предположил, что это сделал кто-то из них. И тем и другим Моргун помыкал, даже, случалось, поколачивал. Кстати, не без повода: «ла фам» по имени Людка, у конторой с Моргуном был роман. И Павел Лузгин ее домогался, за что и был Моргуном бит.
– А это вам откуда известно? – спросил Валентин Федорович.
– От Ревмиры Панкратьевны, – ответил Андрей Аверьянович, – к которой, как справедливо заметил Прохоров, поселковые женщины сносят все сплетни. Так что были у Павла Лузгина и его приятеля основания. Мягко выражаясь, питать неприязнь не только к Кушелевичу, но и к Моргуну. Если они и не убивали, то руки к этому делу приложить могли.
– Но доказательств их причастности ни у следователя, ни у нас нет. Видите, – усмехнулся Валентин Федорович, – я уже рассуждаю по вашей методе – с одной стороны мы убеждены, что Кушелевич не убивал, с другой – уверены, что тут не обошлось без браконьеров, с третьей – у нас нет никаких доказательств, которые можно предъявить суду.
В дверь постучали.
– Войдите, – сказал Валентин Федорович.
В кабинет вошла молодая женщина, смуглолицая, большеглазая, в ярком цветастом платье. Нельзя сказать, что наряд ее отличался строгим вкусом, но шел к ней. Андрей Аверьянович подумал, что этой женщине пойдет любой наряд – она была великолепно сложена, держалась уверенно.
– Вы ко мне? – спросил Валентин Федорович.
– Мне нужно видеть защитника Петрова, – женщина остановила взгляд на Андрее Аверьяновиче. – Сказали – он здесь.
Переглянувшись недоуменно с Валентином Федоровичем, Андрей Аверьянович слегка кивнул головой.
– Я Петров. Чем могу служить?
– Поговорить с вами надо.
– С кем имею честь? – спросил Андрей Аверьянович.
– Зверева моя фамилия.
– А зовут Людмилой.
– Да. Вы меня знаете? – удивилась женщина.
– Слышал о вас, – сказал Андрей Аверьянович.
Валентин Федорович встал, вышел из-за стола.
– Вы, наверное, хотели бы поговорить с защитником наедине? – обратился он к Зверевой.
– Да, лучше наедине, – ответила она.
– Скажу, чтобы вас тут не беспокоили, – повернулся директор к Андрею Аверьяновичу.
Когда он вышел, Андрей Аверьянович усадил Людмилу Звереву в кресло, сам сел напротив.
– Я вас слушаю.
– Не знаю, как начать… – замялась Зверева.
– Начните о того, что объясните, почему вы пришли ко мне, а не в прокуратуру.
– Я была в прокуратуре, там мне сказали, что следствие закончено, скоро суд. Тогда я пошла к жене Кушелевича, сказала ей.
– Что же вы ей сказали?
– Сказала – не верю я, что Кушелевич убил Григория, и не хочу, чтобы невиновный пострадал.
– И она адресовала вас ко мне?
– Да. Сказала – идите к защитнику Петрову и расскажите ему все, что знаете.
– И что же вы знаете?
– Не верю я, что Кушелевич стрелял в Григория.
– Не верите или точно знаете?
– Я там не была, когда стреляли, сама не видела…
– Тогда почему же не верите?
Людмила Зверева совершенно мужским жестом стукнула кулаком по коленке.
– Ну как вам объяснить…
– Не торопясь, спокойно, – сказал Андрей Аверьянович. – Вы любили Григория Моргуна?
Зверева помедлила с ответом. Потом решительно подтвердила:
– Любила. Вы знаете, какой это был человек? Никого не боялся, с ним можно куда угодно – не страшно.
– Хоть на край света? – без улыбки спросил Андрей Аверьянович.
– Хоть на край света.
– Но не звал? – Андрей Аверьянович говорил по-прежнему серьезно.
– Позвал бы, – невесело усмехнулась Зверева, – да не успел, убили, гады. Они ему в подметки не годились, дрожали перед ним мелкой дрожью, потому и убили.
– Кто – они?
– Пашка Лузгин, Кесян. Они его убили, а не Кушелевич.
– Они что же, сами вам в том признались?
– Не дураки они, чтобы признаваться. Но я-то знаю – они. Когда Григория убили, я из поселка уехала. Не могла там оставаться, бежала, куда глаза глядят. До Кондопоги добежала, подружка там у меня живет, возле нее зацепилась. Решила – останусь там, буду жить где-нибудь на озере, в лесу. Забудусь. Только от своей болячки разве убежишь? Нет, не убежишь! Вернулась я в поселок. Все-таки мать здесь, какое-никакое хозяйство. А тут Пашка Лузгин опять ко мне. Он и раньше подкатывался, но Григорий его отвадил. Теперь Григория нет, Пашка проходу не дает. И грозит еще. Если, говорит, не будешь со мной жить, следом за Гришкой пойдешь. Намеки дает, что Григория не пожалел и со мной церемониться не станет.
– Значит, вы предполагаете, что Григория убил Лузгин?
Зверева ответила без колебаний:
– Уверена, что это его рук дело.
– Но у Лузгина есть алиби. Есть свидетели, видевшие его в час убийства далеко от места происшествия.
– Не он, так кто-то из его дружков, но все равно натравил Пашка.
– Убеждены?
– Убеждена!
– Но суду одной убежденности мало, нужны доказательства.
– Я и на суд пойду и на суде скажу – Лузгин убил. Меня в этот раз мать сама из поселка выпроводила, уезжай, говорит, от греха. Я уеду, мне здесь жить тошно, все о нем, о Григории напоминает. Но я твердо решила – пока его убийца на свободе разгуливает, уезжать мне нельзя. И к вам с тем пришла.
– Спасибо, что пришли, – Андрей Аверьянович встал. – Где вас найти, если понадобитесь?
– Я сама могу каждый день приходить, только скажите, куда.
– Вы все-таки лучше оставьте адрес, – Андрей Аверьянович подал ей ручку и листок бумаги.
Зверева написала свой адрес. Андрей Аверьянович проводил ее до дверей. Оставшись один, походил по кабинету, поглядывая то на великолепную оленью голову, то на зубра. «Ищите женщину», – вслух подумал Андрей Аверьянович. – Она сама нашлась. Но туман не рассеялся… А кто сказал, что женщина способна его рассеять? Скорее наоборот».
Ни зубр, ни олень ничего на это не ответили.
Покинув контору заповедника, Андрей Аверьянович не сразу пошел в гостиницу. По главной улице спустился к городскому парку, прошел по аллее к обрыву, нависшему над рекой и сел на скамью. Руки неловко лежали на коленях, и Андрей Аверьянович подумал, что хорошо бы завести палку с массивным набалдашником. Положил бы он сейчас руки на этот набалдашник, на руках утвердил подбородок и созерцал чудесную картину, открывшуюся перед глазами. Почему-то сейчас не в моде трости и палки. Наверное, потому, что некогда современным людям класть подбородки на массивные набалдашники, не тот ритм жизни.
Река под обрывом блестела на перекатах, жутковато темнела под обрывом. Где-то в горах, теснясь в ущельях, она бешено клокотала в брызгах, в пене, вздувалась от дождей, вырывала с корнями деревья. А здесь, на равнине, растратив силу, текла неспешно, даже лениво, только иногда на стремнине закручивала воронки, с силой несла лодку, тянула ко дну неосторожного пловца – напоминала, что это все-таки вода горная и норов у нее крутой.
За рекой была широкая пойма, ограниченная на горизонте зубчатой стеной леса. Небо над лесом еще светилось последним вечерним светом.
Мимо проходили молодые люди, больше парами, тихо разговаривали, смеялись. Андрей Аверьянович глядел на реку, на гаснущее небо, и ему не хотелось отсюда уходить и жаль было, что нельзя сидеть тут бесконечно. Не часто, но появлялись у него мысли о том, что профессию он выбрал себе нелепую: копаться в человеческих несчастьях и пороках, постоянно видеть жизнь в ее мрачных проявлениях, иметь дело с жуликами и убийцами. А жизнь имеет и другую сторону, фасад, многоцветный, яркий, привлекательный. Особенно явственно ощущал он это, когда бывал у дочери в Ленинграде. Там жили в мире театральных премьер и вернисажей, спорили о живописи Пикассо и восхищались Смоктуновским, необыкновенно исполнившим роль князя Мышкина в спектакле Большого драматического театра. Там смотрели «Идиота» и обращали внимание на игру актеров, но как-то не замечали грязи и ужаса бытия, изображенного Достоевским. Наверное, потому, что не знали той стороны жизни, с которой постоянно имел дело Андрей Аверьянович.
Такие раздумья о своей профессии приходили ему в голову редко и быстро уходили, забывались. А сейчас он просто не дал себе воли, встал со скамьи и, все еще сожалея, что нет в руке тяжелой палки с набалдашником, направился в гостиницу.








