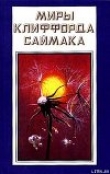Текст книги "Гонки с дьяволом"
Автор книги: Владимир Кузьменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Глава XXXVIII
СУД
Из всех смертей самая страшная – смерть бессмысленная. Офицерский путч унес в общей сложности сто десять человек. Из них – двадцать женщин, погибших под огнем танков в Грибовичах. План мятежников, составленный Голубевым, был рассчитан на то, чтобы «жестокими мерами», террором принудить население сдать оружие и привести в покорность. Это рассказал Покровский. Выстрел Евгении только ранил его и сейчас он уже поправлялся. Не буду кривить душой, были моменты, когда мое воображение рисовало самые страшные казни одна другой мучительнее, которым следовало бы подвергнуть убийцу Беаты. И я знаю, что никто бы не возразил против этого. Поляки обожали Беату. Они хотели тут же, когда выяснилось, что Покровский жив, привязать его к четырем коням и разорвать на части и уже приступили к осуществлению своего замысла, но им помешал Алексей. Я в это время был невменяем и не видел, что происходило вокруг меня. Человек слаб. Именно слабость делает его жестоким. Сейчас, много лет спустя после описанных событий, я могу объяснить нашу жестокость при разгроме вооруженных банд. Мы были в растерянности от ужаса обрушившейся на нас катастрофы, и эта растерянность, неуверенность в себе и обусловила те ужасные сцены жестокости и насилия, которыми так богат был этот период. А разве весь опыт истории человечества не свидетельствует об этом? Только слабость и неуверенность порождали жестокость. Неуверенность в правоте порождает террор. Самые жестокие деспоты прошлого от Ивана IV до Сталина были трусливыми, неуверенными в себе. И эта трусость в сочетании с неограниченной властью порождала массовые репрессии. Только создав из страны концлагерь, деспот мог быть уверен в собственной безопасности. Не является ли это общей закономерностью? Скорее всего, что да! Тогда не противоречу ли я себе? Помню, в первые годы после катастрофы я не испытывал страха, скорее, была необъяснимая собранность, решимость. Тогда почему такая жестокость? В чем причина? Тогда я так и не мог найти на этот вопрос ответа.
Когда после путча я стоял у бесчисленного, как мне показалось, ряда гробов, мною владело одно-единственное чувство – нелепости происшедшего. По-видимому, это чувство разделяли и окружающие меня люди. Даже не было зла на виновников, которые лежали тут же, вместе со своими жертвами. Их должны были похоронить в одной братской могиле. Кому пришла эта мысль? Кажется, Алексею. В таких похоронах был особый смысл. Истинным виновником трагедии было еще не ушедшее в небытие прошлое. Именно оно стало той слепой силой, которая привела к трагедии. Прошлое, которое захотело вернуться.
Среди похороненных в братской могиле не было двух: Беаты, которую похоронили у нашего дома, поставив на ее могиле скромный обелиск, и – Голубева, труп которого вывезли на вертолете и выбросили на съедение псам. Голубев был организатором и главной действующей пружиной в путче офицеров. Он получил то, что заслужил: мучительную смерть и лишение погребения. Пока я был в шоке, вызванном смертью Беаты, всем распоряжался Кандыба. Единственное, во что вмешался Алексей – не дал расправиться с Покровским, которого решили судить. Ждали только заключения Александра Ивановича, который лечил рану генерала. Пуля пробила ему правое легкое и застряла в кости лопатки.
Арестованные офицеры сидели в подвале под замком, и их допрашивала следственная комиссия. Нас интересовало, кто распорядился стрелять из пушки по домам. Как стало известно, захваченные мятежниками танки окружили село с трех сторон, а в само село в сопровождении еще двух танков въехал грузовик с мощным громкоговорителем. Жителей разбудило передаваемое воззвание Покровского, в котором сообщалось о захвате власти Военным Советом и предлагалось немедленно сдать оружие. Иначе, следовала затем угроза, танкам приказано будет стрелять по домам и уничтожить всех, кто попытается уйти, не сдав оружия. Тут же была передана ложная информация, что население Озерска и Острова признало новое правительство.
Алексей успел добраться до Грибовичей минут за пятнадцать до появления в нем танков. Вдвоем с Кандыбой они и организовали оборону. К счастью, склад противотанковых ракет оказался неподалеку. Почти все танки были уничтожены сразу. Последний подбили, когда он отступал к стационару. Возмущение людей было настолько велико, что выскакивающих из горящих машин танкистов тут же приканчивали. Разгоряченные боем люди нестройной толпой кинулись преследовать отступающих. И напоролись на орудия. Наступающие были накрыты первым же залпом и понесли большие потери. Второй залп мог стать роковым, если бы не мое вмешательство.
Среди погибших под снарядами была и Светка – Светлана Шевцова. Она геройски сражалась в этом бою наравне с мужчинами. Взбалмошная, несдержанная, вечно одержимая фантастическими идеями, она второй раз проявила незаурядное мужество. В ее маленьком хрупком тельце билось отважное сердце. В прошлом она чуть было не стала наркоманкой, а возможно, и преступницей. Прошлое… Сможем ли мы, оставшиеся в живых после катастрофы, дать когда-нибудь объективную и всеобъемлющую оценку этому прошлому? В нем было все: и величие могущества человека, могущества, которое в конце концов стало причиной его гибели, и глубина морального падения, бездуховность, отчужденность. Жестокие по своей сути законы, делающие из людей преступников, концлагеря, всесилие чиновничьей бюрократии – все это было в прошлом. Может быть, это прозвучит кощунственно, но иногда многие из нас радовались, что все это, как нам казалось, ушло безвозвратно. Так ли это? Разве мятеж не стал попыткой прошлого вернуться вновь? Мы понимали, что судить нам придется не кучку офицеров во главе со взбесившимся генералом, а Прошлое. Именно его мы должны будем приговорить к смерти, чтобы оно никогда не смогло вернуться.
– А все-таки скажите, генерал, – спросил я Покровского, когда Александр Иванович разрешил приступить к его допросу, – какую конечную цель вы преследовали?
– Видите ли, я считал, да и сейчас считаю, что вы упустили неповторимую возможность осуществить вековую мечту человечества: создать на планете единое государство и окончательно покончить с войнами, социальной несправедливостью, то есть – построить коммунистическое общество.
– Через военную диктатуру?
– Конечно! Иного способа принципиально не могло бы существовать.
– Следовательно, сначала диктатура, а потом всеобщее благо? И сколько бы продолжалась эта диктатура?
– Трудно сказать. Возможно, несколько поколений. Нам надо было бы успеть завоевать мировое пространство, то есть создать мощную армию и подчинить себе все остальные народы, которые еще не успели к этому времени создать военной организации. Затем мы восстановили бы промышленность, сельское хозяйство.
– Какими методами?
– Естественно, не без жертв и принудительного труда. Но поймите, другого пути нет и другого такого шанса никогда больше не будет. Разве не стоит ради этого пожертвовать жизнью нескольких поколений, чтобы в будущем тысячи и тысячи возродившихся поколений наслаждались бы покоем и справедливостью. Разве родители не жертвуют, если надо, жизнью ради своих детей?
– Вы видите в этом аналогию?
– Конечно! Старшие – родители будущих поколений. В этой жертве – великий зов человеческой природы.
– Но вы же создали на своей старой базе фактически крепостное хозяйство.
– А разве не приходится перед прыжком делать два-три шага назад, чтобы разогнаться? Эти меры были временными.
– Из опыта прошлого я знаю, что нет ничего более постоянного, чем такое «временное». Агрессор, когда вводил свои войска на чужую территорию, непременно заверял население оккупированной страны, что это лишь временные меры, которые сразу же прекратятся, как только исчезнут причины, их вызвавшие.
– Вы намекаете на оккупацию Чехословакии? Но мы же вывели оттуда войска.
– Когда? Через сколько лет? За это время сменилось целое поколение. А ведь в Чехословакии начинались как раз те процессы, которые через семнадцать лет «потревожили» и нас. А Афганистан? Это что, также происходило ради блага?
– Но вы не знаете, кто тогда стоял у власти.
– А где гарантия, что при установлении диктатуры у власти не окажутся люди подобного сорта?
– Вы говорите об этом так, как будто сами были участником событий. Сколько вам было лет?
– Немного. Но это не имеет значения. Я сейчас вспомнил сцену, которая, несмотря на трагичность ситуации, может показаться забавной. Отец в эти дни куда-то собирался ехать, и мы с ним отправились на заправочную станцию. Там скопилось много машин. Это чехи срочно возвращались домой. Отец разговорился с одним из них. О чем они говорили, я не помню, но запомнил фразу, которую на прощанье бросил отец: «Я думал, что у вас Гуссы, а оказывается, Гусаки!»
– Ваш отец был, очевидно, антисоветски настроен!
– Отнюдь. Он умер на второй год после нашего вторжения в Афганистан, когда погиб там его старший сын, мой брат.
– Теперь я понимаю!
– Что вы понимаете?
– Ну конечно! Вы озлобились против нашего государства за смерть своего брата, выполнявшего интернациональный долг, и поэтому у вас такое негативное отношение к моим попыткам восстановить государство. Все ясно!
– К сожалению, вы ровным счетом ничего не поняли. Конечно, я тяжело пережил смерть брата, нелепо погибшего в мирное время, когда нашей стране никто не угрожал. Разумеется, я испытывал совсем не добрые чувства к тем, кто начал эту войну в Афганистане, так же как и сотни тысяч других братьев, сестер, матерей и отцов, потерявших своих близких в этой бессмысленной бойне, затеянной выжившими из ума старцами, пропившими на своих банкетах экономику великой страны и спаивавших население. Но это дело прошлого и, надеюсь, прошлого, которое никогда не повторится. Вы же хотели вернуть его. Вы и вам подобные всячески тормозили перестройку нашего общества и, может быть, на вас лежит большая часть вины за все случившееся, за катастрофу, которая обрушилась на человечество, так как именно такие, как вы, стали главным препятствием установления взаимопонимания между народами. А это привело к тому, что общество не успело вовремя отреагировать на надвигающуюся опасность экологической катастрофы. Поэтому на вас лежит вина не только за Афганистан, но и за миллиарды людей, погибших в катастрофе. Вы мешали человечеству объединиться, а если смотреть в корень, то мешали ему просто стать Человечеством. Когда я говорю: вы и вам подобные, то имею в виду не только наших отечественных бюрократов и отечественных солдафонов, простите за грубость, но и те силы, которые были по ту сторону окопов. Окопов, которые вы вместе с этими силами так усиленно рыли, разъединяя человечество на два враждующих лагеря. Сначала я, грешным делом, думал, что причина этому – различие в идеологии, но потом пришел к выводу, что вами руководила не идеология, а самые что ни есть «кухонные» интересы и стремление сохранить привилегии: лучшее жилье, лучшую пищу и тому подобное. И если хотите знать мое мнение, то вы также далеко стояли от идей социализма, как и любая «капиталистическая акула» буржуазного запада, а может быть, еще дальше. Идеология играла роль фигового листка, которым вы прикрывали свою истинную сущность. Принимая вас с Голубевым в нашу общину, мы думали, что вы, наконец, основали свою принадлежность к человечеству, перестали быть «марсианами», но, к сожалению, мы ошиблись. Для вас это было, как признался Голубев, только «жертва фигуры в шахматной игре». Вы подходили к людям, как к шахматным фигурам, и в этом была главная ошибка. Недаром вы были обеспокоены и возмущены правом населения владеть оружием. Вы же не привыкли иметь дело с таким населением, которое имеет средства защищать свою свободу, честь и достоинство. Долгие годы вы управляли людьми, запуганными террором и массовыми репрессиями и, наверное, признайтесь, думали, что этот психологический шок, который вы устроили народу в 30-40-х годах, еще не прошел? Оказалось, что человеческая психика выдержала и восстановилась, как только народ почувствовал свободу. Ваш неудавшийся путч, как ни странно, имел и положительные стороны. Мы вначале думали, что у людей на восстановление чувства собственного достоинства уйдет целое поколение. Оказывается, нет. Это произошло значительно раньше!
– Когда вы находились на моем месте, а я на вашем, я не называл вас марсианином, – обиделся генерал.
– Это правда! – согласился я. – Я не могу пожаловаться на грубое обращение, разве что вы вежливо собирались расстрелять со мной и мою семью… Чья это была идея? Ваша или Голубева?
Генерал промолчал.
– То-то!
– Вы меня расстреляете? Впрочем, что я спрашиваю… После всего… Могу ли я повидаться с женой и дочерью?
– Свидание с близкими вам будет предоставлено после окончания следствия. Что касается расстрела, то наша Конституция не предусматривает смертной казни. Ради вас мы ее не будем вводить. Впрочем, это решит суд. Вы можете быть приговорены к исключительной мере наказания – вечному изгнанию. По Конституции близкие могут последовать за вами.
– И меня просто так отпустят? – недоверчиво спросил Покровский.
– Повторяю, это решит суд. Лично я считаю, что вы не представляете теперь никакой опасности. Но хочу предупредить, вы будете поставлены вне закона. Общество, изгоняя вас, отказывается от мести как общество. Но оно не запрещает мстить тому, кто имеет на это основания. В том числе и мне, как частному лицу. Так что советую хорошо спрятаться. Если я, как Президент республики, не мщу за смерть матери моего единственного сына, то, как отец, я это сделаю, встретившись с вами один на один. Будьте готовы.
Я поднялся и, кинув последний взгляд на ошеломленного Покровскою, вышел.
Часовой запер дверь камеры и повернулся ко мне. Я узнал Мишу Каменцева, которого не видел с того самого момента, когда он па площади давал советы Покровскому.
– Миша!
– Владимир Николаевич! – расплылся он в улыбке. – Я только что заступил на пост.
– Я не успел тебя поблагодарить… Ты тогда прекрасно держался.
– А что? Я ему сказал, что думал.
– Вот это-то меня и радует, – я обнял его. – Горжусь тобой, мой мальчик!
– А у нас никто не струсил. Я только раньше других сказал то, что думали все.
– Ты продолжаешь рисовать?
– Краски, к сожалению, на исходе.
– Что-нибудь придумаем. И вот еще что… Продумай, пожалуйста, эскиз памятника погибшим…
– Я уже набросал несколько вариантов.
– Вот и хорошо!
То, что я сообщил Покровскому, не было простой угрозой. Решение это было принято на третий день после похорон Беаты. Узнав, что, согласно нашим законам, Покровскому не грозит смертная казнь, Евгения чуть не сошла с ума от горя. Она кляла себя на чем свет стоит, что не прикончила генерала.
– Я думала, что он уже плох! – плакала она. – Что же теперь?! Я все равно убью его…
Мы ужинали. Место Беаты было пусто, однако ее прибор на столе стоял.
Шестилетний Андрей, на глазах которого она погибла, все еще не приходил в себя, метался в жару, звал мать… Возле него неотлучно находилась Елена.
Надо признаться, что из-за вечного недостатка времени я мало уделял внимания сыну. Хорошо помню, что, возвращаясь поздно домой и застав сына спящим, я каждый раз давал себе слово со следующего дня больше быть с ним. Но, наступал следующий день и… ничего не менялось. Андрей очень любил мать. Он старался предугадать любое ее желание, и если она его просила что-то сделать, он опрометью бросался исполнять просьбу. Лицо его при этом светилось от счастья.
Он сносно владел русским, но с матерью говорил только на польском. И сейчас, в бреду, он звал мать по-польски, называя ее всякими нежными словами. Елена плакала. Я чувствовал, что больше не могу сдержаться, и хотел выйти, но в это время сын очнулся. Я склонился над ним. Его глаза смотрели на меня как-то странно. И тут я услышал такое, что поразило мое сердце, словно осколок гранаты.
– Это все из-за тебя… – шептали мне потрескавшиеся от жара детские губы…
Я внимательно посмотрел в глаза каждому из собравшихся Трибунов. Двоим из них было только по девятнадцать лет. Остальные постарше – от тридцати до сорока.
– Благодарю, что вы сочли нужным посоветоваться со мною до того, как поставить вопрос на референдум. Конечно, каждый из вас может это сделать. И я уверен, что, учитывая сегодняшнее настроение, люди проголосуют за изменение Конституции и введение смертной казни. Но я уверен и в том, что, казнив Покровского, мы тем самым сделаем то, к чему стремился этот генерал. Не удивляйтесь, – продолжал я, увидев на лицах собравшихся недоумение, – сейчас поясню. Признание права государства на убийство и демократия несовместимы. Располагая таким оружием, как узаконенная смертная казнь, государство рано или поздно превращается в тоталитарное. Трудно начать… Понимаете? Потом все легче и легче. Сначала казнь за убийство, затем за другое преступление, менее опасное, скажем, за крупное хищение… Затем уже не трудно скатиться на путь политического убийства, то есть расправы с политическим противником, с инакомыслящими. Вы меня понимаете?
– Но, Владимир Николаевич, – возразил мне один из трибунов, – можно ли оставить фактически безнаказанным, я говорю безнаказанным, так как изгнание в этом случае равносильно прощению, человека, по вине которого погибло столько людей? Морально ли это? Затем, – продолжал он, – разве не уничтожали мы членов разгромленных нами банд? Чем Покровский лучше?
– Согласен, ничем. Но попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вы говорите об уничтожении членов разгромленных банд. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, это происходило в бою или сразу же после боя. Во-вторых, тогда мы еще не были сильны и речь шла о нашем существовании. Фактически мы находились в состоянии необходимой обороны, и расстрел бандитов был актом самозащиты. Теперь же положение в корне изменилось. Мы достаточно сильны и можем быть милосердными. Милосердными, главным образом, к себе, а не к Покровскому. Я имею в виду моральную сторону дела. Нет ничего более отвратительного с моральной точки зрения, чем хладнокровное убийство, совершаемое самим государством. Если говорить о вреде, то вред, в первую очередь, наносится морали государства. Вы поймите, я сейчас защищаю не Покровского, а нас самих, нашу мораль и нашу демократию.
– А если, – продолжал настаивать Трибун, видимо, не совсем еще убежденный моими доводами, – если принять казнь Покровского как единичный акт, как исключение, не вводя в закон смертную казнь? Ведь такие случаи вроде бы были в истории.
– И тем самым создать прецедент! Не так ли? Опыт человечества говорит, что вслед за одним исключением следует второе, за вторым – третье и так далее. Пока исключение не становится правилом. Нет! Напротив, воздержавшись от смертной казни сейчас, когда для ее введения, казалось, есть все причины, мы тем самым создадим совсем иной прецедент. Мы должны дать своим потомкам пример сдержанности, правильного восприятия моральных ценностей. Понимаете, мы сейчас закладываем основы морали будущего, и краеугольным камнем этой морали должно быть лишение права государства, а следовательно, и власти, на убийство. Не имея этого права, власть никогда не сможет установить режим террора и репрессий по отношению к населению. И это станет самым главным нашим достоянием.
– Но не приведет ли такая безнаказанность к росту преступности, убийств? – задумчиво спросил присутствующий на собрании Трибунов Алексей.
– Дорогой Алеша, если ты помнишь историю человечества, то прекрасно знаешь, что все бандиты и убийцы вместе взятые, разбойники и пираты пролили в течение веков гораздо меньше крови, чем государство. А потом, разве я говорю о безнаказанности?
– Что ты имеешь в виду? – обеспокоенно, как мне показалось, спросил Алексей.
Я хотел ответить, но меня перебил Трибун:
– Правильно! Если мы не можем казнить Покровского, то его надо осудить на пожизненное заключение. Пусть на досуге он поразмыслит о своем поступке.
Остальные Трибуны одобрительно закивали головами.
– Постойте! – вскочил со своего места Алексей, – но это тоже не предусмотрено Конституцией.
– Так введем! – ответил первый Трибун.
– Что введем? – стал горячиться Алексей. – Тюрьмы? А потом концлагеря? Этого вы хотите?
– Подожди, не горячись, – я тоже поднялся и прошелся пару раз по комнате, собираясь с мыслями.
– Послушайте меня, – обратился я к Трибунам, – то, что вы предлагаете, ничуть не лучше введения смертной казни, а пожалуй, даже хуже. Если мы лишаем государство права отбирать у человека жизнь, то почему мы можем дать ему право лишать человека свободы и обращать его в рабство? Ведь это одно и то же! А опаснее потому, что может принять массовый характер. Вспомните 30– и 40-е годы, когда наша страна была покрыта концлагерями в эпоху сталинизма. Может ли быть рабовладельческое государство демократическим? Я говорю о рабовладении на уровне государства. Ведь заключенные – это государственные рабы. Пользуясь правом обращать человека в рабство, государство тогда набрало рабочую силу для строительства дорог, каналов, рудников, для работы на лесозаготовках.
– Вспомнил! – Алексей продекламировал:
Мы раздуваем пожар мировой.
Тюрьмы и церкви сравняем с землей!
– Так вот, церкви действительно сравняли с землей, а тюрем понастроили еще больше. Я согласен, что государственное рабство еще страшнее, чем государственное убийство.
– Так что же тогда делать? – недоуменно спросил Трибун.
– А ничего! Действовать согласно Конституции. У нас есть высшая мера наказания – изгнание. При особо отягощающих обстоятельствах – изгнание с объявлением вне закона. Случай с Покровским как раз вписывается во второй вариант. Государство изгоняет его, но не мстит. Однако нет запрета на месть в частном порядке. Со стороны людей или человека, которые пострадали от преступления, совершенного осужденным. Но в то же время ему предоставляется возможность скрыться и даже защищаться, то есть существенный шанс остаться живым. Я бы сказал, даже очень большой. Наказывая человека таким образом, мы не лишаем его надежды. И если он проявит благоразумие и постарается скрыться, то ему ничего не грозит. В то же время мы не можем лишать близких жертвы преступления на законное удовлетворение.
– В общем, Покровский должен исчезнуть и никогда не появляться в отвергнувшем его обществе. Я так тебя понял? – Алексей вопросительно посмотрел на меня.
Я утвердительно кивнул.
– Какое-то возвращение к рыцарским поединкам! – фыркнул один из Трибунов.
– Не совсем так, а потом… Почему бы нет! – возразил Алексей. – Нашему обществу в последние сто лет не хватало именно рыцарства… В широком, конечно, смысле этого слова. И вот еще что! Если вы помните, то на заре развития демократии, а именно в древней Греции, изгнание было самым строгим наказанием для граждан.
– Так что вы решили? – спросил я начавших было уже расходиться Трибунов. – Будете ли вы назначать референдум по внесению поправки в Конституцию или нет?
– Мы подумаем и сообщим вам наше решение, – ответил один из них.
– Ну что ж, это ваше право. Но предупреждаю – буду бороться до конца и обращусь непосредственно к населению.
– Да нет же, Владимир Николаевич! Вы нас почти убедили, – широко улыбнулся самый младший из них, – мы только хотим еще раз собраться, подумать и осмыслить. Но только сами. Вы слишком давите… Своей логикой и авторитетом. Лично я убежден, что вы правы, но дайте нам возможность самим еще раз все обдумать. Знаете, одно ваше присутствие… Мы привыкли во всем следовать за вами и боимся, что это войдет в традицию… Хорошо, что сейчас вы… А потом придет другой. Не наследует ли он вместе с вашей должностью и ваш авторитет? Вот что опасно!
– Что ж, я согласен.
– Постойте! – раздался вдруг голос.
Я обернулся и увидел Виктора. Он, оказывается, незаметно вошел в комнату во время нашей дискуссии и тихо сидел в углу у кафельной печки.
Все обернулись к нему.
– Я хотел бы внести некоторые уточнения в терминологию. Если разрешите.
– Говори, Виктор, – Алексей подошел к нему.
– Вы вот тут часто применяли термин «государство». Государство происходит от слова «государь» – господин и в своем смысловом значении подразумевает авторитарность. Правильнее говорить «республика», что означает «дело народное». Так будет точнее. Тем более вы, я хотел сказать мы, – поправился он, – делаем все, чтобы низвергнуть государство и установить республику. Кстати, по поводу твоего примера, Алексей. Покинуть в изгнании республику всегда считалось величайшим несчастьем, а в недалеком прошлом многие считали счастьем получить возможность покинуть государство. Вы не улавливаете разницу? Так давайте называть вещи своими именами!
Суд состоялся в апреле. Покровского приговорили к изгнанию с объявлением его вне закона. Решено было, что он покинет нас в середине мая, когда подсохнут лесные дороги. Остальных участвовавших в мятеже офицеров приговорили к десяти годам ограничения в гражданских правах. Они лишались права носить оружие, но жить остались в своих домах.
Бурную дискуссию вызвало предложение привлечь к ответственности тех офицеров, которые не примкнули к мятежу, но, зная о нем, не предупредили правительство. Дело в том, что у нас не существовало закона о недоносительстве и мы не собирались его вводить, единодушно чувствуя к нему отвращение. Однако вина этих офицеров была очевидна. Предупреди они нас о готовящемся заговоре, можно было бы обойтись без жертв. Поэтому после продолжительного обсуждения и споров решили выразить провинившимся недоверие и лишить их на три года права участия в собраниях и празднествах. На этом все и кончилось. Покровскому разрешалось видеться с семьей, но он по-прежнему оставался до самого отъезда под стражей. Вскоре выяснилось, что его семнадцатилетняя дочь отказывается отправиться за отцом. Жена тоже долго колебалась, но потом решила следовать за мужем. Им выдали лошадь, телегу и непосредственно перед отъездом должны были вручить оружие.