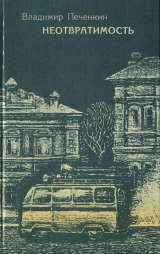
Текст книги "Неотвратимость"
Автор книги: Владимир Печенкин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Заходи, Бевза, садись. – Майор Авраменко с некоторой завистью посмотрел на загорелого шофера. – Как выходной день, удался? Где рыбачил? Много поймал?
– Не дюже, товарищ майор. Ходил, ходил по берегу, место доброе искал, тай не нашел. Рыбаков на Карлу-шино озеро богато понаехало, а клева ну нема, як в пожарной бочке! Так что вы не жалкуйте, товарищ майор, что вам не пришлось. Мелочи на уху – хиба ж це улов!
– Не в рыбе суть, Бевза. Что рыба? Нам ею не торговать же. Тут сам процесс важен. Природа, она… природа! – майор плавно и ласково провел ладонью по столу, лицо стало добрым, мечтательным. – При нашей нервотрепной работе рыбалка первейшее лекарство, нам ведь тоже нужна психопрофилактика, когда природу всем организмом впитываешь, чувствуешь ее, матушку… Гм, ну ладно. С машиной у тебя порядок? Поедешь с Ушинским в Криничное.
– Есть в Криничное. – Бевза встал. Про рыбалку – кончилось, начались служебные отношения. – А что, товарищ майор, знайшли, где жил тот Саманюк?
– Пока не нашли. В городе и в поселках никто его не видывал. Вот в Криничном тоже потолкуй с жителями. Тебя знают, больше скажут.
– Товарищ майор, надо бы в Сладковку съездить.
– Зачем?
– Докладывал я вам, что на Карлушином озере по берегу ходил, место доброе искал. Рыбаков встречал знакомых, фотку им показывал. На Карлушино озеро со всей округи едут.
– Ну-ну!
– Вы ж Панаскжа, мабуть, помните? Он в прошлом годе леща словил на пять кило. Так Панасюк по фотке признал, что тот гражданин у них в Сладковке жил. Каже, точно он. У бабуси жил, у Кирилихи.
– Бевза, и ты еще жалуешься, что улов плохой! Это, братец мой, улов не на уху! Сладковка, четырнадцать верст. Скажи Ляхову, пускай ждет Ушинского и едет с ним в Криничное. А мы давай в Сладковку,
Бабуся Кирилиха проживала одна-одинешенька в своей хатке на краю довольно большой деревни Сладков-ки. Два сына в Харькове, ехать из родных мест к ним на жительство не пожелала. Копалась старушечьим делом в саду и на огороде, нужды ни в чем не ведала, жила себе тихонько. Долго квартировал у нее учитель, потом женился и переехал, осталась опять Кирилиха одна. Разве из приезжих кто, кому в сладковской гостинице не понравится, на денек-другой у Кирилихи приткнется, а то и неделю.
Бабуся охотно рассказывала Авраменко и Бевзе о своем житье-бытье, угощала прошлогодними яблоками из своего сада. Довольна бабуся, что к ней приехали, сидят, слушают бравые милицейские из райцентра. Грехов за собой не чуяла, законы отродясь не нарушала, так чего ж не поговорить с милицейскими.
– Бабуся, а сейчас у тебя живет кто-нибудь? – хрустя яблоком, спросил Авраменко.
– Есть квартирант. В совхоз на работу хочет, да пока так гуляет. Городской, боится крестьянской работы. Молодежь ноне разборчива пошла.
– Где он сейчас?
– Бог его знает, милые. Который день не приходит. Мабуть, в районе где место нашел, чи вдова яка приласкала. Последни вечера он подолгу гулял, приглядел какую-нито. Хлопец гарный, вежливый.
– Давно он у вас?
– Як тебе сказать, не соврать… В конце марта пришел до меня. Сперва по целым дням пропадал, потом по вечерам, а зараз и совсем пропал.
– Вещи его у вас остались?
– Яки вещи у холостого. Чемодан вон стоит, и все.
Авраменко достал из кармана несколько фотографий.
– Посмотрите, квартирант ваш тут есть?
Кирилиха пошла к комоду, взяла очки, надела, согнулась над столом, пальцем водит. Нашла, обрадовалась:
– Вот же он, Миша-то! Ишь, гарный хлопец який. На что он вам?
– Такая у нас работа, бабуся. Ведь без прописки жил?
– Милые, коли б в совхозе остался работать, то и прописала бы. А пока, думаю, нехай так поживет. Тихий, к старшим уважительный, вреда никому не делает…
– Ну-ка вспомните, когда он точно у вас появился?
Кирилиха долго перебирала знаменательные даты: у Фроськи Исаенковой корова отелилась через два дня, как принесли пенсию, а с пенсии Кирилиха купила новый платок, и было то в субботу, и встретился ей в магазине дед Куренок и приглашал во вторник на какой-то актив, но на актив во вторник не пошла, потому что болела спина, а в тот самый день и пришел Миша проситься на квартиру. В результате бабкиных расчетов точно выходило, что Михаил Саманюк появился в Слад-ковке 28 марта и с тех пор жил здесь, пока не исчез куда-то.
Бабусю поблагодарили, чемодан взяли с собой.
9.Саманюк стоял минуту, чувствуя за спиной замкнутую дверь. Вытер рукавом потный лоб и повалился ничком на топчан, вцепился крепкими зубами в набитую соломой подушку, грыз, словно не подушка это, а ненавистное чье-то горло. Без слез злобно плакал: попутали, обложили кругом, стиснули!!
Злобный страх трепал его, и он рвал зубами подушку… Как они зажали на допросе! Никаких ведь вроде улик не было – и вдруг сошлись все улики разом. Старуха, у которой жил в Сладковке, опознала его – и полетело к дьяволу алиби. Федьку Габдрахманова в колонии откопали, старая удачная кража выплыла. Ух, подлюга Федька! Заложил напарничек, сам выкрутиться мечтает! Его показания следователь к концу приберем, включил магнитофон… И Федькин голос все в точности выложил, как кассу брали в Малинихе…
Когда Саманюк услышал голос Габдрахманова: «..Мишка ломом сейф ломал, деньги брал…» – думал, не выдержит, схватит и разобьет к черту магнитофон, как Федькину бы башку…
Выдержал. Слушал. Ухмылялся затравленно. А что в душе творилось! У-у, перестрелял бы всех, изгрыз! Подлюгу Федьку, следователя, милицию, всех!.. Бежать бы, вырваться из этой камеры, гульнуть напоследок на полную катушку… А там хоть трава не расти – как говорил отец, Кондратий Саманюк, чтоб он в гробу перевернулся!..
Эх, не уйти отсюда… Ничего не может он, Мишка Саманюк.
Так что ж, расколоться? Признать вину? Этот следователь Загаев, он в своей работе спец… Может, раскопает, что не так уж виноват Мишка Саманюк, что не за что его расстреливать… Подвели бы под статью «за превышение необходимой обороны»…
В конце допроса следователь спросил:
– Признаете вину? Будете давать правдивые показания?
Ответил равнодушно, и голос не дрогнул:
– Какие признания? Вашего Габдрахманова я знать не знаю. И вообще, тут нарочно все подстроено, чтоб невиновного человека засудить. Я жаловаться буду! Ни в чем не виноват, не в чем признаваться!
– Как хотите. Но советую подумать.
Нашел в себе силы нахально усмехнуться:
– А если не надумаю?
Следователь посмотрел на него с удивлением.
– Да вы что, как в первый раз под следствием! Улик достаточно и без вашего признания.
– Какой мне толк убивать Чирьева?
– Вот вы сами и расскажите, какой толк вам был. Идите в камеру.
Встал. И из последних сил доиграл роль:
– Настырный вы мужик, гражданин следователь. Раскрыть убийство не можете, так невинного человека под «вышку»…
– Зачем вы это, Саманюк? Бессмысленное запирательство поможет разве? Лучше бы рассказали все подробно.
Рассказать подробно? Про что? Про отца, про детство? За детство наказание не сбавят.
А отец… Вот кого расстрелять бы своевременно!
Редкостной был гадюкой Кондратий Саманюк. Мишка и отцом его не называл – не с чего. Заявлялся домой на недели, пропадал на годы – то в бегах, то в колониях. Но и когда отец отсиживал длинные сроки, его воровская судьба все равно давила Мишку. Давила с тех пор, как один пацан во дворе крикнул со смехом: «А я знаю, знаю! У тебя отец – вор!» В ту пору было Мишке лет девять, но он понял, что пацан правду говорит. За то и избил пацана. Его избил, а себя почувствовал обиженным. Кем обиженным? Неизвестно кем… Почему у других отцы каждый день с работы домой приходят, а у Мишки… И стал он недолюбливать тех, у кого отцы каждый день с работы приходят. Приятели находились среди таких же, как сам, сыновей неудачных отцов.
Было Мишке годов уж четырнадцать, когда папаша домой надолго пришел. Его покалечили за что-то свои же, уголовники. По-прежнему крупно красть уже не мог. Так, ловчил по мелочам. И оттого стал характером еще паскудее. Работать не привык, по пьянке орал все: здоровье мое по тюрягам развеялось, так пущай теперь общество меня поит-кормит! Смирная, безответная мать работала, его кормила, и он ее за это бил.
Кондратий ко всему был равнодушен, когда трезв, и ко всему злобен, когда пьян. Мишку трезвый не замечал. Зато после первых «сто грамм» находило на Кондратия красноречие, охота была кого-то поучать, «воспитывать». Если Мишка не успеет удрать, отец его ловил и «воспитывал»:
– Ты! На, пей! Пей, позволяю. Но-но! Тебе кто подает? Отец подает! Дают – бери, а бьют – беги. Когда не дают, все равно бери, хватай и смывайся короче. Чего морду воротишь, гаденыш! В школе пить не велят? А ты ж не в школе пьешь, хо-хо! Плюй ты на них на всех, отца слухай. Миша, сынок, батя твой погулял в свое время, во как погулял, под завязку! Хоть матери спроси. Галька! Скажи ему, гаденышу. Тебе, щенок, так не гулять, не-ет. Ты будешь хребет гнуть на прё-из-водстве, тьфу! Копейки до получки считать, хе-хе. А я гулял!
Более злобного человека не видел Мишка ни до, ни после. Кондратий ненавидел квартиру, дом, улицу, Дворец культуры, милицию, радио, жену и Мишку. Ненавидел все. Во всем изыскивал подлые тайные чьи-нибудь умыслы. Пачкал домыслами Мишкину школу, молодую классную руководительницу, которая иногда приходила поговорить с родителями о поведении сына. Сперва мальчику было обидно за красивую учительницу. Но защитить ее от грязных отцовских слов он все равно не мог. Думал: вот вырасту, уж я дам гаду! Мишка молча копил злобу на отца.
Но и сам Мишка все больше отгораживался от тех, у кого «благополучные семьи» и отцы как отцы. Тем – повезло. А он – обиженный. И он плевать хотел на папиных-маминых сынков. Он сын вора, и ему закон не писан.
Классная руководительница до слез старалась, к совести Мишкиной взывала, укоряла мягко за драки, разбитые стекла, перевернутые урны. И Мишка научился на нее обижаться. Теперь он думал так: может, и правду орет отец, и учительница такая же дрянь, как все остальные, только хитрая, скрывает, втихомолку грешит?
– Шлюха! – хрипел пьяный Кондратий. – Я ее наскрозь вижу, у меня таких десятки были. Да кабы здоровье мое по тюрягам не истрепали, я б эту учителку, знаешь…
Время от времени Кондратий попадался на мелких кражах, к ним в квартиру приходил флегматичный участковый милиционер. Каждый раз Мишка ехидно ожидал, что обидчика и ругателя заберут от них обратно в колонию. Кондратий оголтело врал участковому, извивался змеей, громко обижался, даже рыдал:
– Вот, не верят честному исправившемуся! Ежели раз оступился, то и притесняют тяжелобольного человека! Где справедливость!
Участковый хладнокровно слушал рыдания. Говорил в который уж раз:
– Ежели еще повторится, передам материал в суд.
– Да за что?!
– Все за то же. Тебя задержали в магазине, пытался украсть детские сапожки стоимостью восемь рублей 14 копеек.
– Врут! Понастроили магазинов без продавцов да и хватают честных людей! На что мне сдались ихние сапожки! Ежели хотите знать, я в жизни нитки чужой не тронул!
– Ладно врать-то. Если еще повторится, пойдешь под суд.
И Кондратий, и участковый знали, что за восьмирублевую кражонку из магазина народный суд в колонию не отправит. Участковый пугал «для профилактики», а Кондратий врал по привычке. Участковый уходил, а Кондратий торжествовал:
– Хо, не на того нарвался, лягавый! Мишка! Учись, щенок! Все воруют, но умный никогда незасыпится, не-ет.
Мальчик смотрел на дурацкое торжество отца и думал: при чем тут ум? Одно нахальное вранье. Но почему закон терпит Кондратия на свободе? Никому от него ни пользы, ни радости, жизнь поганит только. Бьет безответную мать, Мишку бьет, всех ругает матом. Всем от него плохо. А перед законом – чист! Почему такому позволено пакостить жизнь? Если позволяет закон – значит, так и можно?
В пятнадцать лет Мишка перестал уважать закон.
В шестнадцать убежал из дому – надоела такая жизнь. Задержали, вернули. Приходила к ним разная «общественность», указывали Кондратию, что слабо занимается воспитанием сына. Кондратий разозлился и занялся воспитанием – сильно выдрал Мишку. Мальчишка опять сбежал, на этот раз безвозвратно.
И пошло-поехало: камеры, пересылки, этапы, колонии…
В камеру вошел милиционер, принес еду.
– Эй, спишь?
Саманюк оторвался от подушки, сплюнул горькую слюну, вытер губы.
Вяло жевал. Разбежались мысли, в голове пусто. Бьется только мотивчик дурацкой блатной песни, все время бессмысленно повторяясь: «…я как коршун по свету носилси, для тебя все добычу искал…»
Не доев, повалился на топчан. Надо что-то придумывать, искать лазейки в уликах, в фактах… Сейчас надо придумывать, потом поздно будет… Но в голове только глупый мотивчик… Саманюк измученно покорился куплету. И уснул.
10Наверное, еще ночь? Снаружи – тишина. Саманюк проснулся, и это было неприятно, потому что проснулся и мотивчик: «…я как коршун по свету носилси, для тебя все добычу искал, воровал, грабежом занимался…»
А для кого он, Мишка Саманюк, искал добычу? Ни для кого. Для себя. Зачем? На переломе Мишкиного детства Кондратий, отец, открыл мальцу «гольную правду жизни»: все крадут, тянут себе, только умные не попадаются, везучие не засыпаются.
Мишка чуял в себе силу, хотел быть умным и везучим. Эх, не получилось… «Для тебя все добычу искал…» Для кого? Пьяных и захватанных девиц из «блатхат» он презирал. Хорошие девушки были недоступны – на что им вор? Они любят везучих, которые не попадают под следствие, в колонию. За это их Саманюк тоже презирал, их везучих фраеров тоже. В Мишкиной душе не было любви, одна зависть. И жалость к себе, невезучему. Особенно сейчас – жалость. Не из этой ли районной камеры поведут его на последний этап? Суд. приговор… Особо опасный рецидивист… Высшая мера за убийство?! Да не хотел он убивать Чирьева. Чирьев сам виноват! И зачем связался с этим алкоголиком Зиновием! Лучше бы не освобождали на «химию», держали до конца в колонии.
В колонии Саманюк вел себя хорошо. Начальство, поди, думало: перевоспитался Саманюк. Хотя начальники не такие лопухи, чтоб верить… И все время Саманюк мечтал, как, освободившись, найдет он Чирьева, заберет у него свои – свои! – деньги и махнет куда-нибудь, притаится на время, отдохнет.
Срок кончился. Вышел Саманюк на свободу. Деньги на первое время были, в колонии заработанные. Поехал сразу в Малиниху: Федька Габдрахманов еще досиживает, успевай ловить момент – кому это надо делиться с Габдрахмановым. Чирьеву один «кусок» придется дать – за «наводку», за хранение. Черт с ним, пускай пользуется, алкаш.
Но алкаш Чирьев из Малинихи пропал. Никто не знал, куда делся. Вот сволочь! Ну ничего, друг Зиня, поищем. Найдем, тогда за все сочтемся;
Саманюк скромно отирался по пивным в Малкнихе, возле винных отделов, «складывался на троих» для компании, исподволь выпытывал у хмельной публики, не знает ли кто дорожки за Чирьевым. Но Чирьев, хоть он и насквозь пропитый, а хитрый – следов не оставил. Уехал из поселка и – с концом.
Саманюк опасался, что и сам сделается алкоголиком из-за постоянных «на троих». Его уже узнавали местные пьяницы, того и гляди милиция заприметит.
Пьяницы болтали много, клялись в дружбе, хвалились грандиозными запоями. А куда уехал Зиня Чирьев, не знали. Надо было найти другой метод «расследования».
Еще когда они втроем обдумывали кражу, Саманюку попался на глаза в квартире Чирьева почтовый конверт с харьковским адресом. «Кто такая? – спросил у Зиновия. – Шмара твоя?» Тот сказал: «Сеструха». Конверт Саманюк спер – так, на всякий случай, мало ли какой фортель выкинет Чирьев. Оказалось, поступил тогда очень умно, предусмотрительно. Показываться чирьевской сеструхе не хотелось – лишний след оставлять. Но иного выхода нет.
В Харькове все сошло как будто гладко. Сестра и сама немного знала. Но старому другу Зиновия упомянула про город Сторожец.
В Сторожце пришел в адресный стол: друга ищет, Чирьева Зиновия. Пошарили по карточкам, сказали: такой в Сторожце не проживает. Как же так? Смылся и отсюда? Пропали тысячи, из-за которых Саманюк свободой рисковал! Сколько там тысяч, он в точности не знал. Но привык считать их своими. А кто их забрал! – алкаш, «наводчик», с которым и водку-то пил лишь по необходимости. Ох, если ты найдешься, горько пожалеешь, Зиновий, старый кореш. Убить мало! Нет, на «мокрое дело» Саманюк не пойдет, не такой он дурак. Но уж рассчитается!
Чтобы рассчитаться, надо сперва найти. Где искать? – страна велика. Надумал Саманюк за неимением других наметок поискать еще в Сторожце. Приткнуться на жительство в городе не решился – ни к чему тут милиции глаза мозолить. Приютился в деревне Сладковке у одинокой бабки. В город пешком мотался. Часами посиживал, покуривал где-нибудь в укромном месте возле магазина. Никого не расспрашивал, чтоб Зиновия не спугнуть. Рассуждал так: если Чирьев тут живет, хоть и без прописки, то не может он в магазин не ходить, имея такие деньги. Ходит, притом каждый день, – чирьевскую жажду Саманюк знал.
Он изучал алкогольный состав окраинных магазинов – вряд ли Чирьев без прописки в центре живет.
Покупатели входили, выходили, уходили. Но подлеца Чирьева не видать.
Три недели спустя, у очередного магазина, в скверике напротив, сидел Саманюк, глядел из-за кустов, скучал, зевал. В сон клонило. Ждал, когда закроют на перерыв, чтоб покемарить тут же, на молодой травке. И увидел – он!
Зиновий, с виду почти трезвый, забежал в магазин и сразу выскочил. Наметанный Мишкин глаз отметил оттопыренный карман. Все, теперь не уйдешь, друг!
Чирьев шел, не оглядываясь, никого не опасаясь, то и дело трогая карман. Ясно: торопится домой выпить, иначе устроился бы хоть в том же скверике. Главное – нашел его! Теперь выследить, где живет, и – не желаете ли рассчитаться?! Материально и, так сказать, морально… Деньгами и мордой. С кем вздумал темнить, Зиня? Вор – не прокурор, у вора гуманности нету, на поруки не отпустит, сам перевоспитает. Ишь, гад, за бутылку хватается все время. Сейчас выпьем, Зиня, составим «на двоих». А ты думал, всегда будешь «на одного»? Нет, хватит!
Чирьев заскочил в калитку. На улице безлюдно и тихо. Вон там сидит на лавочке дед… Может, конечно, у деда зрение слабое, но, может, и дальнозоркость старческая. Свидетеля Мишке не надо, он свернул в проулок. Обошел квартал, подобрался к плетню той хаты, куда скрылся Чирьев. Двор пустой. Тишина. Если, к примеру, у Чирьева гости, стоял бы шум. Но в хате тишина. Значит, один пьет, жадюга. Так. На всякий непредвиденный случай Саманюк вытащил и натянул мятые кожаные перчатки. Выдохнул бесшумно: а ну, выручай, блатная удача…
Осторожно, двумя пальцами толкнул дверь… она неожиданно легко распахнулась, заскрипела. Черт, придержать не догадался! Теперь чего уж, входить надо. Не таясь, шагнул в сенцы… и носом к носу столкнулся с Чирьевым.
– О, привет, Зиня!
– А? Ап… ап… – Чирьев побелел, осел на подкосившихся ногах. Саманюк грудью оттеснил его в помещение, притворил ногой дверь. Обнаружилось, что это кухня – вот неудача! – тут еще двое… Один на лавке лежит, второй в стол башкой уткнулся.
«Ах ты, не получится разговора при свидетелях-то…
Ну да я не в побеге, законно освобожденный. Что в Малинихе было, про то Зиновий не вякнет, самому не выгодно…»
– Что не здороваешься, Зиновий? Сколько лет не видались!
Каждая жилка в Саманюке напряглась, приготовилась… Заставил себя держаться легко, дружелюбно, чтоб не спугнуть, не отчудил бы чего Зиновий спьяну, ишь водкой от него как несет.
– Ты что, вроде не шибко радый старому корешу?
Одутловатая рожа Чирьева стала понемногу розоветь, дошло, видимо, что их в кухне трое против одного Мишки. Не сводя глаз с Саманюка, он пригнулся, тряхнул за плечо спящего на лавке так, что у того голова замоталась, будто сейчас отвалится. Спящий замычал, но не проснулся. Зиновий ткнул в бок того, что спал сидя, – тоже без толку. Саманкж рассмеялся: пьяны оба в стельку.
– Не беспокой, пускай граждане отдыхают. Ничего, подходяще вы гуляете, – он подмигнул трем пустым бутылкам на столе. Четвертую, должно быть, только что принес Зиновий и уже успел отпить.
– Не буди друзей, Зиновий. Поговорим давай. Ты чего бледный какой? Хвораешь? Или совесть мучает?
Саманюк сбросил с табуретки чью-то замызганную кепку, уселся. Нога на ногу, руки в карманы. Здоровый, крепкий сидит… Веселый вроде, а в глазах угроза… Зиновий еще раз лягнул собутыльника – безуспешно. Выдавил:
– Миша, кажись? Не признал тебя сразу-то…
– Не бреши, узнал. Далеко же ты от меня сховался.
– Что ты, Мишенька, разве я от тебя! От розыска, мало ли что могло… Боязно в Малинихе-то…
– Я за деньжонками своими, Зиня. Не все еще пропил? Много их, одному тебе лишку, а двоим в самый раз.
– Двоим? Так-так… А Федька где?
– Не твое дело. Сказано, на двоих. И покороче, Зиня, тороплюсь.
– Та-ак, на двоих, стало быть… – Зиновий одолел первый испуг, стал приходить в себя. – Миша, ты не того, не беспокойся, денежки, они… при себе-го их не держу…
– Не в сберкассе же? Место хоть надежное?
– Да уж будь спокоен!
– Где?
– В подполе заначка…
– Молодец. Давай их, не жмись.
Чирьев совсем очухался. Рожа сперва порозовела, потом обрела обычный красный колер. Глаза воровато зарыскали по сторонам. Саманюк заметил, как он дважды украдкой пнул ногу того, что у стола спит.
– Слушай, Зиновий, не темни. Гони монету, и разойдемся по-хорошему.
– Ну? А это, того… Сколь ты мне оставишь?
– На двоих же, понял?!
– Да-а, ты все заберешь!
– Ну! Торговаться будем? Лезь в подпол, сволочь.
– На чердаке они, Миша, на чердаке. Разве я сказал, в подполе? То я с испугу… Ты, Мишенька, давай по совести… Сберег ведь я их, для тебя сберег, недопивал, недоедал…
– По морде видать, что нежравши сидишь.
«Боится в подпол лезть, с чердака смыться ловчее…»
– Зиновий, от меня так, дурачком, не отбрыкаешься. Или гони мои деньги, или тебе хана, понял? Не для того я рисковал, чтобы тебе пожизненную пьянку обеспечить.
– Мишенька, да я разве что?.. Я только чтоб по совести…
Чирьев мялся. Молодой здоровый Мишка сидел между ним и дверью – не уйти. В окно сигануть – все одно не отстанет, пока деньги не заберет. Мишка заберет все, в том Чирьев не сомневался. И ничего с ним не поделаешь. В милицию ведь не заявишь. Придется отдавать, ох, придется… Чирьев, как и Саманюк, привык думать, что деньги эти его собственные, ни с кем не делимые, его деньги! Привык тянуть по пятерке, по десятке тайно. Пить на них и знать, что еще много, хватит на его век. Но вот сидит Мишка, требует его деньги… Ух, разорвал бы в куски бандюгу, придушил!
– Мишенька, за ними еще сходить надо. Это ж не моя хата.
– Не злил бы ты меня, Зиновий.
– Чужая хата, ихняя вон. Не веришь? Подлец буду!
– Ты и так подлец.
– Миша, я к ним пузырек распить зашел, да они уже того… Недалечко тут живу, ты уж погоди где ни то, хошь возле магазина посиди, я и принесу.
– Ага, ты принесешь. Где живешь? А ну идем. Пойду с тобой до самой заначки, там и рассчитаемся. Айда, выходи первым.
Саманюк встал, потянул дверь. Но Чирьев не пошел из кухни, а вцепился в спящего за столом, тряс его, колотил по спине.
– Пойдешь или нет?! – Саманюк потерял терпение. Взять этого дурака за шиворот и вывести, если добром не идет!
– Не подходи! – взвизгнул Чирьев. – Все заграбастать хошь, да?! Меня кончить, да?! В перчатках пришел… Не подходи!
Все у Чирьева тряслось, от колен до синих мешочков под одичалыми глазами. Он схватил хлебный нож со стола.
– Эй, не балуй ножичком, а то…
– Не подходи! Ничего не получишь! Мои деньги!
Лучше бы он так не говорил…
– Не отдашь?!
Саманюк ударил по руке, поймал нож на лету. Но озверевший Чирьев вцепился в горло. Близко сумасшедшие выпученные глаза, в них ярость, жадность, отчаяние… Падая, Саманюк ткнул наугад ножом…
Сначала подумалось: если этот гад сдохнет, то деньги как же? Но все перебила мысль: я его… убил?
– Зиновий, не валяй дурака!
На этот раз Зиновий не валял дурака. Лежал лицом вниз, и небритая щека быстро бледнела.
«…Я же не хотел, он сам нарвался… Хотя какая разница… Надо отсюда когти рвать, пока те двое дрыхнут…»
Саманюк отбросил узкий, сточенный хлебный ножик. На цыпочках прошел к дверй, прикрыл ее за собой. На дворе никого. Прошел огородом к плетню, выбрался в проулок. Никого. Все тихо.
«Пожалуй, сойдет… Поискать бы все же деньги-то. Подловят? А кто докажет, что это я его?..»
…Мотивчик не давал покоя, бился в памяти с тем «чувствительным» шиком, как пел его где-то на пересылке придурковатый карманник: «Я как коршун по свету носилси…»
Вранье это все, туфта. Придумали воры себе сказочку, что вроде не занапрасно в колониях жизнь пропадет! Не коршуном по свету – гадюкой по земле ползать приходится, мышью серой по ночам грызть чужое! Врал Кондратий Саманюк, врет песня! На черте стоит Михаил Саманюк, на грани – себе врать уж незачем. Дадут ему, особо опасному рецидивисту, «высшую меру» – и правильно сделают! Будь проклята такая житуха!
Нет! Не надо! Люди, не надо! Не хотел убивать Чирьева, случайно вышло! Люди, поймите, случайно!!!
«Саманюк, вы всю жизнь шли к этой случайности», – сказал откуда-то издалека голос следователя… Или это еще сон?
Саманюк вскочил, забарабанил в дверь кулаками.
– Ведите к следователю! Эй, там! Ведите, буду давать показания!







