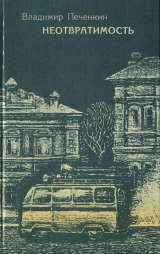
Текст книги "Неотвратимость"
Автор книги: Владимир Печенкин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Миша, зачем выходить в Харькове? Нс лучше ли прямо до места?
– Не лучше. Ты вон в Свердловск ездил бабу искать. Я тоже хочу кое-что поискать под Харьковом. Не бабу, более нужный в хозяйстве предмет. Понял?
– Я хотел как быстрее.
– Вижу, что торопишься. До весны потерпеть нс мог.
– В Сухуми тепло.
– Кабы жарко нам не стало. Ежлн такая нетерпяч-ка, самолетом летел бы.
– Не люблю самолетом, там регистрируют фамилию. Один мой друг на этом засыпался в Красноярске… Так обязательно в Харькове?
– Сказано. Собирай шмутки, задержимся недолго. Вещь одну взять, и двинем дальше.
В Харькове устроились в гостинице при вокзале.
– Ничего, можно, – сказал Саманюк. – Документы у нас чистые. Двое перевоспитанных, как порядочные, едут нюхать розы на Кавказе. Розы и чего там еще? Манголии?
– Магнолии, – поправил Чачанидзе. – Но в это время года они не цветут.
– Да? Неважно, мы можем и подождать. А пока ты тут меня жди. Отдыхай на свободе, пока есть возможность.
Саманюк исчез. Появился лишь на другой день. Чачанидзе про себя отметил, что в поведении сообщника, в походке и взгляде как будто прибавилось уверенности, независимости… Или наглости?
– Миша, ты не выпил сегодня? Бодрый какой…
Не ответил тогда Саманюк. В купе поезда, когда остались одни, задвинув дверь, сказал:
– Во, старик, видал? Браунинг. Ждал меня тринадцать лет в заначке. Это тебе не баба, не предаст.
На большущей его лапе лежал изящный дамский пистолет с рукоятью под слоновую кость.
– На что он тебе?
– Ты меня с собой ублатовал – на что? По берегу моря гулять? Цветочки нюхать? Игра пошла «по банку»: или заграничные виллы – или «вышка», высшая мера. Терять-то уж и нечего.
Саманюк ворчал:
– Хвалился, что в Сухуми тепло – от такого тепла у меня кишки знобит…
Верно, осень на побережье стояла промозглая. Мокрый ветер теребил пальмы, и они горестно качали головами, серое недовольное море под тяжелыми тучами плевало на бульвары соленой пеной.
Погода и знакомые места нагнали на Левана Ионовича сентиментальную тоску, он вздыхал, постанывал, и не понять, дождинки на щеках или слезы. Порывался идти на кладбище, искать могилу жены.
– Не торопись на кладбище, пока живой, – отсоветовал Саманюк. – Кончим дело, тогда валяй, хоть на вечную прописку. Бр-р, муторно у вас тут.
Город вырос за пятнадцать лет. Но остался все тем же, до боли знакомым, почти родным Левану Ионовичу. Театр, гостиница «Абхазия», причалы… Набережная Руставели… Валентина любила по ней гулять…
– Гостиница сейчас ни к чему, мы не фраера с путевками. Хату искать надо.
Промокшего Саманюка все нервировало. Не нравилось море, дождь, город, акцент горожан. Унывал, злился.
«Хату» нашли – благоустроенную квартиру в пятиэтажном доме. Старуха грузинка пустила их, потому что скучала одна – сын с невесткой уехали на время отпуска в гости, в горы.
– Почему в гостиницу не идете? Не сезон, места есть.
Леван Ионович с чувством, со слезой объяснил, что он сухумец, но долго работал в Сибири и жаждет не казенного гостиничного сервиса, а домашнего покоя. Бабушка отвела их в комнату, застелила свежими простынями диван молодому русскому, кровать старому грузину. Подала горячий чай, свежий лаваш, сыр сулугуни, по стакану вина. Ни вино, ни чай Саманюка на бодрый лад не настроили – вино терпкое, слабое, сыр соленющий. Простыни влажные.
– Болтают: ах, южный берег, ах, климат… В сибирской тайге я снегом умывался, и ни хрена, а на южном берегу обсопливел, как младенец…
Встали рано, еле забрезжило серое утро. Новый День, вчерашний дождь. Плащи с капюшонами не спасали от проникающей всюду сырости.
Чачанидзе с трудом нашел улицу, где когда-то жила его тетка, где сам много лет… как Монте-Кристо… Другая стала улица, другие на ней дома. Ни знакомого забора, ни домика теткиного. А сады – тут везде сады.
– Чуял я нутром, что не надо с тобой связываться, – хандрил Саманюк. – Твое золото десять лет как пропито. С тобой в такую виллу засядешь, что и женщин не захочешь.
– Миша, ты мне не мешай.
Шлепали по лужам от квартала к кварталу, возвращались, заходили во дворы. За дворами вставал крутой подъем горы, на нем террасами еще улицы. Чачанидзе нервничал, Саманюк злился, курил отсыревшие гаснущие сигареты и втихую прикидывал, сколько дней он уже не работает, сколько осталось до конца отпуска и как быстрей добраться до своего поселка, когда станет ясно, что золотое дело накрылось. Выходило, что если самолетом, тогда в порядке будет. Провались он, этот старый придурок, вместе с виллами и долларами.
В одном подъезде Чачанидзе обнаружил ровесника, седоусого деда с белой собачкой на цепочке. Непонятно с ним заболтал. И отошел повеселевший.
– Закружился, понимаешь. Понастроили, номера сменили…
Он потянул Саманюка в короткий переулочек, свернул направо, где ежились пустыми ветками садов двухэтажные частные домики.
– Вот… – голос старика дрогнул. – Здесь был…
– Кто?
– Мой дом.
– Теткин, что ли?
– Он мой был, оформлен на тетку.
– Куда ж он делся?
– Снесли. Старый был. На его месте этот, двухэтажный.
– Тьфу! – Саманюк повернулся и пошел прочь.
– Миша! Подожди! – догонял его Чачанидзе.
– Чего еще ждать? Статьи за бродяжничество? Нет, старичок, самое сейчас время смотаться обратно в свой родной и любимый карьер. Дурак, что клюнул на твои виллы. Погляди, народ и без долларов живет как на вилле. Шмуток, жратвы – навалом в магазинах. Невыгодно за долларами гоняться, хватит!
– Да ты выслушай! Все должно быть на месте! – уцепил его за рукав Чачанидзе. – Не в доме тайник был, во дворе. Не горячись, друг, давай-ка вернемся. Видишь, каменная кладка, чтобы с откоса грязыо двор не заливало? На кладке примета оставлена, а под приметой тайничок в земле. Здесь, все оно здесь, я знаю!
Дергая за рукав, подвел Саманюка к невысокому забору, каменному, с железными воротцами из прутьев.
– Гляди, вон там в кладке приметный камешек, под ним…
Из-за деревьев сада выбежал коричневый лохматый песик и с лаем бросился к воротам.
– Айда отсюда, – сипло сказал Саманюк. – Нечего ждать, пока и хозяева облают. Пошли в ресторан, пожрем хоть.
Отойдя, пробормотал:
– Песика надо приласкать…
3Это был веселый добродушный песик, коричневый и кругленький как медвежонок. Самозабвенно носился он по двору, меж деревьев сада, обегал на всей скорости зеленые туи. Ветер с моря ночью поднатужился, дунул как следует, согнал тучи в горы, и солнце скромно, по-осеннему пригрело город. Солнце золотило шоколадную шерсть дворняжки, синевой отливало в черных волосах маленькой хозяйки.
– Тарзан, модия! Иди сюда, Тарзан!
Песик понимал по-грузински и по-русски, он хоть как понимал хозяйку. Мчался к ней, улыбался по-своему тупенькой мордочкой, хвостом-калачиком, всем тельцем. В восторге он пачкал лапами синее платьице, а девочка ловила шоколадную мордочку, гладила, прижимала к лицу, и песик замирал от счастья. Потом девочка гонялась за собакой, и обоим было весело. Пес показывал свое старание – выгнал из сада тощего соседского кота, строго обтявкал стайку воробьев. Песик был непомерно счастлив. И собачья интуиция не подсказала ему, что из-за обваленной стены нежилого дома, там, напротив, наблюдают за их игрой четыре глаза: два черных с боязливым туманцем, два серых, деловито-холодных.
– Нона! В школу опоздаешь. Господи, какая ты грязная! Тарзан, вот я тебя! Нона, иди скорее умываться.
Бабушка погрозила собаке пальцем, Тарзан виновато склонил голову, искоса посматривая на старшую хозяйку все понимающими коричневыми глазами.
Потом он провожал Нону в школу. Пока девочка не остановилась на углу и не приказала: «Иди домой, Тарзан». Он еще стоял там, на углу, переступая на месте лапами, поскуливал тихонько – жаль расставаться. Но хозяйка скрылась, что поделаешь. И пес мелкой рысцою побежал домой, обнюхивая деревья и заборы.
Вышел из ворот хозяин, большой, высокий, в пахнущем бензином комбинезоне, в теплой куртке. Пес улыбнулся и ему, но провожать не решился. Зато спустя долгое время вышла с сумкой старшая хозяйка – проводил ее квартала два. Услышав: «Домой!» – тотчас послушался, вернулся. Лег на подсохший асфальт у ворот, сладко зевнул и положил голову на лапы.
– Тарзан! Тарза-анка!
Его звал человек?..
Дом напротив свое отстоял, его ломали, и уже две стены только осталось, а вокруг – груды мусора, кирпичных обломков и пирамидки новых кирпичей. Голос человека слышался из развалин. Голос незнакомый. Но призывно-повелительный. Пес вскочил и заворчал.
– Тарзан, ко мне! Тарзан, иди сюда, сукин сын!
Что-то упало на дорогу. Песик склонил голову набок – интересно, что там? При каждом зове уши его вздрагивали, но любопытные глаза прикованы к розовому кружочку на асфальте – что там? Шаг, другой… Вкусный запах… Пес благодарно вильнул калачиком-хвостом, съел колбасный кружок и, облизываясь, повернул мордочку к развалинам.
– Тарзан, на!
Еще несколько шагов… Очень вкусная колбаса.
– Тарзан, Тарза-анка, иди сюда, Тарзанчик.
Оглянулся на дом. Там никого нет, хозяева ушли.
А голос призывает. Голос обещает колбасу.
Пес пошел по кирпичным обломкам… Здесь пахло известковой сыростью, грязью, заброшенным жильем. От недоломанной стены – тонкий, заманчивый колбасный запах… Там на корточках два человека. И еще кружок колбасы падает в двух шагах.
– Тарза-анка! – воркует человеческий голос.
Пес знает – люди добры. Они кормят, ласкают, моют. И люди справедливы. Они не бьют, если ничего плохого не делаешь. Люди – о, эти люди!
Но ему не хочется подходить к тому, на корточках сидящему. Хотя люди, когда вот так ласково разговаривают с собаками, часто присаживаются на корточки. Но у этого в призывном дружелюбном голосе есть что-то, чего нет в голосах большого хозяина, старшей хозяйки и другой, молодой. И совсем ничего похожего – в голосе Ноны. Что-то тайное, опасное идет от стены, не хочется подходить… Но его зовет к себе человек…
– На, Тарзан, ешь. – Рука протягивает колбасу.
Он не голодный, но ведь колбаса! Пес сделал последний шаг и вежливо, почтительно взял зубами вкусно пахнущий… Короткий взвизг, петля сжала горло…
Леван Ионович поспешно отвернулся, болезненно сморщился, тянуче сплюнул тошнотную слюну.
До вечера, до сумерек выходила девочка Нона за воротца, звала шоколадного песика…
4Сидели в ресторане, пили пиво, кофе. Пока не настал час закрытия ресторана.
Из светлого уюта окунулись в сырую тьму. Прошлись по бульвару. Не разговаривая, стояли у парапета, слушали, как бьются в берег волны.
К ночи снова задождило, и Саманкж сказал, что это хорошо. По безлюдной хлюпающей улице, держась возле стен, дошли до знакомых, из тонких железных прутьев ворот. Без скрипа повернулись намокшие шарниры. Прокрались садом к каменной кладке.
– Ну? Где?
– М-м, посветить бы…
– Ага, прожектор тебе! В доме окна есть, видно двор.
Ночь стояла темная, шел негустой дождик. Справа вырисовывался дом, черные окна на туманно-светлой стене. Слева чернели какие-то дворовые постройки. В мерном шуме дождя мерещились Саманюку шаги, всхлипы, шорохи. Озирался, приникнув к тонкому стволу яблони. Чачанидзе скользил коленями по холодной мокрети земли, ощупывая камни кладки.
– Здесь…
– Не путаешь?
– Как будто здесь… Под этой плитой копать… Дай мне.
– Пусти. Где? Тут? Пусти, сказаної На дом посматривай.
Саманюк оттолкнул Левана Ионовича, встал на колени и ухватисто заработал короткой туристской лопаткой.
– Глубоко надо?
– Не очень. Под кладку рой, под кладку…
– Не лезь, мешаешь.
Лопатка то и дело натыкалась на камни, скрежетала, Леван Ионович вздрагивал, оглядывался на окна дома. Дом молчал, таился за дождем.
– Нет ни черта.
– Левее попробуй, левее…
Копает Саманюк. Старик-то, может, совсем чокнутый? Приснился ему клад? Вот помер будет…
Леван Ионович изнывает. Ах как скрежещет лопатой этот глупый бандит! Неужели нельзя поаккуратнее!
Копает Саманюк. Сколько лет прошло, как умерла старуха-тетка? Хотя какая разница. Дом снесли, новый построили, но ведь кладку не трогали? Никто не знал, не искал… Или старик из ума выжил?
…Стальной, небольшой такой ящик, Леван Ионович как сейчас его видит… Здесь оно, здесь, на этом самом месте… Почему Мишка копается так долго и не находит?
– Мишка, дай я…
– Погоди, там чего-то…
По-особенному скрежетнула лопатка. Камень? Или… Саманюк лег животом в грязь. Распрямился с натугой.
– Уж думал, ты того, чокнутый… Оно, что ли?
Леван Ионович узнал стальной ящик, облапил, защупал.
– О-о-он!!
Среди ночи проснулась девочка.
– Мама! Бабушка!
– Что ты, Нона, чего испугалась, маленькая?
– Бабушка, Тарзан нашелся, я сейчас слышала, как он лаял!
– Ну и слава богу, нашелся, а ты спи, Нона.
– Бабушка, на минуточку давай выйдем, пустим его на веранду. Там дождик, Тарзан замерз, плачет.
– Тише, папу разбудишь. У Тарзана шерсть теплая, конура в саду, он не замерзнет. А ты спи.
– Ну бабушка, ну, пожалуйста, на одну минуточку выйдем!
– Почему не спишь, Нона? – это отец.
– Папа, во дворе Тарзанчик лаял…
– Сейчас же спать! Завтра увидишь своего Тарзана. Я говорил, что прибежит.
Отец подошел к заплаканному дождем окну. Ночь темная, без звезд, без проблесков. Не то что собаку, корову не уви… Что шевелится там, на белых камнях кладки? Собака? Нет, человек?! Что нужно в их дворе дождливой ночью? Странно…
Два темных, темнее ночи, пятна двигались через двор к воротам.
– Спи, Нона, спи, девочка. На дворе темно и дождь.
Светало, когда вернулись на квартиру. Хозяйке сочинили, что ездили в горы смотреть закат, благо вечер накануне был ясный, и попали под дождь, всю ночь добирались пешком да на попутных машинах. Оба мокрые, грязные, – вранье вышло правдоподобным. Старуха напоила их кофе. Выпили, торопясь и обжигаясь, и скорее в свою комнату – «спать хотим, понимаешь, с ног валимся».
Будто и не бывало бессонной ночи, взбодрил кофе и, главное, удача. По правде говоря, Саманюк здорово сомневался вчера.
Он ножом подковырнул, приподнял крышку ржавого сундучка.
– Все цело! Все здесь! – бормотал Чачанидзе, вытаскивая кожаные мешочки, обернутые в пергаментную бумагу пачки. Саманюк лениво развернул одну.
– Доллары… Гляди-ка! Никогда не видел долларов. Говорят, мощная валюта. Слушай, что за тип тут нарисован?
– Президент, наверно.
– Важный. На прокурора смахивает. Ишь, зелененькие… Как же следователи до них не добрались?
– На следствии я все признавал, про компаньонов честно рассказал, тайничок с кольцами сам указал при обыске – берите, уважаемые, раскаиваюсь и рыдаю! Только бы, думаю, не дознались про доллары, про иностранного туриста…
Саманюк заметил добродушно:
– Сука ты, своих выдал. Забрать бы вот твой калым, послать тебя к черту да и уйти. А? Ну? Что бы ты делал?
– А что бы делал ты? С золотом, с валютой – что бы делал?
– Прав, старик, гад буду, прав! Бывало, грабану кассу, деньги в руках, и все чисто, гладко. А после как понесет по кочкам… Не успею и сотню прогулять, глядишь– судят уже, срок всунули. Невезучий, что ли. Скажу тебе как корешу – тоже и я ведь мечтал про баб красивых, про «малины»… или, по-твоему, про виллы. Охота мне, понимаешь, так: чего захотел, то и хватаю с лету, и никто бы не встревал, а то…
– В Советском Союзе такое невозможно.
– Сам знаю, что невозможно. Ученый уже.
– Без денег – какая это жизнь? В Советском Союзе… Вот я: таился, боялся, песочек этот, бумажки зелененькие себе собирал… Все тайком, все по рукам-ногам связанный вроде. Нет, вы дайте деловому человеку свободу, возможность свободно покупать, продавать!
– Барыга ты, старик.
– Я коммерсант! Коммерция – искусство! Тонкое, как искусство ювелира! Вот золото, доллары. Дайте, дайте возможность – клянусь, через пять-шесть лет буду иметь миллион!
– Ну ты даешь. Эдак ты мог госбанком заворачивать.
– Госбанк – государственный банк. Государственный, понял? Нет, я хочу, чтоб деньги были мои, мои, чтоб мог купить себе самые красивые вещи, все самое лучшее!..
– Не ори ты, чокнутый. Бабка услышит, капнет куда надо, и будет нам все самое лучшее в знакомых местах. Вообще пора мотать отсюда. Где, говоришь, живет твой кореш контрабандист?
– В горах, за Абастумани.
– Тумани… Была такая песня: «а я еду, а я еду за туманом…» Думаешь, он возьмется провести через границу?
– Он любит золото.
– А не разлюбит, если струсит?
– Золото – не женщина. Как можно разлюбить деньги?
– Ты опять прав. Эх, отдохнуть бы денек с удачи. Загнать по дешевке грамм пятьдесят песочку, гульнуть у вас в курортных местах…
– Кому загонишь? Тебя самого загонят. Поедем, Миша, сейчас, немедленно!
– Поспать бы. Ну ладно, в поезде выспимся. Давай в мой рюкзак вали сокровища, граф Монте-Кристо. Или отдохнуть все ж? Дорога дальняя… Слушай, ты на кладбище-то раздумал?
– Какое кладбище, почему?
– Ты хотел жинкину могилу найти.
– Ах да не время сейчас, нужно ехать.
Когда их поезд тронулся, и мокрый унылый перрон поплыл назад, все быстрее, быстрее назад, в прошлое… Леван Ионович отвернулся от знакомых домов, улиц, сказал:
– Не там мы родились, Миша, где надо бы.
– Может, и где надо, да не от того родителя, – почему-то с грустью, со вздохом ответил Саманюк.
5– Товарищ полковник, за время моего дежурства никаких происшествий. Только утром сигнал поступил, звонил какой-то Бибилашвили: ночью у него во дворе неизвестные лица что-то искали, копали под стеной. Конечно, могло показаться, пустяк, но раз было заявление…
– Почему так говоришь? Пустяков нет. Запомни, младший лейтенант, когда милиция отмахивается от пустяка, потом мечется, расследуя крупное дело. Заявитель высказал предположения, подозрения?
– Нет. Гражданин Бибилашвили видел из окна, как двое шли через двор, в темноте и в дождь опознать их не мог. Еще видел утром во дворе свежевырытую яму.
– Так. Что еще?
– Все. Нет, не все: накануне собака у них пропала, не нашли.
– А ты говоришь, пустяк. Скажи адрес. Гм, нет, не помню такого адреса. Там живет Бибилашвили? Не помню Бибилашвили. Пойди в архив, пусть выяснят, было ли когда дело, связанное с этим адресом или фамилией.
Дежурный ушел. Полковник Хевели закурил, прошелся по кабинету. Полковник Хевели любил иной раз блеснуть перед сотрудниками цепкой своей памятью на адреса, фамилии, лица. Бибилашвили? Адрес? Нет, не помнит.
Дежурный постучал к нему часа через два.
– Товарищ полковник, шесть лет назад в этом доме, нет, не в этом самом, а в том, который на том месте стоял…
Глаза полковника смешливо сощурились – «докладывать тоже учиться надо, сынок». Но согнал улыбку, кивнул: продолжайте, младший лейтенант.
– В том, прежнем доме умерла старуха, и мы разыскивали наследников.
– Нашли?
– Да, двоих. Оба дальние родственники. Бибилашвили признан законным наследником и введен во владение. Он домик сломал, новый построил.
– Кто второй из наследников?
– По документам, некий Чачанидзе Леван Ионович. Но он отбывал наказание в НТК.
– Понятно. Скажи начальнику уголовного розыска, пусть ко мне зайдет. Скажи, пусть сейчас зайдет.
Теперь полковник ярко вспомнил ту историю пятнадцатилетней давности. Леван Чачанидзе, подпольный ювелир! Полковник попытался представить его лицо. Но вместо Чачанидзе вспомнилась пышноволосая сибирячка, следователь из Читы, товарищ Наташа… Полковник грустновато улыбнулся: молодой был… Жену имел – на других женщин все равно смотрел… просто так смотрел, «без злого умысла». Хорошие волосы, хорошее лицо, светлая голова у сибирячки, следователя Наташи Юленковой. Ах, какой молодой был! Но что ищет Чачанидзе?
Вошел начальник ОУР.
– Скучаешь, дорогой? Не скучай, пожалуйста, дело есть. Выясни: в какой НТК отбывал Чачанидзе Леван, судимый… найди в картотеке, когда судимый, лет пятнадцать назад. И где он сейчас. Пусть передадут телеграфом данные.
6Маленькое горное селение встретило безмолвием. Древние, как само ущелье, долговечные, как скалы, сложенные из камня сакли, словно мудрые старцы, величаво смотрели пустыми оконцами на двух туристов.
Чемоданы с собой не взяли, только рюкзаки за плечами. Основной груз нес Саманюк. Но все равно Чачанидзе устал, задохся на горном подъеме. Такси пришлось отпустить еще в долине. Старик все чаще ложился на камни отдохнуть. Саманюк ругался.
– Завел черт-те куда, тут и людей-то нету. Пересажали твоих корешей-контрабандистов.
Примолк, как до селения дошли. Молчаливые сакли были величественны в своей древней красе. С высоты видны кругом одни горы, горы… Во дичь какая! В таких местах ховаться в самый раз, никакая милиция не сыщет.
Чачанидзе держался за грудь, сердце билось часто и больно, в горле будто ком стоял, не давал дышать. Весь в поту, сел на камень у въезда в улочку, обвис.
– Э, – принюхался по-собачьи Саманюк. – Дымом пахнет. Есть кто-то живой в этой мышеловке. А ну вставай, дед.
Чачанидзе охнул от его тычка, поднялся и потащился, спотыкаясь. Улочка полого спускалась к обрыву. Годы, годы… Когда-то Леван поднимался сюда легко, без одышки, без дрожи в коленях. Ахмет встречал его как дорогого гостя, угощал вином прохладным, шашлыком… Приходили соседи, садились на ковры… Где они, те соседи? Опустело селение. Где Ахмет, жив ли?
Немного успокоилось сердце, отпустила одышка. Но годы, годы, ах, что они сделали с Леваном Чачанидзе… Тело жалуется, тело просит покоя. Не радуют горы, страшно от пустоты селения, покинутого жителями. Который дом? Неужели забыл? Не забыл, вот этот дом.
Чачанидзе привалился рюкзаком к стене, облизал пересохшие губы.
– Здесь жил Ахмет… Теперь не знаю.
– Дымом пахнет. Пойдем.
Воротца со скипом растворились. Обветшалая галерея вела в домик.
– Ахмет! Дорогой друг, это ты?!
Седобородый, но крепкий еще старик сидел на ковре, поджав ноги. Перед ним светился маленьким экраном транзисторный телевизор. Хозяин не проявил ни радости, ни удивления, лишь пробормотал приветствие и жестом пригласил садиться рядом. Ах, годы, годы… Леван со стоном валится на ковер, не в силах сесть по древнему горскому обычаю чинно и достойно – болят ноги, устали ноги. Ахмет, какой он стал, Ахмет! Старый совсем Ахмет, забыл законы гостеприимства, не встречает с почтением путников, в телевизор гляди г Ахмет. Ай, что делают с человеком годы!..
Саманюк тоже присел на полу. Подозрительно оглядывал комнату. Да и оглядывать нечего… Два крохотных оконца. Мебели нету. На полу ковры, на коврах подушки, хозяин сидит, телевизор перед ним. Чего там, в экране? Состязания по дзю-до. Ишь старый хрыч, глядит в экран, а у самого руки дергаются – «болеет». Лихой, видать, старикашка, азартный. Проводит он через границу?
Неслышно появилась женщина, в черном вся. Наверно, жена его, старикана. Бархатную скатерть раскинула, расставила перед мужчинами фрукты, сыр, лепешки. Ого, стаканы прет и кувшин. Саманюк ухватил кувшин, понюхал – вино. Ну ладно, за своих принимают, значит. Хозяин, косясь на телевизор, налил полные стаканы, поднял свой.
– Мир и благополучие гостям…
Но тут на экране черноголовый дзюдоист такую ловкую сделал подсечку противнику, что руки-ноги Ахмета дернулись-дрыгнули, вино расплескалось.
– Ты видел, Леван, нет, ты видел?! Ай, молодец джигит! Когда я был молодой, я умел… Ай, молодец, ай, джигит!
Он бормотал и дрыгался, пока борцы не закончили схватку. Победил тот, черноголовый. Ахмет ликовал, забывая о достоинстве седобородого человека. Саманюк смотрел не на экран, а на старика, и гадал: проводит через границу?
Вино оказалось слабым, терпким, Но когда пить охота – сойдет. Налил еще.
Чачанидзе разбавил вино холодной водой, выпил полулежа.
– Бедно живешь, Ахмет, – сказал.
Седобородый пригубил свой стакан.
– Неправильно говоришь, Леван. Богато живу, все есть. – Он кивнул на экран. – Весь мир есть.
Дальше старики заговорили по-ихнему. Саманюк ничего не понимал, скучал. В телевизоре кавказка – ничего себе бабенка – тоже говорила непонятное. Саманюк задремал под чужие гортанные слова…
– А? Чего? Куда?
Его толкают в бок. Ф-фу, задремал. Какого черта будят?
– Пойдем, Миша. Бери рюкзак.
Саманюк встал.
– Прямо сейчас? К границе? Днем?
Чачанидзе не ответил.
Ахмет проводил их до ворот, пожелал-гостям мира и благополучия.
Селение все так же безлюдно и молчаливо. От вина и спросонья Саманюк не сразу сообразил, что за дичь дремучая кругом, как в кино?
– Люди ушли в долину, что им тут делать, – пояснил Чачанидзе, словно гид экскурсионного бюро. – В селении только шесть стариков осталось. Сыновья Ахмета живут в Абастумани, уважаемые люди сыновья Ахмета. Зовут отца в Абастумани. Не хочет. Горы любит.
– Погоди, старик, погоди болтать. Этот тип, он проведет нас через границу? Потом, ночью, да?
– Он не хочет…
– Чего-о? Ты ж говорил, он золото любит?
– Другой совсем стал Ахмет. Больше не любит золото. Телевизор любит. Он сказал, что ему некуда будет девать золото.
– Вот гадюка! – возмутился Саманюк. Он незаметно для себя, с легкой руки Левана Ионовича, приучился думать, что если в рюкзаке за спиной столько золота и долларов, то вся и все должно подчиняться их планам и желаниям.
– Как же так? А ты говорил, что…
Чачанидзе пожал плечами под рюкзаком:
– Так…
– Старик, что ж теперь? Ты башковитый, придумай что-нибудь!
Чачанидзе ответил глухо, без прежней надежды:
– Едем в Ереван. Там жил один армянин, художник, умел делать документы. За границу едет много туристов. Нас не пустят сейчас, но если кое-что подправить в документах…
– Но ты хорошо поговорил с Ахметом? Может, его шпалером припугнуть?
– Дурак ты, Миша.
Да, в таком деле не припугнешь: согласится для понту, да и сдаст пограничникам.
– А до границы далеко?
– Вон ту гору смотри. Видишь? Правее. Так вот, та гора в Турции.
– Слушай, старик, а если так прорваться? Пистолет есть, с полной обоймой…
– Перестань. Если и прорвемся, турки вернут. В Ереван надо.
Прошли улочку, миновали последний домишко, обогнули скалу. Начался спуск. Слева вставал бурый камень скал, справа падал в ущелье крутой каменистый откос. Там, внизу, клубился туман, розово озаренный сверху уходящим за горы солнцем. И они шли вниз, где ждал их туман, такой розовый сверху. Рюкзаки – с золотым песком у Саманюка и с пачками банкнот у Чача-нидзе, – отяжелевшие от неудач рюкзаки мягко подталкивали их в спину. Саманюк шел сзади, наблюдал с неотвязной ненавистью, как безвольно болтаются руки старика, качается над рюкзаком белая голова. Запутал, падла, заморочил башку золотыми мечтами, виллами… Стрельнуть бы ему в затылок, гаду.
Отвел глаза от стариковской спины, остановился. Поправил лямки рюкзака. Поискал взглядом и нашел гору, которая уже в Турции. Гора как гора. Не шибко и далеко. Еще недавно, когда разыскивали в Сухуми дом, вернее, двор, Саманюк готов был вернуться в таежный поселок, плюнув на все эти липовые виллы. Но после того как раскопали тайник Чачанидзе…
– Стой! Руки вверх!
Как током ударило Саманюка: всыпались?!!
Чачанидзе простонал, выставил вперед ладошки, словно защищаясь, и не удержался на ногах, упал.
Всыпались?! Конец?! Саманюк отпрянул к скале, вырвал из кармана пистолет и, скользя спиной по камню, стал отходить назад, откуда пришли.
– Стоять! Брось оружие!
И за спиной тоже?! Зажали! Некуда! Хана! С обрыва вниз? Чтоб сразу…
– Эй, брось пистолет!
Сдаваться? Колония опять, «гражданин начальник», барак… Вилла – за колючей проволокой… Ух сволочь, старик!
Впереди из-за камней поднялся кто-то в штатском, без фуражки.
– Да брось ты пистолет, тебе что, жить надоело?
– А вот сейчас всажу пулю, и видать будет, кому жить надоело! На, лягавый, получай напоследок от Мишки Саманюка гостинец!
Но он не выстрелил. Безразличная вялость подогнула колени, сама опустилась рука. Звякнул о камень выпавший браунинг.
– Нате, берите… – еле слышно прохрипел Саманюк.
К нему подошли, подняли из-под ног пистолет. Щелкнули наручники.
– Иди.
Он пошел. Услышал, но не понял слова:
– Товарищ лейтенант! Старик-то умер!
Саманюк смотрел вниз, в ущелье. Из ущелья курился навстречу солнцу розовый туман, в нем возникали и таяли призрачные дворцы, виллы…








