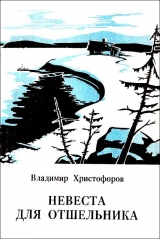
Текст книги "Невеста для отшельника"
Автор книги: Владимир Христофоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Среди портретов знатных людей нашей страны Лариса поместила мою фотографию. Я в форменном кителе, с двумя звездочками в петлицах. В руках – «Литературная газета». Вид умный-умный. «За что ты так меня», – спросил я Ларису, подумав, что, слава богу, гостей в этом доме не будет всю зиму. Она простодушно объяснила: портретов больше не оказалось, а надо было закрыть на стене облупившуюся штукатурку. При этом она очень серьезно смотрела на меня. Я понял, что Лариса не шутит. И хотя давно знал, что она абсолютно лишена чувства юмора, на этот раз все же с надеждой заглянул в ее глаза. Ведь то, что она сказала, – это и есть образец прекрасного своей грубоватостью и бесцеремонностью юмора. Юмора Чапека, Джерома К. Джерома, Зощенко, О'Генри. Увы! Ей действительно надо было заклеить эту заплату на стене. Впрочем, а почему бы не моей физиономией? Ничего здесь нет обидного, если к этому относиться с юмором.
При зажженных голубых свечах хорошо думается о чем-то безвозвратно ушедшем и кажется, что ты наконец близок к постижению истины.
Новоселье мы отпраздновали в зале. Жаль, не было третьего человека, который разносил бы кушанья и наливал бы шампанское. Мы сидели за нашим гигантским столом, и нас разделяло более чем четырехметровое пространство, застеленное узорчатой мешковиной. Нам было хорошо, что говорить! Впервые за много лет в заброшенном поселочке на берегу бухты Сомнительной в самом большом доме на косогоре горел свет, слышалась музыка, а в чернильную высь взвивались фонтаны разноцветных огней.
В тот вечер казалось, будто полуразрушенные домишки вокруг, которые когда-то весело мигали своими оконцами и задиристо попыхивали печным дымком, приковыляли из разных мест пустынного побережья Ледовитого океана на наш праздник и грустно взирали на оживший дом.
Много лет назад здесь находился поселок морзверобоев. Потом жителей переселили в другое, более удобное место, а сюда прибыл крупный гидрографический отряд. Каждую зиму он вел промеры дна вдоль побережья, уточнял контуры бухт, лагун, заливов. Но закончилась эта работа, и люди покинули поселок. На берегу бухты остались добротные домики, гаражи, склады с излишком валенок, кроватей, постельных принадлежностей, старых полушубков.
Брошенный поселок погрузился на долгие годы в небытие. Лишь зимой появлялся охотник, да летом иногда наезжали одна-две научные экспедиции. С осени здесь решено создать центр и базу заповедника по охране белых медведей.
Так вышло, что первыми в бухту Сомнительную приехали мы. Нам предстояло сделать подробную опись всего пригодного жилья, лесоматериалов, оставшегося горючего и угля. Вообще, надо было все осмотреть хозяйским глазом, прикинуть, что к чему. К лету ожидался приезд работников с семьями. От нас в какой-то степени зависел их будущий быт. Поэтому мы решили с осени заколотить как можно больше домиков, чтобы спасти их от снега, привести в порядок.
…Придерживая больную руку, я поднимаюсь – кровь часто ударяет в виски, в глазах вспыхивают оранжевые мерцающие колеса. Набрасываю на плечи Ларискин халат, выхожу в коридор и останавливаюсь в раздумье – куда идти? Вдоль коридора понизу – чугунные дверки печек. Очень удобно топить, да и грязи меньше в комнатах. Направляюсь дальше с мыслью зайти в библиотеку. Неожиданно вздрагиваю от далекого хлопка и хватаюсь здоровой рукой за стену. Выстрел сделан из моего ТТ. С остановившимся сердцем вылетаю на крыльцо и сразу вижу Лариску, она помахивает мне с того берега: мол, все в порядке. А я начинаю злиться. Из-за выстрела, из-за руки, из-за убитого медведя… Ничего себе, неделька началась! Сейчас вовсю надо вкалывать и вкалывать: забивать окна, подгонять двери, заделывать щели. Вот-вот, не завтра-послезавтра, грянет долгая постылая зима с бесконечными пургами, утомительной полярной темнотой.
Лариска переходит ручей, держа несколько на отлете какую-то продолговатую тряпку.
– Простудишься, Котенок! Иди в кровать. – Ее лицо слегка подкалилось на стылом воздухе, и сейчас на скулах горит румянец. – Вот. – Она сует мне под нос длинное тело зверька, – Довольно редкий экземпляр тундрового лемминга.
– Не лемминга, а евражки. Зачем она тебе? И кто разрешил палить?
– Не ворчи, милый. – Она строит гримаску, имитируя капризный плач. – Котеночек, иди, пожалуйста, в спальню. Холодно…
Я покорно иду и думаю об убитой евражке. Черт-те что! Сначала медведь, теперь вот эта… Последняя жертва вообще бессмысленна.
Мне хорошо лежать под овчиной, тепло, дремотно. Дымящееся розово-пегое небо… Щелкающие молодые сильные клыки, загнутые чуть-чуть внутрь… Неприятный утробный запах. Я начинаю задыхаться, меня мутит. Приоткрываю веки и вижу, словно в тумане, лицо Лариски. Откуда же такой странный звериный запах? Я окончательно прихожу в себя и резко сажусь.
– Давай, Котеночек, скорее. Я только минуту назад сняла шкурку. Еще теплая. Только молчи. Так делал мой дедуся. Вот увидишь, заживет, как на соба… Ой, извини, конечно… Это так, в порядке юмора. Я же знаю, что ты любишь юмор, правда?
Продолжая тараторить, она снимает бинт, мажет рану зеленоватой кашицей, прикладывает бинт, а поверх…
– Ты с ума сошла! – кричу я. – Зачем мне эта шкура? Вдруг она заразная? Да подожди, говорю…
– Зараза в кишках или в крови, дорогой. Смотри, какая чистая шкурка. Потерпи, это совсем небольно. Вот так, вот так. Сразу почувствуешь облегчение. – Она обертывает руку тепловатой шкуркой, забинтовывает. – Так делал мои дедуся. Он резал козла…
– Погоди со своим козлом. Что это за каша?
– Трава душица. Ты еще пил настой, помнишь, с похмелья? Она и от заражения крови. Понимаешь, она как бы ускоряет обновление крови. Правда, не мешало бы часть крови отсасывать, но при этом надо усиленно кормить больного.
– Насчет кормежки – не возражаю, а отсасывать повременим. Вообще у меня создастся впечатлений, что твоя душица – панацея от всех болезней.
– Что такое панацея? Я, знала, но забыла, вертится в голове, а вот сказать не могу.
– Мнимое средство от всех недугов, глупая.
– А-а, так это я знаю, просто забыла, А тогда я тебе давала от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что душица помогает и сердцу, она расширяет сосуды. Вот, например, почечный чай вымывает песочек и в то же время выводит токсины, например алкогольные. Можжевельник промывает печень, адонис – мочегонный. Молоко с бессмертником – желчегонное. Ты думаешь, я, что ли, зря вожу с собой травы? Дедуся мой…
– Стоп! Хватит про дедусю и мочегонное. Угробишь ты меня своими экспериментами. Эксперимент это…
– Знаю, знаю, не считай меня дурочкой…
Я морщусь и с удивлением рассматриваю свою руку – из-под бинта торчат клочья рыжей шерсти и лапки с небольшими острыми коготками.
Лариска прикладывается к моему лбу:
– Немножко жар, но так и должно быть. Я заварю сейчас корень валерианы… Хорошо, хорошо, молчу, лежи спокойно, я расскажу тебе про евражку-бедняжку. Надо же, никогда никого в жизни не убивала, даже мух жалела. – После паузы она вдруг небрежно машет рукой и произносит тоном палача-профессионала: – Ради тебя я готова кого угодно убить!
Я вздрагиваю и делаю ужасные глаза, словно сейчас произойдет какое-то страшное убийство.
– Так ты когда-нибудь меня самого ухлопаешь.
– Так не бывает. – Она берет мою ладонь, распрямляет ее и долго изучает:
– Надо же, как у нас сходятся линии! Как хорошо, что ты мне встретился в пути.
– Давай валяй про линии, – великодушно разрешаю я, потому что знаю и этот пунктик.
– Ты вот смеешься, Котенок, а сам глупый, – Она чертит пальцем вдоль линии. – Кстати, я тебе ни разу не гадала по левой руке. Вот, смотри, линия темперамента. Она у меня такая же. Они, видишь, сходятся.
– Кто сходится?
– Линии, то есть темпераменты. А здесь поле любви, вот очаг любви. Он может гореть, может быть потушен – зависит от моментов. Надо смотреть, как линии скрещиваются. Моя линия темперамента прямая – точно стрела, а у тебя с отклонениями. Это значит, что ты жил не со мной, а когда мы поженились, две линии слились в одну.
– Интересно было бы посмотреть, как произошло это слияние. Наверное, в это время сильно чесалась ладонь?
– Не смейся. Это слияние произошло как раз посередине твоей жизни. Вот у тебя первая жена. А вот любовницы… Ох, Котенок, и много их у тебя было?
– Неправда! Совсем мало. Потому что сначала некогда было, а потом рядом мало женщин было.
– Верю, верю… Смотри, я появилась как раз посередине твоей жизни. И – отрезала все! У меня, видишь, есть тоже параллельная коротенькая линеечка. Это один парень. Он шел рядом, но так и не слился с моей жизнью – линия обрывается. – Она наклоняет курчавую голову к самой ладони, – Отсюда идут белые женщины, а вот я. Я на черном поле. Тут у тебя были кошмары. – Она на мгновение задумывается и деликатно напоминает, что эти кошмары были с той женщиной, моей бывшей женой, – А с моим появлением жизнь твоя озарилась. – Лариска ласково улыбается мне. – Я, между прочим, знала по своей руке, что найду тебя. Не сразу найду, но найду. А когда я увидела тебя впервые, то, веришь, земля под ногами закачалась.
– Это когда – там или уже здесь?
– Понимаешь, там было как бы предчувствие. Я не могла осознать это свое озарение. А вот когда приехала и увидела твою седину в голове, – все сразу и решила. Я ведь тебя два дня караулила на улице.
Константин
…Однажды я сидел вечерком со своей блондинкой-рентгенологом и слушал ее рассказы о Севере. Вдруг звонок. Иду, открываю – ба! Детский сад! Белый свитер, темно-красный плащ, сумочка какая-то сбоку, губы слегка подмазаны, голова в знакомых бараньих завитках. Словом, Баранья Башка. Сразу, конечно же, в краску, в этот свой знаменитый румянец. Стоит, молчит, теребит ремешок сумочки.
– Ты чего? – а сам загородил вход в коридор. Войти не приглашаю.
Подняла глаза. Бог ты мой! Такая в них радость, такой свет! Теплота ее несмелой улыбки невольно передалась и мне.
– Ты чего, Баранья Башка?
– Я переехала сюда жить. Буду здесь работать.
– Где жить, где работать? Ты с ума сошла! Зачем тебе это?
– Надо. Жить буду в общежитии, работать берут на автобазу инструктором физкультуры.
– Ну, ты даешь! Ну, ты… Вот что, давай заходи ко мне… Скажем, завтра или послезавтра. В любой день и в любое, как говорится, время. А сейчас, извини, пожалуйста, – я перешел на шепот. – У меня, понимаешь… человек один…
Она снова вскинула ресницы, испуганно и торопливо закивала:
– Да, да, извините. Я понимаю. Конечно, я пойду, мне торопиться…
Прислонившись лбом к стене, я еще долго слышал ее быстрые цокающие шаги. Ах, как нехорошо вышло, как нехорошо! Проводить бы надо, темно уже…
Жаль, не сделал я этого тогда. Тем более, как потом оказалось, ночь эту она провела на автостанции. Понадобились многие годы, чтобы усвоить правило – делать всегда так, как хочется сразу, сию минуту. Самое первое впечатление всегда не только самое сильное, но и самое верное. Это у меня. У других, возможно, иначе.
Она долго не появлялась. Я уже забыл о ней, пока однажды мы не встретились на автобазе. Повторил приглашение. Пришла. Стала приходить чаще. После вечерних тренировок от нее исходил запах разгоряченного крепкого молодого тела, – кто-то сказал: запах молодого здорового животного. Она принимала ванну, и мы садились пить чай. Признаться, я обращал на нее внимания ровно столько, сколько обращает внимания старший брат на подросшую младшую сестренку. При ней я работал, звонил, читал, писал письма. Лишь однажды что-то на меня нашло, я притянул ее к себе и поцеловал в курчавую голову. Однако у меня хватило благоразумия, и я не решился изменить наши ласково-дружеские отношения. А она была еще слишком неопытной, чтобы воспринять мой порыв так, как воспринимают его все зрелые женщины земного шара.
М-да… Потом все закружилось, завертелось. Мы почему-то долго не встречались. А в середине декабря я получил вызов и деньги. Впереди у меня была неизвестная Чукотка.
Мы так и не попрощались. Я черкнул ей пару слов на почтамт. И все.
Лариса
Из дневника:
«Когда ты снова увидел меня в редакции, ты приостановился и бросил; «Привет, ангелочек!» Почему ты меня назвал ангелом? У меня черные мысли в голове, но сейчас уже не потому, что я болею подозрением, а потому, что я боюсь за твою судьбу, хотя ты будешь и не со мной. Да, вчера с Томкой говорили о Тане Горенко. Ее уже не поднимешь, она на дне жизни, можно сказать, выброшена за борт. Упала в грязь лицом и не сможет подняться. Возможно, и поднимется, но смыть грязь позора не сможет никогда! Я осуждаю ее, хотя виновата не она, а тот, кто воспитал ее. Она теперь, как безумная, мечется, раскаивается. Видно, так и будет влачить жалкое существование.
Пишу эти строки на рассвете. За окном теплый дождь. Он приносит мне радость. Если утром после той ночи с ним мной владели черные мысли, то сейчас я чувствую, что еще так чиста, как этот воздух после дождя. Но почему, откуда у меня тогда с ним были такие дурные мысли? Я даже разобраться в них не смогла и не смогу».
Вот, читая это место, я всегда краснею. Особенно там, где речь идет о Тане Горенко. Совсем и не разболтанная девчонка. Ну ошиблась – чего теперь! Сейчас она преподает в техникуме, у нее хорошая семья. Но эта запись, на мой взгляд, ценна тем, что именно так, а не иначе мы, большинство девчонок семнадцати-восемнадцати лет, воспринимали «падение» нашей подруги. А ведь это было совсем недавно, каких-нибудь десять лет назад. Пусть эти строки останутся для моей дочки, если она у меня будет. Ведь никто ей не расскажет так откровенно о юности ее матери. Да и отца. Я о нем мало пишу, я пишу лишь о своих чувствах к нему… Ах, какой я все-таки была самоуверенной, если могла так писать;
«У нас любовь с первого взгляда, и это тоже пугает меня. Говорят, что такая любовь мгновенная! А я ведь еще не знаю жизни, у меня раньше не было ни увлечений, ни любви, поэтому я не могу спорить и не соглашаться с отрицающими любовь с первого взгляда. Это в некоторой мере настораживает меня, нужно учить историю – там все ответы».
Откуда я взяла тогда, что он тоже влюбился в меня с первого взгляда? Скорее всего после той ночи он махнул на «детсад» рукой и забыл. А может быть, эта слепая уверенность и помогла мне пронести чувство через многие годы? Хотя с Костей мы встретились – как бы это сказать? – уже отчасти душевно израсходованными. А ведь все могло быть иначе, будь я тогда поопытнее и понастойчивее. В настоящей любви надо идти до конца и, может быть, даже все средства хороши.
Из дневника:
«В любви несказанно везет… Мне кажется, что такие самоуверенные мысли могут появиться только у тунеядки или разболтанной девчонки, но никто никогда меня еще не считал хоть чуть-чуть разболтанной. Господи, какие грубые выражения, но ведь так я и думаю. Философствую? Возможно. Но я не могу допустить и мысли, что он меня не любит. Я должна помочь ему осознать это. Если я гореть не буду, то кто же из нас двоих рассеет тьму?»
А вот и следы слез. Я плакала редко, и сейчас, если плачу, то никто об этом не знает.
Из дневника:
«Как тоскливо на душе! Конечно же, он был с женщиной, потому и не пустил меня. Я это поняла по его растерянным глазам. Я впервые его видела таким. Уж лучше пусть он бывает с ними, но я никогда не хочу больше видеть у него такие глаза. Его надо спасать. Но как? А ведь перед отъездом я словно предчувствовала беду. Просто я, наверное, не прощаю ни малейшей ошибки ни себе, ни людям. Надо выследить, кто к нему ходит, увидеть ее, а потом решить, как ему помочь.»
…Мои чувства в тот вечер были растоптаны. Да, мрачные дни, страшные ночи, на сердце камень, голова, как чугунный котел. Моя новая подружка Люська, когда я ей показала его, сказала в общежитии: «Дивчата, який пацан законний!» Я спросила, какой? «Брюки – колокол, а рубашечка вообще…»
Сегодня, когда я вошла к нему со шкурой евражки, он спал. Я некоторое время стояла в рассматривала его. Даже во сне не сходит с лица печать постоянной боли, которая начала изматывать его за год до моего приезда на Чукотку. Если бы мне приехать на год раньше! Не знаю, что у него там было в той семье, но, очевидно, они недостаточно берегли друг друга. Это сейчас сплошь и рядом. А мне Котенка надо беречь, чтобы продлить ему жизнь.
Новое несчастье – этот проклятый белый медведь! Если даже и заживет рука, как бы не было последствий на нервной почве. Такое испытать! Да я бы умерла от сердца…
Обедали в Зале Голубых Свечей, Когда я вхожу туда, сразу ищу глазами его портрет. Интересно, он меня считает совсем дурочкой? Моя игра может зайти слишком далеко, и я ему попросту надоем со своими глупыми штучками. Может случиться и так, что впоследствии он будет стесняться знакомить меня с друзьями, бывать со мной в гостях. «Она ведь у меня, господа, дурочка. Я ее люблю, но…» А я должна быть источником помощи для него в трудные минуты, когда уже ждать помощи неоткуда. К тому же я должна освободить себя от всего дурного: не привязываться к вещам, не завидовать, не быть злой, тщеславной, не оглядываться на чужое мнение. Не может быть, чтобы эти качества вызвали у близкого человека чувство разочарования! Ведь так совершенствуешь не только себя самого. Можно усовершенствовать и весь мир, если не позволять себе ни одной подлой мысля, ни одного подлого поступка – благородство мысли и благородство действий! Так говорил Джек Лондон.
…Мне нравится изучать свойства лекарственных трав. Разве это не дело? Это настоящее дело!
3
– Представляешь, в бруснике больше каротина, чем в моркови. А шикша нормализует давление – хоть высокое, хоть низкое. Мы следующим летом наберем ягод и будем жить-поживать да детей наживать.
– Чего, чего? – встряхиваюсь я, не уловив момент, когда Лариска переключилась с гадания на бруснику, с брусники на детишек. – Какие дети?
– Да я пошутила, – Она улыбается, но от меня не ускользнула мгновенная тень, омрачившая ее глаза. – Это такая поговорка. Есть у тебя сын – и хватит. Все равно он подрастет и будет приезжать к нам, а потом внучка появится. Будем нянчиться…
Эге-ге, малышка! Язык вертится вокруг больного зуба. Ты женщина и никуда от этого не денешься, как бы ни скрывала. Но пойми, не здесь же, не в бухте Сомнительной. А учеба? Десять классов – это не так мало, если ты что-то умеешь. А ты кроме гимнастики да печатания на машинке – ни-че-го.
Вслух говорю другое:
– Не печалься. Все у нас с тобой образуется, Я ни о чем не забываю, положись на меня.
– Я и так полностью тебе доверяю. За тобой я как за каменной стеной. Как ты решишь, так и будет. Но все же ты мне иногда говори…
Она вдруг беспомощно разводит руками и оглядывает стены. Я понимаю ее взгляд. Он хочет охватить не одни эти стены, но и весь пустынный кран со льдами, ветрами, безлюдьем, холодом, риском. И у меня впервые возникает мысль, от которой я ежусь: «А хорошо ли ей здесь? Правомерна ли только моя точка зрения? Наконец, что это – любовь или, может, иллюзия? Как совместить обоюдные интересы, чем жертвовать и где предел этих жертв?»
От таких раздумий у меня сводит скулы. Чтобы выиграть время для ответа, я включаю «Спидолу»:
– Из-за шума и вибрации жители близ аэропорта имени Кеннеди требуют запрета посадок тяжелых реактивных самолетов «Конкорд»…
– Пьяные офицеры западно-германской армии запалили на площади костер и кричали: «Сожжем еще одного еврея»…
– Реактивный дождь над Норвегией…
– Впервые официально объявлено о населении Китая – она составляет девятьсот миллионов человек, хотя, по мнению некоторых зарубежных специалистов, эта цифра достигла одного миллиарда…
– Спокойной ночи, малыши!..
Лариса задумчиво проводит гребнем но своим непокорным завиткам – транзистор тотчас отзывается треском. Это явление почему-то нас всегда смешит.
– Мы с ним в сговоре, – хохочет Лариса.
Я тоже смеюсь, по транзистор выключаю.
– Ты просишь иногда говорить тебе… Я думаю, что от тебя ничего не скрываю, – вру я ей и делаюсь серьезным потому что не все мысли можно доверить даже любимому человеку. Я тоже в иные моменты подвержен сомнениям, и тогда будущее мне кажется зыбким. Но я не имею права об этом говорить, и это меня дисциплинирует. Я просто не могу позволить себе показаться рядом с ней слабым, потому что я, как ни говори, проникся уважением к ее почти восьмилетнему стремлению ко мне, к ее чувству, которым она жила все эти годы. Мне остается благодарить судьбу за то, что она подарила мне ту далекую встречу в редакционном коридоре.
– Не надо печалиться, – говорю я. – У нас с тобой все хорошо. Ты моя последняя и самая чудесная гавань. Зима пролетит незаметно, будем работать, читать, учиться. А весной, когда приедут люди, уедем. Если захочешь, я снова уйду в газету, и нам дадут квартиру. Везде и всегда требуются хорошие журналисты. Если захочешь, уедем на материк, будем жить в Суздале, и я куплю лошадь. Как думаешь, сколько она стоит!
– Да мой дедуся тебе бесплатно с радостью отдаст свою.
– Коняка мне не нужна. Скакун нужен, с кавалерийским седлом.
– Я думаю, рублей триста стоит.
– На фига мне за триста! Это несерьезно, говорят, орловский рысак – ну, средний – стоит две с полтиной…
– Давай его купим.
– А денег не жалко?
– Денег мне вообще не жалко. Если ты будешь со мной, то у тебя будут деньги. Я очень экономна. Другие женщины, что ни год, покупают кольца, серьги, шубы. А мне этого не надо.
Вот чертовка! Я знаю, в чей огород летят камешки… Во всяком случае это звучит трогательно – женщина остается женщиной.
– Да-да, конечно. Я в тебе очень ценю это. – Но сам думаю о том, что по сути эта болтовня не ответ на ее главный вопрос.
– Давай не будем загадывать. Но… Но каждый человек на земле должен видеть, как играют его дети.
Лариска наклоняется ко мне, глаза ее зажигаются благодарным светом:
– Люби меня, смейся, пиши стихи, – шепчет он.
– Все Ахматову читаешь?
– Не только. Вот послушай, что у меня записано в тетради. – Она вытягивает из-под матраца тетрадь. «Никакое притворство не может долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать – когда ее нет». Это сказал Ларошфуко.
– Хм, пожалуй…
– А вот еще, слушай, – Лариса улыбается, – «А когда пожелтеет трава и растают в небе трубные журавлиные звуки, они потихоньку начнут скучать по галечному берегу, на котором разместилась школа-интернат. Начнут все чаще вспоминать стены классов с портретами ученых и писателей, уютную пионерскую комнату со сверкающим медью горном, дорогу, ведущую от моря к школе…»
– Последнее что-то знакомо, – говорю я и силюсь вспомнить, где это я читал.
– Глупый, это писал ты.
Я хохочу, сраженный неприкрытой лестью, а может быть, и самым настоящим лицемерием моей дорогой супруги. Вскакиваю и кричу:
– Это ты глупая! Глупая! Когда я только тебя перевоспитаю?
Лариска изображает на лице недовольство:
– Неужели я не имею права записывать то, что мне правится?
– Можешь, конечно. Это твое право, но все же знай меру.
– Тогда я больше тебе не буду никогда читать свои записи.
Я кладу руку на ее колено и дурашливо вытягиваю губы, тянусь к ней. Так обычно делают взрослые люди, когда пытаются создать впечатление, что умилены младенцем и жаждут поцеловать розовый носик:
– Тю-тю-тю-ю-ю…
Она смеется, и в уголках ее глаз скапливаются слезники. Она изящным жестом убирает их подушечками мизинцев.
– Баранья Башка, мы наконец будем обедать?
– Прости, – Она поднимается, но у двери задерживается и смотрит на руку: – Как?
Я вспоминаю о руке, и кровь снова трепетными толчками начинает стучать под бинтом и шкурой.
– Нормалеус. Не беспокойся. Давай жрать.
– Константин! – укоризненно произносит она. – К твоей внешности так не идут грубые слова.
– Ах, простите, мамзель. Кушать-с желательно, брюхо-с прилипло к спине.
Лариска возмущенно хлопает дверью.
Эх, елки, как не повезло! Если я не смогу подготовить жилье к зиме, то кто же за меня это сделает? Зачем тогда вообще здесь быть? Хорошая, но странная система в нашем охотуправлении. Живи, охраняй медведей. А от кого охранять? От Ульвелькота? Жирновато на одного охотника двух егерей держать. Было бы больше пользы, если бы мы жили в поселке, где половина жителей имеет ружья и промышляет песца. Но раз база заказника здесь – значит, здесь и жить. Еще неизвестно, даст ли свою упряжку Ульвелькот, чтобы объезжать охотизбушки.
Непонятно все это, по все-таки хорошо, когда есть такие люди, как наш областной начальник. Спасибо, не лез в душу – как и почему. Просто сказал: хотите пожить зиму в бухте Сомнительной? А потом добавил: пользы вы принесете не очень много, потому что процентов семьдесят своего времени будете тратить на то, чтобы обслужить себя. Но важен сам факт, что в Сомнительной появились наши постоянные люди. Спасибо тебе, товарищ начальник, за то, что ты понял меня и предоставил такую возможность! Я не охотовед и Лариска не егерь, но мы будем честно выполнять свой долг – обживать Сомнительную.
Убитый медведь! Вот что пока самое главное для нас с егерем Лариской.
Ты уж, товарищ начальник, прости, что так вышло. Никто об этом не узнает.
Я говорю себе вслух:
– Надо медведя убрать. Убрать надо медведя. Ульвелькот вот-вот объявится.
– Котенок, обедать, – слышу голос Лариски.
Обедать так обедать.
– Ба! – дико ору я, переступая порог Зала Голубых Свечей. – Откуда? – имеется в виду дымящееся блюдо с пельменями. Хотя я, конечно, знаю, что не далее как позавчера Лариса лепила пельмени.
– От верблюда! – что есть силы кричит в ответ Лариска. Она удивительным образом копирует меня и подхватывает любое мое словечко. Вот почему мне всегда приходится быть начеку.
Вид пельменей вызывает у меня воспоминание о том, как мы с Лариской первый раз поссорились. Это было еще в городе. У нее не получилось тесто, но она все-таки решилась спросить, понравились ли мне пельмени, Я, кажется, был не в духе и сказал раздраженно:
– В жизни еще не видал таких лохматых пельменей!
Я даже не заметил, как обиделась Лариска, и забыл о сказанном после первого же проглоченного пельменя. Потом, спустя год, когда я спросил Лариску, из-за чего мы поссорились в первый раз, она, не задумываясь, ответила – из-за пельменей.
Вторая наша ссора произошла, когда я заметил, что сплю на узкой простыне, которая – а сплю я неспокойно – к утру свертывается в жгут. Помнится, я тогда довольно жестковато прочитал ей целую лекцию, сумев на этом факте даже сделать некоторые обобщения. Этот случай она считает второй нашей ссорой. Третья произошла из-за того, что Лариска, оказывается, не слыхала о подвиге бортпроводницы Надежды Курченко. Я раскричался, что, мол, как она могла быть комсомолкой и не знать про подвиг Нади. Я даже поднял подшивки газет, чтобы выяснить, сколько лет было Лариске, если она не слыхала о Курченко. Нашли мы эту газету и… оказалось, что я сам перепутал фамилию героини, назвав ее Кучеренко. Лариска ухватилась за этот спасательный круг и упрямо твердила мне, что да, про Кучеренко она не слыхала, а про Надю Курченко конечно же знала. Это окончательно взбесило меня, и снова начались обобщения. Самое страшное – обобщать. Никогда не надо делать это.
Других ссор между нами не случалось.
Честно говоря, картинная галерея в Зале Голубых Свечей угнетает. Такое ощущение, будто тебя, жующего, рассматривает целая толпа людей. Пс приведи господь сказать об этом Лариске – через полчаса на стенах не останется ни одной картины. А без них все-таки было бы пусто в этом большом Зале Голубых Свечей.
– Однако пора, Мария, за дело, – говорю я Лариске.
– Какое дело? Ты сегодня болен, дела подождут… Хотя бы до завтра.
Я качаю головой.
– Несмотря на все мои отрицательные качества, я всегда был очень дисциплинированным человеком. За семнадцать лет работы, учти, не получил ни одного выговора.
– Это, наверное, скучно. У меня их было по меньшей мере с десяток. – Она замечает, как я кладу вилку и смотрю на нее. У меня такой вид, будто я собираюсь с духом, чтобы сказать очень длинную скучную речь. Я это в общем-то и собирался сделать, но Лариска меня опережает:
– Котенок, не равняй меня с собой. У тебя работа ответственная, потом ты любишь свое дело и не можешь к нему относиться иначе…
– К любому делу надо относиться основательно, – ворчу я. – Нам надо сегодня многое сделать. У меня такое ощущение, что завтра будет снег и пурга. У тебя нет такого ощущения, ты ведь гадалка?
– Не гадалка, а просто моя прабабка была цыганкой, но сны я разгадывать умею. Мне сегодня ночью спилось, будто садила в грядку душицу. А это к хорошей погоде.
– Перемена ветра – всегда на мороз или пургу. Все дни дул южный. Сегодня северный. Так что готовься, Настасья, к зиме.
Она вздыхает и смотрит на мою руку:
– Ну, хорошо, можно руку подвязать на широкой ленте. Но при одном условии, если ты оденешь кухлянку, а больную руку – под нее. Иначе сгоряча забудешь и схватишься за что-нибудь.
– Согласен.
Через некоторое время я превращаюсь в однорукого человека. Поверх кухлянки Лариска застегивает ремень с пистолетом. Сама берет карабин, рюкзак с инструментами. На ней резиновые сапожки, джинсы, солдатская куртка с капюшоном. Стройный юноша, собравшийся на охоту. Я иду за ней и думаю некоторое время о ней, потому и не замечаю ничего вокруг. Но что-то мешает, какое-то внутреннее напряжение тянет меня оглянуться назад. Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Вот оно что – горизонт! Две дальние и совершенно черные сопки вдруг приблизились, как это бывает, когда переводишь видоискатель в кинокамере. Небо заволокло оранжевыми зловещими тучами.
– Как красиво! – Лариска слегка приваливается к моему плечу.
Я еще не умею угадывать погоду, но, наверное, в каждом живом существе находится древний механизм – барометр, который реагирует на происходящие изменения в природе.
Мы спускаемся к ручью. На карте он называется речкой Сомнительной. По это все же ручей, быстрый, извилистый, разлившийся на многочисленные ниточки-рукава. Галечное плато широкое, оно когда-то действительно было ложем стремительной речки. Ручей этот давно не дает мне покоя. Я его слышу, когда просыпаюсь ночью. Ведь звуки, рождаемые им, с незапамятных времен стали первоосновой для сравнения с другими шумами. Приглушенные голоса людей за стеной можно сравнить с шумом ручья, голосок любимой – с журчанием звонкого ручейка. А с чем сравнить сам шум ручья? С всплесками музыки, с голосом любимой? Но это уже обратная связь, одушевленная мыслью человека, А если бы не было музыки, голоса любимой? Тогда с чем сравнить шум ручья?
– Котенок, только на минутку, – прерывает мои размышления Лариса. – Я еще раз хочу взглянуть на подвеску для Клаудии Кардинале.
Я согласно киваю. Мы идем правее, вдоль ручья, к деревянной люльке, издали очень напоминающей деревенский колодец. Вначале, когда мы с Лариской только появились в бухте Сомнительной, я пошутил и на ее вопрос: «Что это?» – ответил: «Колодец, из которого мы будем брать воду». – «А-а», – сказала она и перевела взгляд на наш будущий дом. А я расхохотался. Какой мог быть колодец на вечной мерзлоте, да еще посередине ручья?








