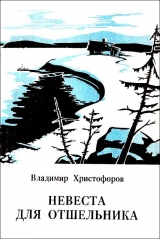
Текст книги "Невеста для отшельника"
Автор книги: Владимир Христофоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
В письме Елена Станиславовна, так ее звали, кратко описала свою жизнь. «Супруг погиб в войну, детей не было, замуж больше не вышла, сейчас на пенсии и хотела бы разделить старость с тихим, порядочным человеком». Почерк и стиль письма выдавали в ней грамотную современную женщину. Да она и не скрывала этого, упомянув вскользь, что имеет среднее техническое образование, что почти всю жизнь проработала мастером на шпагатно-веревочной фабрике.
Луноход с сомнением пожал плечами:
– Из Майкопа – сюда? Хм-хм…
– Чего хмыкаешь? – обиделся Верхососов, – География тут дело второстепенное. Главное, чтоб вот здесь понятие было, – Устиныч постучал пальцем по виску, – Свистофорыч, составь от моего имени послание и обскажи честно и жестоко всю мою жизнь. Чтоб без утайки. Пошли на дорогу три сотни.
С этого дня любая наша беседа сворачивала на предстоящие изменения в судьбе Верхососова. А он с каждым днем все смелел, все увереннее говорил об этих изменениях, как о деле решенном и бесповоротном:
– Поживем сначала тут, приглядимся друг к дружке, Пообвыкнем. Однако задерживаться не будем. Дом там без присмотра. Да и сад требует постоянной заботы. Перво-наперво я куплю в гостиную стоячие часы, с мелодией. Этак рублишек за пятьсот. Ежели плотно и душевно сойдемся, конечно.
– Да зачем они тебе, Устиныч, стоячие часы? Возьми будильник – дешево и сердито.
– Ничего ты, Луноход, не понимаешь в нашей жизни. Стоячие часы я, можно сказать, все свое существование держал в голове. С ними совсем другой коленкор образуется в доме. Уют и радость. Если хочешь жить умно и красиво, думай о всякой мелочи. Вот, скажем, мыло. Это мы здесь пользуем всякую вонючую гадость, а при иной жизни и мыло нужно особое, духовое, простыня из мадипалана, бурки – пензой начищены. Да-а. За малину возьмусь самолично. Ягоды тазьями будем таскать, тазьями. В земле я толк понимаю.
– Японскую комбинацию сразу подаришь или как? – приставал Луноход.
– Торопиться некуда. С неделю понаблюдаю, войду в ее понятие, а потом уже и гостинец преподнесу. Да сначала-то и недосуг будет, стирки у меня – целый угол в коридоре.
Я не выдержал:
– Что ты за человек, Устиныч! К нему за тридевять земель женщина одет, а он ей вместо «здрасьте» – кучу грязного белья.
– Только так. Надо круто, с первого же дня. Однако, Свистофорыч, вернешься в райцентр, но поленись, отбей ей тут же репетицию (то есть петицию, телеграмму), чтоб, значит, поторопилась, а то и реки скоро станут. Тогда жди зимы.
Луноход на корточках возле печки мастерил манок для гусей.
– Три дня будем гулять свадьбу, – сказал он, – В честь такого события выкрашу свою коломбину в желтый цвет, украшу бумажными цветами, чтоб как у людей.
– Драгомерецкого везите. И все. Изба больше не вместит, – сказал Верхососов. – А уж брак узаконим позже.
Луноход дунул в манок, раздался довольно неприличный звук.
– А ну, дай сюда, – Верхососов схватил манок, – За такое изделье руки не грешно пооббивать. Эх ты, горе-мастер! Манок штука довольно затейная, с серьезом. Вот эту дырку эвакуируй повыше, а отверстие здесь разбавь, слегка. Вот и будет тебе манок со Знаком качества.
Устиныч посмотрел в окно и со вздохом произнес.
– Морской опять работает (имеется в виду ветер с моря). В саду-то пора яблоки собирать. Управилась бы там без меня… Землю-то каждый год одобрять надо, за ей уход нужон. Бабе одной несподручно.
Не прошло и месяца, как позвонил Драгомерецкий: невеста прибыла, остановилась у него, ждет вездехода.
Я побежал в колхоз. Дверь мне открыла Елена Станиславовна. Я ее узнал сразу, хотя на фотографии она выглядела значительно моложе… «Точно, бабуся», – мелькнула мысль.
Лицо ее казалось раскаленным, словно после бани, глаза – цвета поблекшей синевы, дрябловатая шея и пучок редких седоватых волос, стянутых на затылке, – так выглядела невеста Верхососова.
– Лена, – протянула она руку, как-то озорно и вместе с тем стеснительно улыбнулась, одернула халат. – Как там мой жених?
– Нормально. Завтра поедем. Осталось оцинкованную ванну купить да тазик. Заказывал.
Елена Станиславовна рассмеялась:
– Сразу и ванну? Ребенка купать будем?
Я пожал плечами, потому что поддерживать шутливый тон мне почему-то не хотелось.
– Может, для стирки, – сказал я.
– Стирать удобнее на машинке. Я уж и забыла, как это делается в корыте.
– Электричества пока нет, но скоро привезем движок, хоть свет будет.
– Волнуюсь я. Какой человек окажется…
– Да он ничего, приноровиться можно. Грибов там, ягод – пропасть! Рыбы полно. Понравится.
– Я гостинцев везу Устину Анфимовичу: варенье из собственного сада, носки теплые, рубашку.
А мне, честно говоря, стало тоскливо. Я почувствовал вдруг ту огромную ответственность, которую взвалил на свои плечи. Мне тогда казалось, что с Верхососовым, если кто и сможет ладить, то только я, а не какая-то там Елена Станиславовна, мастер с Майкопской шпагатно-веревочной фабрики.
Драгомерецкий суетился, приговаривая:
– Не знаю, не знаю, эк! Больно уж характер… того… труден. Да и тундра, эк, тундра… Может, пока у меня поживете, Лена, осмотритесь?
– Нет, коли забралась в такую даль, теперь уж – до конца, – твердо сказала гостья.
Луноход до обеда чинил бензонасос, подтягивал гусеницы. Мы ходили вокруг вездехода, в сотый раз перекладывая ящики и мешки с продуктами. Елена Станиславовна изредка посматривала в зеркальце, поправляла волосы, осторожно стирала мизинцем помаду с уголков губ. Волновалась. Вчерашняя простота в ней исчезла, и теперь она смотрела на расхристанного Лунохода, на грязь и печальное небо отчужденно, если не враждебно.
С горем пополам мы втиснули ее на изорванное сиденье возле водителя. Она села неестественно прямо и, даже когда вездеход рванулся с места, за масляные поручни не ухватилась.
Драгомерецкий мгновенно задремал. Луноход повернулся ко мне и с ходу влетел в озерцо. Шматки грязи ударили в лобовое стекло. Невеста вскрикнула, пришлось уцепиться за поручни. В кабине сделалось темно, Елена Станиславовна, словно ища защиты, посмотрела на меня. Мой безразличный вид ее успокоил, она поерзала на сиденье и затихла.
Возле первой речки перекусили, слегка выпили из свадебных запасов. Елена Станиславовна молчала, только все оглядывалась, пытаясь что-то увидеть.
– Тундра… Такая вся?
– Какая?
– Пустынная, мокрая и… унылая. Здесь даже растений нет.
– Это дожди потому что, осень. А летом красиво и цветов много.
Луноход сказал:
– Конечно, с Майкопом кой-какая разница есть. Север – ведь край сильных. Вы, видать, из таких. Вроде как жены декабристов…
Елена Станиславовна довольно зарделась и вынула из сумки зеркальце:
– Скажете тоже!
Мам нужно было преодолеть три речки. Днище вездехода протекало, и мы с Драгомерецким лихорадочно отчерпывали воду ведрами.
Вторая речка была широкой, и Луноход заставил нас влезть на фанерную крышу вездехода. Невеста стояла на четвереньках, ее заячья шапка сползла на глаза, слегка размазалась губная помада. Я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться.
На берегу Елена Станиславовна соскочила довольно прытко, сдвинула шапочку на затылок, вытерла помаду и лихо откинула дверцу:
– Теперь мне даже черт не страшен.
Луноход это понял по-своему и осторожно предложил:
– Может, на ниточку, Елена Станиславовна?
– Можно. За форсирование реки.
Наши сердца совсем оттаяли, когда невеста заправски, одними зубами, вынула из пачки беломорину.
Третью речку переплывали уже совсем затемно, а перед самой избой, километрах к пяти, неожиданно рухнули в узкую глубокую протоку. По колено в ледяной воде мы с Луноходом пытались завести под гусеницы бревно, но то срывались цепи, то бревно становилось наискось. Елена Станиславовна молча смотрела на нас. В ее глазах был не то испуг, не то восхищение. Луноход потихоньку ругался и в десятый раз пытался накинуть цепь на бревно. Я знал, что он не отступит до тех нор, пока не сделает так, как нужно. Меня всегда поражало его отчаянное упорство в самых, казалось, безвыходных ситуациях.
– Это так всегда? – спросила гостья.
– Обыкновенно, – отозвался Луноход.
– Вам же, ребята, памятник надо ставить.
– И непременно из силикатного кирпича, – добавил Луноход.
– Нет, ребята, я серьезно. У нас бы вы давно героями стали.
Часа два промучались в этой канаве. Последние километры шли на ощупь, ориентируясь по огням верхососовской избы. Устин Анфимович, словно чужой, как-то слащаво всем нам улыбнулся, норовя в темноте разглядеть лицо гостьи:
– Давненько вас жду, давненько. Думал уж на подмогу идти, да чуток далековато. Ну проходите, я завсегда рад дорогим гостям.
С Драгоморецким они расцеловались.
Верхососов в коридоре снял свои ремни – одежду егерь носил, надо сказать, до последней нитки, а тут на нем был форменный егерский китель, брюки-галифе, всякие значки. Однако шапку он не снял даже за столом – стеснялся показать жировик на лбу.
– А я словно чуял, что вы приедете. Весь день на душе будто баян играл, – сказал он, щурясь, и переставил керосиновую лампу так, чтобы видеть лицо Елены Станиславовны. Она принялась распаковывать свои сумки…
– Варенье вот вам, Устин Анфимович, малины нынче – ужас сколько! А это тоже вам, подарок. – Она встряхнула яркую клетчатую рубашку. – Не знаю угадала ли? А тут свежие яблочки, прямо из сада. Откушайте, откушайте. А это мед с сотами. Очень полезен.
Верхососов от волнения постукивал фальшивыми зубами безо всякой надобности выходил в коридор, спохватившись, принимался доставать из своих тайников рыбу, икру.
Сели тесно. Выпили. Елена Станиславовна раскраснелась, но от еды, однако, отказалась, лишь попробовала икорки.
– Дуб высотой своей отличен, а человеку вес приличен, – серьезно сказал Верхососов, – Я вот никак не могу добиться упитанности тела, даром что ем сытно.
– А я всю жизнь борюсь с полнотой, – откликнулась Елена Станиславовна, – женщина должна быть изящной.
– Это городским пигалицам пристало худобу вырабатывать, чтоб в трамваи влезать, – возразил Устиныч, – А женщина деревенская по природе своей должна иметь широкую стать, крепость. На ей ведь весь дом держится.
– Я человек не деревенский. Всю жизнь на фабрике. За день так набегаешься, что и захочешь – не располнеешь.
Верхососов довольно хмыкнул.
– Это правильно. Сиднем сидеть – последнее дело.
Захмелевший Луноход пытался чуть ли не силой влить Устинычу рюмку водки, но тот решительно пресек назойливость Лунохода и внимательно посмотрел на гостью:
– Я хмельное не употребляющий. Это организму жестокая отрава.
– А я для веселья иной раз и пригублю.
– Это дело, можно сказать, ваше, я лично – ни-ни. Не балованный. Курить – курю, но это… – Устиныч брезгливо поморщился.
– А я когда закурю, вроде бы и не так тоскливо сделается.
– Отчего же тосковать? Жизнь не может быть плохой или хорошей, она просто разная. Меня вон как вертело… А ничего, не позволяю душе поблажку. Креплюсь.
– Вы мужчина, Устин Анфимович. А женщине иной раз, знаете, как ласка нужна…
– От слабости это. Ну да женщина – вещество мягкое, чуть дал слабинку… – Верхососов посмотрел на меня и почему-то смешался, – Да нет, что это я говорю. Я говорю, что душевность должна обоюдно содержаться в теплоте, в лелеянности. – Он махнул с досадой рукой. – Да что это я? Какую-то чушь несу, Лучше я вам поиграю.
Он достал свой баян и заиграл мелодию, от которой у всех защипало в горле.
– Душевный человек, – сказала мне на ухо Елена Станиславовна и украдкой смахнула слезу. – Жалость такая у меня вдруг.
Гостье постелили на егерской кровати. Сам хозяин с Драгомерецким расположились на полу, а мы с Луноходом устроились в коридоре на шкурье. Выло жарко, и дверь в избе осталась приоткрытой.
– Я, Лена, человек открытый, – доносился тихий вразумительный голос Верхососова. – Обскажу без утайки всю свою судьбу, а ты откройся мне. Чтоб как на духу!
– Какой вы, однако, Устин Анфимович! Легко ли? Всяко бывало. А вот с годами жизнь стала пуста, как раковина. Не знаю и сама, как это случилось.
– Нужно стремиться, чтобы жизнь была простой, как свет дня. В этом весь смысл. Я вот живу здесь простой красивой жизнью. Солнце – мой календарь, земля – кормилица, небо – мое дыхание, воздух – моя вода…
Я удивился, потому что не предполагал в Устиныче дара поэтического воображения.
– Но ведь и так жить нельзя, Устий Анфимович, – Кровать скрипнула. – Один, словно перст.
– Так теперь нас двое, как я понимаю. Или нет?
– А смогу ли я здесь жить, Устин? Посредине-то болота. С тоски оглохнешь.
– Да это не болото, это дожди.
– Все равно. Случись что – и врача не вызовешь. Люди мы немолодые…
– Командование обещало рацию поставить.
Ответом была тишина.
– Ну да утро вечера мудренее, – сказала через некоторое время, зевая, Елена Станиславовна.
– Конечно, конечно. Отдохните пару деньков, а там и за дела.
– За какие дела?
– По дому все, по дому. Бельишко состирнуть, обед сготовить, летом – ягодья, грибы, рыбка. Зимой пушнину начнем обрабатывать.
Елена Станиславовна опять долго молчала, потом вздохнула:
– Я вижу, вы человек строгих правил, мастеровой. Жизнь вас помыкала, но не сломила. Вот вам мое слово: айдате ко мне в Майкоп. Хоть по-человечески жить будете. Возьмите отпуск поначалу, осмотритесь. Да и я поближе вас узнаю… А мне там тоже мужская рука нужна: то огород вскопать, то гвоздь где забить – да мало ли дел…
Луноход шепнул мне с ухмылкой:
– Слыть, баба она не промах. «Мужская рука»… Нашего Устиныча голыми руками не возьмешь. Интересно, кто кого пересилит?
– Сейчас не могу, Лена. Только на ноги здесь встал, только дело начал. Для собственной самостоятельности необходимо мне еще год-два пожить, собрать деньжат, а уж тогда кумекать о новом направлении в жизни.
– Зачем вам деньги? Пенсия есть – и хватит.
– Есть у меня заветная мечта, Лена, – купить часы стоячие, со звоном. Чтобы каждые полчаса таким прозрачным голоском – тлинь-тлинь-тили, тлинь-тлинь-тили… А? И чтоб маятник позолоченный, с блюдце. А футляр под орех.
– Странный вы человек. Есть у меня часы, хоть и не стоячие, а со звоном…
В том же духе они еще немного поговорили и утихли под хмельной храп Драгомерецкого.
Елена Станиславовна все утро до самого обеда сиротливо просидела на поваленном бревне, что-то вычерчивай прутиком возле ног. Грустно поглядывала на просторы мокрой тундры.
Луноход выклянчивал у Верхососова бутылку рома и пытался выяснить подробности первой брачной ночи. Устиныч ответил зло, с раздражением, но откровенно.
– Я мужик неторопливый. Другой бы, сломя голову, ухватился за подол, да не отпускал бы до самого Майкопа. Шутка ли – сразу и дом, и сад, и баба. Такого случая больше не будет. А я подожду, когда она свои слова в третий раз повторит.
Он закурил и задумался, потом с недовольным видом.
– Вообще-то она сильно в годах. Портрет-то, который присланный, не нынешний…
– Молчи, Устиныч. Сам бы на себя посмотрел, – не выдержал я.
– Так-то оно так, да помоложе – оно затейнее…
Елена Станиславовна вернулась в райцентр к нам, как-то неопределенно пообещав Верхососову, что надо подумать, взвесить все.
Устин Верхососов был ошарашен ее отъездом, замкнулся, мрачно сдвинул брови. Видно, надеялся, чудак, что она сразу и останется у него насовсем.
В райцентре Елена Станиславовна подарила мне и Луноходу по штопору в виде большого ключа, поблагодарила за все. Я спросил ее, когда опять поедем к Верхососову.
– Большое, большое спасибо за хлопоты. Вы настоящие герои! Но к Устину Анфимовичу я не поеду. Он ведь совсем отвык от людей, и я ему скоро стала бы в тягость. Передайте, пусть в отпуск ко мне приезжает. А там будет видно.
Луноход смачно сплюнул:
– Выходит, наклевка вышла, небольшой, так сказать, прокольчик?
– Он ведь ждать будет, – сказал я. – Душа у него ранимая, обнаженная.
Фотография невесты со стола Верхососова исчезла. И серый профиль воина на открытке, казалось, стал еще жестче и суровее. Что-то изменилось в лице Устиныча: то ли складки вокруг рта стали глубже от сбритых усов, то ли в глазах появилась тоска, отрешенность.
Уже давно, с того самого дня, когда он поселился на озере Плачущей Гагары, все словно бы проходило мимо его сознания. Мир ограничился замкнутым пространством тундры, в котором кроме него из людей были я да Луноход. Однажды он заметил, что перестал тосковать по дождю, когда стояла жара, а в пурговые дни не особенно ждал затишья. Не вздрагивало сердце, когда мимо окон ковылял выводок утят…
Он привык ко всему этому, как привыкают горожане к звону трамвая.
Окончательно вывела его из равновесия затеянная было история с женитьбой. Как будто натянутая струна лопнула вдруг в душе Верхососова, но продолжала безысходно, тоскливо звенеть.
Однажды Луноход брякнул за чаем:
– Чего, Устиныч, жалеешь привозного варенья?
– Это какого такого варенья? – У Верхососова даже побелели скулы.
– Которое она привезла.
– Вот туда! – Верхососов ткнул пальцем в печь. – Туда же, куда и ее поганый портрет. Я сразу разглядел, что она за птица, сразу, – Он рубанул ребром ладони по столу и уставился на нас. – Сволота она, вот кто! На экскурсию, видите ли, приехала. Поглядеть на Чукотку, да рассказать потом подружкам своим, как бесплатно туда слетала. «Приезжайте, Устин Анфимович, поживите, сад у меня, яблочки, малина…» Тьфу! Побежал, сейчас. – Верхососов свел свои кустистые брови в одну линию. На всей его фигуре лежала печать обнаженной тоски, злобы и полного одиночества.
Даже мы с Луноходом не посмели, как обычно, свести разговор на очередную хохму. Мы будто осознали глубину этой тоски, и я подумал, что по-прежнему на смену этой зиме придет весна, что в райцентр приедут новые люди с материка, кто-то поженится, а кто-то разойдется. Только ничего не изменится в жизни егеря Верхососова. Из года в год он будет помаленьку стареть и дичать, может быть, скоро так и умрет однажды и закоченеет в своей остывшей избе.
– Там мне письма-то нет? – впервые спросил как-то Верхососов.
– Нету, Устиныч. Да и кто тебе напишет? Разве из дому?
– Из дому не будет. Это ломоть отрезанный. Вот что, Свистофорыч, на тебе тетрадь, на карандаш. Надумал я Елене отписать про свой отпуск отдыхающий. Заеду, напиши, мимоходом…
Я помусолил химический карандаш и грустно поглядел на линованный тетрадный лист.
Верхососов ткнул пальцем в лист бумаги:
– Пиши, что про город Майкоп слыхал много знатного. А мое озеро Плачущей Гагары обмелело, – Тут он схватил меня за руку. – Это зачеркни. А как-нибудь так заверни, что, мол, мало вы у нас отгостили. Лето у нас сейчас, ягоды…
Верхососов взял лист, посмотрел на него, далеко отстраняв от себя:
– Все не так, Свистофорыч. Дай-ка карандаш, – Он достал очки, обстругал карандаш и довольно рьяно застрочил по листу, – Подумаешь, мастер-технолог с завода! Я, брат, тоже не лыком шит. И грамоте моей еще кой-кому учиться да учиться…
Я оторопело смотрел, как красиво и уверенно выстраивались в ряд крупные буквы под рукой моего «неграмотного» егеря. Как знать, может быть, впервые за долгие месяцы одиночества на озере Плачущей Гагары Устин Анфимович вдруг снова почувствовал былую напряженность восприятия окружающего большого мира.
Накануне случилось событие, на первый взгляд малозначащее, даже несколько трагикомическое. Однако на Верхососова оно произвело настолько сильное впечатление, что еще более укрепило в нем мысль о необходимости переустройства своей жизни. А случилось вот что. Проверяя как-то песцовые капканы, Устий Анфимович буквально наткнулся на блестящий продолговатый предмет величиной с коробку из-под домино. Одиночество приучило Верхососова к осторожности. Обойдя дважды странный предмет, он подцепил его лыжной палкой, перевернул, Предмет оказался легким, Он состоял из двух дюралевых пластин, из-под которых выглядывали зубчатые колечки, пружина и стрелка – точь-в-точь вынутый из старинных часов-«ходиков» механизм, егерь посмотрел в предвечернее небо. Предмет мог свалиться лишь оттуда «И тут покоя нет тундре», – проворчал он, по находку взял. Дома сунул оттаять на печь и забыл.
А среди ночи странный шипящий звук, словно удар бича разбудил Верхососова. Он резко сел и машинально схватился за карабин, висевший над кроватью. Холодная от пота ладонь нащупала теплую сталь затвора. В избе стояла плотная привычная тишина. Показалось!
Но вот что-то тренькнуло, зашипело и часто-часто затикало. Но не так, как часы, а чуждо и угрожающе. Устин Анфимович вспомнил о странной находке. Осторожно зажег свечу и опасливо глянул на верхнюю приступку печи – блестящий предмет вроде бы качнулся и пополз. Верхососов, как был в нижнем белье, схватил предмет, толкнул дверь, одним махом проскочил сени и что есть силы закинул его в серое холодное пространство. Однако уснуть не мог, а с рассветом взял лом и, найдя предмет, стал молотить по нему, пока все не смешалось в одно месиво: крошки льда, снег, кусочки блестящего металла. Он отер мокрый лоб и устало поплелся домой, тупо уставившись в одну плывущую точку.
Под большим секретом Верхососов рассказал эту историю мне, и лишь тогда окончательно успокоился, когда я его убедил, что сам нередко находил в тундре подобные штучки от радиометеорологических зондов, запускаемых с научной станции, расположенной в нашем райцентре. Сказав это, не отказал себе в удовольствии пожурить Устиныча: вот, мол, ружейным мастером когда-то был, а в такой фигне не мог разобраться, там же как дважды два – пружина самописца оттаяла и закрутила всю систему.
– Ты мне скажи, Свистофорыч, кто это выдумал про счастье одинокой жизни в природе? – спросил он тогда. Иной раз читаешь или слушаешь радио – диву даешься, сколько выдумано всякой дребедени: встречать рассветы, беседовать с травами, затопить баньку, чай не спеша дуть с блюдца и прислушиваться к шороху за избяной стеной, пропитанной смолой и еще чем-то. А ведь и я так думал. По радио слова услыхал, что тот человек силен, кто испытает одиночество. Пустые все это слова! Дурь для несмышленых, – Верхососов закурил, пустил густой клуб дыма в потолок. – Я тоже через это сюда эвакуировался. Веришь, нет, вот вы уедете от меня, а я еще неделю словно чумной хожу, все настраиваюсь на одиночество. Только привыкну – опять вы, опять злюсь. Лена женщина обыкновенная. Да разве, скажи, согласится она в этом болотище жить? А уехала – словно вынула из меня что-то.
– Не переживай, Устиныч. Черт с ней, с твоей Леной. Найдется другая. Живи себе, не тужи. Скоро лето, дело веселей пойдет.
– Веселей-то веселей, а ты все же доложи своему верхнему командованию, что так, мол, и так, пусть подыскивают другого егеря в заказник. Верхососов сделал свое дело, отстроил дом, а теперь переезжает в райцентр, к людям. Скажи им, что старому человеку в одиночестве жить негоже. – Голос Верхососова на мгновение дрогнул, но он крякнул и взял себя в руки, – Все так и скажи. Я тут скоро не только обыкновенной погремушки бояться буду – самого себя…
А через месяц-полтора мы погрузили скарб Верхососова на вездеход, заткнули щеколду избы прутом. Устиныч постоял в сторонке, смахнул слезу. Луноход заботливо прикрыл окна дощатыми щитами, слазил на крышу засунуть в трубу старую шапку. Верхососов удивился заботливости Лунохода, он еще не знал, что у нас в охотинспекции лежало заявление Лунохода с просьбой принять его на место Верхососова. Начальник подписал его, так как желающих больше не оказалось. Но я подумал с грустью и о другом. О том, что Луноход здесь продержится сезон – но более, что за этот сезон слегка одичает и, не дай бог, еще свихнется маленько. Я сам подолгу жил в одиночестве, и каждый раз душа моя корчилась, наполнялась тоской и отчаянием.
Совсем подавно я попал в больницу. Там вся наша палата с благоговением слушала рассказы рыбака-одиночки с глухого верховья реки Канэн.
– Эх вы, калики-моргалики, – говорил он, – В тундру вас надо. Бывало, встанешь, ружьишко за плечи и – пошел, мускулы как у зверя. Пятнадцать верст туда, пятнадцать обратно. Аппетит зверский, сердце точно часы. А вы тут в вашем паршивом городе только инфаркты наживаете.
Умалчивал он лишь об одном: его самого вывезли санрейсом с явными признаками алкогольного психоза.
Отшельники сейчас крайне редки.
…Верхососов, говорят, по-прежнему живет в райцентре, работает столяром. Еще не женился. Луноход до того загадил некогда сверкающий чистотой егерский домик, что летом предпочитал жить в палатке, а к зиме снова ушел в колхоз вездеходчиком. На озеро Плачущей Гагары опять требуется егерь.








