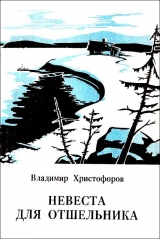
Текст книги "Невеста для отшельника"
Автор книги: Владимир Христофоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Ладно, – протянул я небрежно. – Веревку вот отвяжу.
– Я те отвяжу! А ну – брысь.
Бабушкина веревка плакала. «Буду помалкивать, – решил я, – Стирали недавно, а там авось забудется». Поздним вечером я сказал, что сбегаю к Леньке Кузнецову переписать задание, а сам помчался к институту. Входная дверь оказалась запертой. Обошел вокруг здания, потрогал зачем-то заиндевевшую от стужи стену. Вернулся назад.
Во сне мне привиделся чердак родного дома, где мы с Ленькой устроили штаб подпольной организации «ЮМ»– юные мстители. Объектом наших террористических актов был мрачноватого вида старик, живший в конце улицы. Единственный на всю округу он владел собственным транспортом – ишаком с тележкой. Ставил его дома, на ночь запирались на маленькие замочки, а за высоким забором гремела цепью свирепая псина. Взрослые поговаривали, что во время войны он не то выдал немцам партизана, не то сам служил полицаем.
Этого было вполне достаточно, чтобы время от времени на его воротах появлялась свастика. Но однажды «предатель» устроил на своем чердаке засаду и плеснул оттуда на юных мстителей разбавленной кислотой. К счастью, обошлось – повылазил лишь мех на шапках и воротниках.
Утром я озаренно улыбнулся: «Ну конечно же! Раз есть крыша, значит, должен быть и чердак. Ха-ха!»
Сразу после занятий, лишь бросив дома портфель я побежал к институту. Ничто не помешало мне подняться на третий этаж и еще выше на полэтажа по узкой лестнице. Тесная квадратная площадка была завалена ящиками, сбоку стояли ведра и швабры. На потолке угадывался люк. Я осторожно взобрался на радиаторы – звякнул задетый головой замок. Замок там! Я устало прикрыл глаза. Изогнувшись, нащупал, однако, металлическую дужку. Замок есть замок! Вот отверстие для ключа, вот петля… Что-то насторожило меня. Я сменил затекшую руку, приподнялся на цыпочки и в упор уставился на замок – средоточие всех сиюминутных зол. Г-м, а где же вторая петля? Наш дом тоже запирался на висячий замок. Всегда ведь должно быть две петли: одна на самой двери, вторая – на косяке. Боясь разувериться в своем неожиданном открытии, я торопливо уперся в крышку люка – она скрипнула, подалась. Посыпалась сухая земля. Просунул руку в образовавшуюся щель и наткнулся на скобу. Подтянулся, а потом изо всех сил толкнул крышку вверх. Потолок вздрогнул от глухого удара. Порядок.
На захламленном чердаке стоял густой затхлый запах. В глубине тусклыми полосками лежал неясный свет. Огибая балки, я пробрался к огромному полукруглому окну, потрогал стекло. В оттаявший пятачок просматривались голые ветки деревьев, крыши дальних домов, коричневое здание вокзала. Близкие провода в мохнатом инее походили на корабельные канаты, какие можно увидеть летом в затоне. Переплет окна состоял из четырех расходящихся планок-лучей. Я поискал, за что можно ухватиться, но никаких ручек или задвижек на раме не оказалось. Прислонившись лбом к стеклу, сразу почувствовал острые обжигающие уколы ледяных кристалликов. Не хотелось мне разбивать стекло – боялся шума, боялся быть пойманным и наказанным.
Я снял шапку, приложил ее к нижнему сектору окна и, зажмурившись, резко даванул – стылое стекло звонко лопнуло. Пахнуло морозом и дымом. Я замер, прислушался. Стекло-то может кому-нибудь упасть на голову. Во, дела… Я вытащил торчащие по краям осколки, высунулся.
Край крыши был совсем рядом. Вдоль него тянулся металлический барьер, почти занесенный снегом. Отступать поздно. С трудом протиснулся наружу, неловко повис вниз головой. Ворочая ногами, опустился еще ниже и коснулся варежками твердого наста, потом высвободил одну ногу, вторую – и неожиданно заскользил вниз. Я не успел даже испугаться: просто небо качнулось и поплыло куда-то вбок, завертелись деревья. Прямо перед собой, будто с колеса обозрения, увидел я институтский двор с пристройками. Пристройки казались игрушечными коробочками, Я неосознанно открыл рот, чтобы закричать «мама», но мысль о том, что у меня нет мамы неожиданно отвлекла и родила новую: «Почему же я никогда не слыхал, чтобы звали на помощь папу? Наверное, потому, что смешно. А если крикнуть «караул»? Нет, так кричат, когда кто-то грабит. И тут я нашел нужное слово и даже проговорил шепотом: «Помогите, пожалуйста!»
Я подтянул ноги к животу, одновременно поворачиваясь боком к барьерчику, прислонился к нему, и опять тошнотворный страх сковал мои мышцы, опять противно заныло в самом низу живота. Так я лежал довольно долго, пока страх сам по себе не утих и я не поверил в устойчивость своего тела, достаточную, чтобы не ощущать под собой бездну. Я отвернулся, поднял глаза к чердачному окну. Оно было совсем рядом. Попытался ползком подтянуться к нему, нпо каждый раз сползал вниз. Стали замерзать руки и лицо. «Если не шевелиться, можно уснуть и ничего не почувствовать, – вяло подумал я. – И никто до самого лета не хватится человека, лежащего на краю крыши. А может, и летом никто не хватится».
Тогда я вспомнил про отца. Снова возникла передо мной его усталая фигура – там, на берегу Иртыша, когда утонула Тома. О Ксении Ивановне я все еще не думал, как не думал и о бабушке. Отец – вот кто стоял ночью перед моей кроватью, и я, сжавшись, делал вид, что сплю, – не хотел видеть отцовских слез. Если ползком продвигаться вдоль края крыши, то можно добраться до угла здания, где не было снега, а оттуда снова наверх. Там уже не страшно, останется пройти весь обратный путь, сползти к чердачному окну, и, по словам дяди Коли, дело будет в шляпе. Я втянул голову и, ухватившись за стенку барьерчика, подтянулся вперед. Правая щека омертвела, ломило пальцы. Через каждые два-три метра слизывал с губ солоноватые капельки снега: «А-а, ерунда, совсем мало осталось, – успокаивал я себя. Доберусь, не маленький».
И только сейчас я подумал о Ксении Ивановне. Сегодня вторник, и до воскресенья еще далеко. Расскажу ей про крышу. Нет, пожалуй, не расскажу. Но откуда все-таки взялся кирпич? Может, с трубы свалился? Через некоторое время я с удивлением прошептал любимую поговорку отца: «Ин-те-рес-но девки пляшут»… Почему же мне тепло? Ведь я же мерзнуть должен. Вон и пальцы будто к печке прислонены, только покалывает чуть-чуть.
Да и щеку совсем не чувствую.
Перед самым носом выросла большая воронка водосточной трубы. Из снега торчали веточки с прилипшими к ним перьями. Гнездо! Крыша здесь образовывала угол, и снег не держался. Через равные промежутки виднелись края соединений железных полос. Цепляясь за них, я на четвереньках поднялся вверх. Теперь назад! Но я опять вспомнил о Ксении Ивановне и оглянулся в поисках предмета, который свесился за край крыши. Я увидел его сразу. Добраться до него можно было, лишь снова спустившись к водосточной трубе, а там опять ползком вдоль барьерчика. Я вспомнил весь проделанный путь, снял варежки, приподнял нижнюю рубашку и прилепил ладони к теплому животу. Так я долго сидел на коньке крыши и по сторонам не смотрел, хотя все же отметил, что отсюда виден почти весь левый берег, мост, протока и остров.
Наверное, можно было бы, вглядевшись пристальнее, найти крышу своего дома…
И я вдруг понял, что если не сделаю сейчас то, что задумал, всю последующую жизнь буду презирать себя за трусость и малодушие. И я сделал это, как бы сказали взрослые, скрепя сердце; сделал, как что-то неприятное, но необходимое. Непонятным предметом оказался полузанесенный снегом рваный резиновый сапог. Не думая о последствиях, я со злостью метнул его на проезжую часть улицы и попятился назад, часто дыша и громко нашептывая: «Так-так! Так-так!»
На чердаке упал лицом на кучу тряпичной рухляди и долго лежал, не двигаясь, лишь вздрагивая от внезапной волны озноба. Мне было страшно, и я не чувствовал радости от сделанного.
Все воскресенье я маялся: слонялся по комнатам, дул на оконные узоры, трогал вздувшиеся пальцы и щеку, пробовал читать.
А когда бабка пошла закрывать ставни, я даже не зажег лампу, сел в темноте на кровать и только тогда понял, что сегодня Ксения Ивановна не придет.
Не приехала она и в следующее воскресенье. Отец встал на удивление рано:
– Пойдем, Димча, на лыжах пробежимся. Грех в такую благодать сидеть дома, – бодро сказал он и громко запел: – И тот, кто с песней по жизни шагает, тот не боится ничего и никогда…
Отец всегда путал слова, придумывал свои. Однако мне от этого не стало, как раньше бывало, весело; я не подтянул отцу, почувствовав в его поведении неестественную веселость, а в глазах не то беспокойство, не то озабоченность. «Ему совсем не хочется петь и идти на лыжах. Это все ради меня».
– Что-то не хочется. Лучше в Дом пионеров схожу, – пробурчал я и недружелюбно посмотрел на отца.
Отец ничего не сказал.
После завтрака я не пошел в Дом пионеров, а сел на своем стульчике возле окна и просидел так до самой темноты. В доме было непривычно тихо и тоскливо. Я впервые тогда сделал для себя открытие; вот, оказывается, как плохо может быть! Подходила бабушка, клала мне на голову теплую руку, то подсовывая творожные шанежки, то предлагая сыграть в «дурачка»… От этой ласки у меня щипало в носу, и, чтобы не разнюниться, я дергал плечами и мотал головой. Отец начинал на кухне, как бы для бабушки, читать книжку про Ковпака, но голос его постепенно стихал, он останавливался на полуслове, сморкался и присаживался к поддувалу печи покурить.
В моем дневнике появились двойки. Учительница вызвала отца в школу. Вернувшись, он тихо и долго толковал мне о пользе знаний, подробно рисовал картину недалекого будущего, когда я стану врачом или инженером и все люди будут уважительно говорить: «А что тут особенного? Они с отцом оба башковитые…»
– Завтра поеду на левый берег, – неожиданно оборвал я отца.
Он умолк. Но, видимо, уловив в моем голосе какие-то новые нотки, ничего не сказал. Вздохнула, но ничего не сказала и бабушка.
Ехать надо было шестичасовым поездом. Я промучился всю ночь, боясь проспать, а в пять растолкал бабку:
– Баушка, достань мне хорошую одежу.
Причитая и кряхтя, бабушка поднялась, долго рылась в сундуке. Наконец вручила мне пропахший нафталином коричневый костюмчик, белую рубашку и шелковый бант в горошину.
– Бант не надо, не маленький, – серьезно проговорил я, – Денег дай. – Помолчал и вдруг ласково, совсем по-взрослому прошептал: «Горе ты мое луковое, что бы я без тебя и делал?» Бабушка немедленно откликнулась всхлипом и полезла в кошель:
– Пресвятая богородица, сохрани ты только мне внученька. Уж он такой… такой…
Я быстро оделся и прытко побежал по еще припорошенным снегом темным улицам города. В зале ожидания пахло хлоркой и гарью от круглых печей. Курили в проходе мужики, кто-то надсадно кашлял, ревел ребенок. Возле зарешеченного окошка кассы стоя дремала очередь. И в вагоне был этот же запах – послевоенной людской неустроенности.
Я не знал, где сходить, но спросить не решался, словно боясь, что, если спрошу про геологоразведочный техникум, все тотчас же догадаются, зачем и к кому я еду.
На конечной остановке морозно дуло, посвистывали паровозы, позвякивали длинными молотками обходчики. Станции здесь как таковой не было – просто тупик. Поглубже вобрав голову в плечи, я зашагал в сторону высоких огней мясоконсервного комбината, долго петлял среди низких домиков с плоскими крышами, пока не вышел на широкую улицу с многоэтажными зданиями. Здесь мне объяснили, как пройти к техникуму, и вскоре я стоял перед массивным особняком. Я знал, что Ксения Ивановна живет при техникуме, но войти сразу отчего-то побоялся.
Было еще очень рано. Поеживаясь, побрел вдоль металлической ограды, увидел людей, сидящих на корточках возле большой вентиляционной решетки на асфальте. Оттуда шел поток горячего и сытного запаха близких корпусов мясокомбината. Здесь же вертелись собаки, завороженные этим запахом. Подошел автобус и забрал людей, Я вернулся к техникуму и решительно толкнул тяжелую дверь. Как и полагалось, в глубине фойе сидела за столиком женщина-вахтер. Она сонными глазами немигающе уставилась на меня, а узнав, кто нужен, оживилась и все объяснила:
– На втором этаже, сынок, вторая дверь слева. Жди там. У них сейчас консультация.
Я нашел дверь, попробовал ее приоткрыть, но она так ужасно заскрипела, что я в страхе отпрянул, еще некоторое время побродил по коридору, а потом устроился на широком подоконнике. Теплые радиаторы приятно согревали ноги. Я прислонился к стенке и с облегчением прерывисто вздохнул, словно после долгого и опасного пути. Внутри что-то словно отпустило.
Проснулся от легкого прикосновения к плечу. И сразу увидел ее ласковые глаза и удивленную улыбку.
– Ты пришел? – Ее рука легла мне на голову.
– Приехал. Собрался вот и приехал…
Тесным кружком стояли девушки с тетрадками. Лица у них были приветливые, и мне от этого стало опять хорошо.
– Ты просто молодец, Димча! – сказала Ксения Ивановна, назвав меня так, как называл отец. Глаза ее на мгновение затуманились, как тогда в санатории, когда она пришла ко мне в палату. – Пойдем скорее ко мне, будем пить чай, а после обеда побродим в нашем парке, – она обняла меня за плечи, притянула к себе.
В тесной комнатке, разделенной ширмой, сидела в кресле древняя старуха с темными кругами под глазами и трясущимся подбородком.
– Мама, вот Дима, о котором я тебе рассказывала. Он к нам в гости, – сказала Ксения Ивановна.
Я слегка поклонился.
Старуха пошевелила губами и что-то невнятно пробормотала.
– Она плохо по-русски говорит, но ты ей понравился, и она рада тебе. Раздевайся, мой руки – и за стол.
Мне положили на тарелочку пирожное, а варенье оказалось даже вкуснее бабушкиного.
Поговорили о школе.
– Одни двойки, – доверительно признался я. – Не знаю, что и делать.
– Зато я знаю, что делать. Будешь у меня весь день заниматься, – с ласковой строгостью произнесла Ксения Ивановна. – Ты меня огорчаешь…
– Я вас не буду огорчать, честное слово! В следующий раз захвачу дневник.
Ксения Ивановна переоделась за ширмой в старенький халатик. От того, что он был старым и поблекшим, она выглядела совсем по-домашнему. Нежностью и любовью наполнилось мое сердце: как было бы хорошо, если бы она приезжала к нам в этом халате с поблекшими разлапистыми цветами.
– Дневник, пожалуй, брать не надо, – произнесла Ксения Ивановна. – Я тебе верю и так.
– А-а, ну да! Вы же сами его увидите, когда снова придете к нам. Ведь так? Так?
– А ты очень хочешь, чтобы я приезжала к вам?
Я торопливо кивнул головой.
– Наверное, этого мало… – уклончиво ответила она.
– Да вы не обращайте внимания на разговоры. Бабушка добрая. Она только так… И папа тоже добрый.
– Ну и ладно. Не думай об этом. Все будет хорошо. Пойдем, я покажу тебе наш спортзал. Поиграешь, а я закончу свои дела. Если хочешь – вот книги на этажерке, журналы. Хорошо?
– Еще как! – я весь сиял, не веря, что могут быть такие счастливые дни.
После обеда мы пошли в парк, который одним краем подступал к высокому берегу Иртыша, Долго стояли возле штакетника, рассматривали город на той стороне.
– Ксения Ивановна, вон метизно-фурнитурный завод, Видите? Левее – моя школа и горка, с которой можно скатиться прямо на лед реки…
Позади утробно гудели громады мясоконсервного комбината.
– Скоро весна, – грустно проговорила Ксения Ивановна. – Папа твой, наверное, в отпуск собирается?
– Да, куда-то на Черное море, – ответил я. – Меня вроде на лето хотят отправить к тете Лиде в Ригу.
– Это хорошо. Я в Прибалтике ни разу не была… Папа летом поедет?
– Папа? Нет, кажется, весной.
– С бабушкой останешься до каникул?
– С ней. – Я вдруг насторожился, уловив какую-то напряженность в голосе Ксении Ивановны и поспешно добавил. – А мне что-то не хочется в Ригу…
На самом деле мне очень хотелось поохать к тете Лиде увидеть Ригу – теперь уже с высоты своего возраста, – там я жил год, но тогда мне было всего восемь.
– А вы куда-нибудь поедете?
– Нет, мне еще нельзя… А Мария Васильевна у вас бывает?
– Мария Васильевна? – переспросил я, чтобы оттянуть время. – Мария Васильевна – нет, давно не была.
– Она, наверное, хорошая женщина. Тебе нравится?
– Фу-у! Что в ней такого? – Я вспомнил позавчерашний день, когда мы с отцом приходили к ней на примерку: Мария Васильевна шила мне куртку с замками-молниями. Разве можно ее сравнить с Ксенией Ивановной?
Вечером я стоял и тамбуре вагона до тех пор, пока не тронулся поезд. И даже когда захлопнулась тяжелая дверь, я еще некоторое время видел ее, стоящую в темпом платке. Одинокая фигура женщины на морозном перроне маленькой станции. Мне стало тоскливо и одиноко. Я еще не знал, что это ощущение – только начало и что в жизни еще много раз будет нарастать и всегда горько удивлять хрупкость, казалось бы, даже очень прочных связей, сомнительность поступков и беспечная легкость произнесенных слов.
Все последующие дни я находился как бы вне времени. И даже потом, прожив почти вдвое больше лет, чем тогда, я не мог до конца понять своего тогдашнего состояния. И если в зрелом возрасте это вполне осознанная тоска по любимому человеку, то у меня было все гораздо сложнее и драматичнее, чем просто тоска. Молчаливым унижением вымаливал я каждое разрешение снова приехать в гости к Ксении Ивановне. Нет, не у отца своего, который чувствовал, что много владеют силы гораздо большие, чем те, которым он мог противостоять. Вымаливать эти поездки приходилось у самой Ксении Ивановны. Она пугалась чувства, вспыхнувшего в моем сердце, понимала, что не имела никакого права поддерживать его во мне: я принадлежал своей семье – отцу и бабушке. Но душа Ксении Ивановны невольно сжималась от тоски, ощущая потребность отзываться взаимной любовью. Это была естественная потребность всех женщин – жалеть и оберегать.
Ксения Ивановна однажды позвонила моему отцу. Она не знала, что думает он о еженедельных поездках сына к ней. Возможно, она боялась, что отец расценивает мою привязанность, как результат ее влияния, желание любой ценой войти в их семью. Но отец так не думал.
– О, вы совсем нас забыли, Ксения Ивановна…
– Да все как-то некогда. Экзамены… Дима не поздно вчера вернулся?
– Как всегда. «Трудовой» от вас уходит в девять. Мы так и ждем его, около десяти.
– В школе у него все в порядке?
– Вы знаете, отметки стали лучше. Значительно. Спасибо вам! Это ваше влияние.
– Ну что вы! Мальчик он способный. Надо только поддерживать в нем интерес к учению.
– Да-а, это верно…
– Вы не против, что он ко мне приезжает? Я все время его об этом спрашиваю. А вот вашего мнения до сих пор не знаю.
– Да как вам сказать, Ксения Ивановна… Я не против. Но что-то происходит с ним. Наверное, трудный возраст.
– Вы берегите его, у него открытое сердце.
– Спасибо. А вы к нам когда?
– Трудно сказать…
– Ну, будете на нашей стороне – заходите…
– Спасибо.
– До свиданья.
Воскресенье мы провели, как обычно: позанимались немецким, сходили в кино, побродили по берегу. Вечером, когда уже пора было уходить на станцию, я попросил:
– Можно, я останусь ночевать? – и, боясь отказа, торопливо и умоляюще добавил, что уеду самым ранним семичасовым. – Можно, а? Ну один разок. Я вам по-немецки книгу почитаю…
Ксения Ивановна растерялась, волна нежности была настолько внезапной и сильной, что она в порыве прижала меня к себе. Я еле сдержался, чтобы не зареветь, прильнул к ее халату мокрыми глазами и затаил от счастья дыхание.
– Этого нельзя, Димочка. Дома будут беспокоиться.
– Я позвоню.
– У вас нет телефона.
– Я позвоню Леньке Кузнецову. Он сбегает предупредить.
– Этого нельзя, – обидится отец.
– Отец не обидится. Он позволяет все. У нас с ним такой уговор.
– Этого нельзя, Дима, пойми.
– А я останусь. Позвоню сейчас и останусь, – твердо сказал я и с решительным видом вышел из комнаты, предоставив Ксении Ивановне одной пережить последствия возникшего вдруг во мне упрямства.
Мне постелили на кушетке. Ксения Ивановна легла на стол, подставив к нему тумбочку.
Перед рассветом я открыл глаза и чуть не закричал от ужаса: посередине комнаты, на столе – оттого, наверное, неестественно высоко, – неподвижно лежала на спине Ксения Ивановна. Лицо ее, освещенное голубоватым зимним светом, казалось неживым, а длинные волосы были словно кем-то аккуратно уложены веером на подушке. Но это было мгновение. Я успокоился и долго смотрел на Ксению Ивановну. А пока я разглядывал ее, внутри снова заныло. Я приподнялся и замер, пытаясь услышать ее дыхание. Удары собственного сердца барабанным боем отдавались в ушах, Я опустил голову на подушку, но потом встал и на цыпочках подошел к ней. Веки Ксении Ивановны дрогнули.
– Что ты? – ласковым шепотом спросила она. – Спи, еще рано.
– Что-то страшновато мне, – тихо признался я и, не спрашивая разрешения, лег на самом краю стола.
Так лежали мы, не шелохнувшись, остаток ночи.
Ксении Ивановна проводила меня до станции. Когда поезд тронулся, она нагнулась, прижалась мокрой щекой к моему лбу и сказала властно, почти жестоко:
– Я прошу тебя, Дима, не приезжай больше ко мне. Не надо. Прощай!
Так она со мной никогда не говорила.
Я медленно, словно старик, поднялся в тамбур, прошел, не оглянувшись, по вагону, отыскал свободное место, сел, не видя ничего вокруг, оцепенел. Поезд дернулся, мимо поплыли пятна фонарей. И тогда я заплакал. Судорожные всхлипывания потрясали мое тело, а поезд, набрав скорость, уже с грохотом влетал в решетчатый туннель железнодорожного моста. Кто-то пытался успокоить меня, я зло отбросил чьи-то руки, стянул шапку и уткнулся в нее лицом, громко рыдая.
Резкий толчок вагона свалил меня на пол. Я растянулся на животе, размазывая по лицу угольную грязь. Вдруг сильные руки подняли меня, усадили и прижали лицо к промасленной телогрейке. Эти руки не гладили и не успокаивали, а лишь крепко держали мою голову. От этих рук и телогрейки резко пахло машинным маслом и металлом. Я услышал над собой суровый голос их обладателя:
– Чего уставились? Горе у человека.
И я успокоился. Мужественно сдерживал судорожную дрожь.
А поезд уносил меня все дальше и дальше, к новым волнениям и страхам, новым радостям и печалям.
Спустя много лет я приехал в родной город к тяжелобольному отцу. Он умер. На похоронах я увидел ее. Она шла спокойно, отрешенно глядя куда-то поверх голов. Она, казалось, совсем не изменилась. Лишь прибавилось седины. Я не подошел к ней. Мне стало отчего-то неловко за ту свою детскую привязанность к в то же время очень больно.








