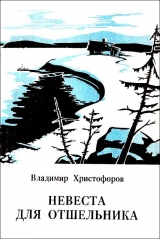
Текст книги "Невеста для отшельника"
Автор книги: Владимир Христофоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Владимир Христофоров
Невеста для отшельника
Повесть и рассказы
Невеста для отшельника

Однажды он выдвинул из-под кровати фанерный чемодан, поковырял ключиком в висячем замке, приподнял крышку. Ровно настолько приподнял, чтобы просунуть руку, и извлек плоский пакетик из тончайшего, вроде капрона, материала. Сосредоточенно посапывая, Устин Верхососов опрокинул пакетик на ладонь, осторожно ущипнул его двумя пальцами и потянул вверх.
Пахнуло нафталином, перед самым моим носом взволнованно колыхнулась прозрачная серебристая ткань. Этот неожиданный шелковистый поток в заскорузлых руках Верхососова слегка ошарашил меня: в нем чешуйчато переливались малиновые отсветы из щели чугунной печной дверки, и вся изба наполнилась слабым дополнительным свечением.
– Что это? – вскрикнул я и откинулся, при этом больно ударившись затылком о край стола. Впрочем, я успел разглядеть в очертаниях ткани женскую комбинацию без бретелек. Некоторый опыт подсказывал, что она должна с помощью какой-то резинки-невидимки держаться поверх груди. Стоит такую штуку слегка потянуть вниз – и готово…
– А вот смотри-любуйся! – Довольный произведенным эффектом, Устин Верхососов смешно склонил голову набок, а губы сложил гузкой. – Японское изделье, миникюрное.
За годы одинокой жизни Устин Анфимович кое-какие слова подзабыл, путал, а иные значения их изобретал сам. «Миникюрный» у него означало «красивый».
– Миникюрное, – повторил он. У него была привычка повторять слова дважды, как бы обрамляя ими свою мысль. – Две штуки, помню, привезли на поселок, две. Одну сразу взял управляющий, вторую выпросил самолично. Завсяко просто и не дала б. С чирьями пришлось подкатываться, с чирьями (имелась в виду рыба чир).
– Да для чего оно тебе это, Устиныч? (Так я его называл. Он меня – Свистофорыч).
Устиныч задумчиво пожевал губами, не спеша сунул «аврорину» в короткий самодельный мундштук, высоко поднял брови, отчего лоб сразу сжался в частую гармошку – верный признак душевного предрасположения к «Жизненно-кровопролитным беседам» – так он называл наши вечерние разговоры.
– А вот и взял! – Устиныч дурашливо изогнулся, развернул руки, словно собираясь пуститься в пляс. За этой дурашливостью он, старый хитрец, скрывал истинную причину столь легкомысленной покупки. Как бы хотел сказать: а что, я еще того, отчего бы и мне не заготовить какой-нибудь бабенке заграничный гостинец. Он поднял глаза к потолку, намереваясь, однако, не заострять на этом моменте мое внимание. – Подожди, подожди, подожди… Когда же это, дай бог вспомнить, было? Ага, Макар еще в прорубь по этому делу свалился. – Устин профессионально чиркнул пальцами возле горла, словно гитарист мимолетно ударил по струнам. – Да, точно, Макар – в прорубь. Пять лет, значит, прошло, пять.
– Ладно, Устиныч, не пудри мне мозги. – Слишком хорошо я его знал и уже догадался, что этот пеньюар или комбинация имеет прямое отношение к неудавшемуся сватовству Верхососова, о котором вспоминают и поныне. – Вообще, Устиныч, ты правильно сделал, что не женился на ней, – сказал я, чтобы сильно не огорчать его своей осведомленностью.
Устиныч и глазом не моргнул (на Севере друг о друге знают больше, чем о себе), лишь вздохнул, поплевал на кончик сигареты. В его глуховатом голосе неожиданно зазвучали высокие ноты:
– А все от того, милый, что женщинам сейчас поблажка жестокая дадена. – Он просверлил меня насквозь испепеляющим взглядом.
Я не удивился бы, если бы сзади, на плакате об охране природы, задымились две точки.
– Вы их, своих жен, – он протянул вперед руки вверх ладонями и повел ими из стороны в сторону, – вы их – во! На вытянутых руках носите. Твой вон Петюнчик дошел – тряпки жене стирает…
– Так на стиральной же машине! Вроде как механик, – успел я втиснуться в плотный частокол слов обличительного монолога Верхососова.
– Мил чело-ве-е-ек! Дело-то оно разве в этом? Механиком не механиком… Тряпки стирать! Тьфу… А надо как у японцев. – Для убедительности он помахал рукой за своей спиной.
– Как это? – не понял я его жеста. – При чем тут японцы?
– А при том, что у них баба только за шесть метров сзади своего мужа смеет идтить.
– Далековато, Устиныч, хотя бы метра за три, чтоб поговорить…
Устиныч с нескрываемой жалостью посмотрел на меня, безнадежно махнул рукой и отвернулся: – Свистофорыч ты и есть Свистофорыч. У тебя внутри еще не начало вырабатываться понятие жизненное. Дурачок еще.
В отношении дурачка я не обиделся. По возрасту Верхососов годился мне в отцы, да и несправедливо было бы сносить безнаказанно мои постоянные подначки. Он это чувствовал и был даже доволен, имея всегда повод разразиться обличительными речами.
Чтобы объяснить, почему Верхососов не очень высокого мнения о прекрасной половине человечества, придется рассказать историю его неудавшейся женитьбы.
Женат он был, как и положено, с молодости, имел троих детей. На Курилах с женой скопили деньжат и возвратились в родную Астрахань. Купили там дом, обставили мебелью – все чин чином. Но черт дернул его вернуться без семьи еще «на годик», чтобы, значит, частично компенсировать урон, который был нанесен сберкнижке покупкой дома. О том, что случилось за время его отъезда, Устиныч рассказывал мне, наверное, раз двадцать, «С порога чую – не тот дух дома, чужой. На этот счет меня не проведешь. Поздоровкались. Однако виду не подаю, а сам все взглядом ее шпигую-шпигую. Ну а потом сосед мне все и обсказал. Так нехорошо, веришь, стало. Что ж ты наделала, сволочь?! Я там последние жилы рвал, копейку берег, в рот спиртного не брал, а ты тут… хвостом крутила. Короче, плюнул, оставил все, в чем был, в том и уехал».
Однажды я не выдержал: мол, сам и виноват, что так вышло, разве можно оставлять женщину одну на целый год? Он впервые осекся, поджал сердито губы, хотел возразить, но промолчал, А опомнившись, заорал, что в войну солдаты не год отсутствовали, так что, выходит, все их жены хвостами крутили? «Что ж это получается? – злился он. – Выходит, ничем супротив естества противостоять не можно? Неужто над душой верх берет сатана?»
– Не знаю, берет или не берет, – сказал я. – А теперь пожизненно плати алименты.
– Одна отпала, – поправил Устин Анфимович. – В прошлом месяце вышла в совершеннолетие. Двое еще остались. Я и работу через это не ищу оплачиваемую, хотя, сам знаешь, мужик я приимчивый (то есть предприимчивый). На самой низшей зарплате сижу, чтоб ей, суке, меньше досталось. Я человек не прощающий.
Все эти годы, до того как стать егерем Тундрового заказника, Верхососов жил в крошечном рыбацком поселке в верховьях Лососевой реки. От зимней скуки колхозные строители, долбившие ледник, подговорили местную пекаршу – добрую и бестолковую бабу – «обратить внимание» на Устина, знали – нравится она ему. По рассказам, в ту зиму недоверчивый и вечно подозрительный Устин Анфимович перетаскал в дом пекарши, где жили строители, ящика два водки. Надеялся, подарок даже заготовил. Весной пекарша неожиданно вышла замуж за одного из постояльцев, парня лет на десять моложе ее. Верхососов тотчас покинул поселок и устроился егерем на дальнем глухом озере Плачущей Гагары.
У него я бываю часто. Моя работа – завозить продукты, принимать отловленную пушнину. Это зимой. Летом – охранять заказник от браконьеров. Ведаю я и финансовыми делами Устиныча: но доверенности получаю зарплату, трачу на продукты и одежду, оставшиеся деньги кладу на сберкнижку (верхососовскую, конечно). Как могу, лечу его от всяких недугов, пишу письма многим знакомым – он якобы совершенно неграмотный. И вообще Устиныч у меня как большой ребенок. Поэтому я иногда отчитываю его, «учу жить». Он же в свою очередь считает прямой обязанностью постоянно костерить меня на чем свет стоит. Характер – труднейший! Чуть дал слабинку, непременно сядет на шею.
– А что, Устиныч, женись! – брякнул я бездумно.
Он пошуровал кочергой в печи.
– Хозяйка нужна, тут и говорить нечего, – пробурчал Верхососов и потрогал на лбу большой жировик (не могу заставить его обратиться к хирургу. Кто-то ему сказал, что, если удалить жировик, голова будет болеть). – Для каждой двери нужны петелья, для каждой. Хозяйка мне необходима, хозяйка. Я ведь непривычен к женской работе, даром что девятый год живу в одиночку. Готовлю еду без всякого настроения, а стирки скопилось – за целый год. Н-да…
– А вот шишку надо вырезать, не к лицу она тебе, – наставительно вырвалось у меня.
– При чем тут шишка? При чем? Пускай растет, эвакуировать всегда успею. Ты о жизни начал, так доканчивай. Где, я спрашиваю, ее взять-то, хозяйку? Где?
Он еще долго в раздумье глядел на меня, потом сказал. – Дай-ка я лучше тебе поиграю. – Прислушался. – Надо же, опять со всех штанов дует (имеется в виду «сторон») – Нынче, как назло, пурга на пурге пургой погоняет. Света белого не видать.
Стены избы содрогались от частых ветровых ударов, словно авиационный мотор, за стеной гудела металлическая мачта.
Устиныч вынул из футляра потертую гармошку. Установил на коленях и, даже не попиликав для пробы, начал медленно уходить от меня в свой далекий и сложный туманный мир. Гармошка для Верхососова была как церковь для глубоко верующего христианина. Он прислонил ухо к матерчатым мехам, прислушался к утробным вздохам, выпрямился. И враз сжатое пространство избы густо зазвенело, заметалось многоголосьем тоскливо и тревожно.
Третьи сутки дул жестокий «южак». Темная точка верхососовской избы совсем пропала в этом гигантском снежном вихре, мчавшемся вдоль побережья Ледовитого океана. Миражем, подслеповатым звериным глазом, но только не огнем керосиновой лампы могло показаться слабое мутновато-желтое пятно в полузанесенном окошке. И если бы понадобилось кому-то вдруг срочно добраться до Верхососова, это невозможно было бы сделать даже с помощью самых новейших транспортных средств, включая космические. Пока дул «южак», ни одна живая душа не смела выйти из дому, ни один существующий на земле механизм не смог бы преодолеть эти ревущие километры.
Устиныч немигаюче глядел на огненный лепесток керосиновой лампы и, слегка привирая, извлекал из старого инструмента старую, как мир, мелодию вальса «На сопках Маньчжурии». Он не мог определить то чувство, которое опять растравило сегодня душу. Это была и тоска по неосуществленному, и досада на прошлое, и злость от бессилия что-либо переустроить. Вся его жизнь казалась ему всегда хорошо смазанным подшипником, пока однажды невесть откуда не попала в этот нежный механизм песчинка. И все полетело к черту.
В расстегнутом щеголеватом кителе я любовно протирал бархоткой свой сверкающий ТТ – единственное занятие, от которого никогда не уставал. Но далекой ассоциации с японским пеньюаром мне привиделся ялтинский пляж, высокая незнакомка с удивительным разрезом глаз и прилипшими к изгибу голой спины ореховыми волосами.
Через сутки пурга внезапно прекратилась. Стало тихо.
– Луноход шпарит, – крикнул Устиныч со своего наблюдательного пункта-навеса. – Шпарит, аж уши заворачиваются… Прячь, Свистофорыч, все лишнее.
Я обрадовался: теперь уж точно попаду сегодня домой к своей. Людмиле. Кроме того, Верхососов за эти дни изрядно мне поднадоел своими «жизненно-кровопролитными» беседами. Как, впрочем, и я ему.
– Не сглазь. С этим Луноходом можешь вообще дома не увидеть, – сказал Устиныч.
Если вдруг наш отъезд задержится, это даст ему возможность лишний раз подчеркнуть свою правоту. Хитрюган!
И избе Устиныч задернул и плотно подоткнул со всех сторон брезентовой занавеской вешалку, убрал из-под рук всякие мелкие предметы: фонарь, бинокль, компас. «Спидолу» выключил и поставил под стол, гармошку – в футляр.
Луноходом звали колхозного вездеходчика Вову Аввакумова. То ли из-за косолапой, какой-то особенной походки – носками внутрь, то ли из-за его шлепающего гусеничного вездехода. Вова-Луноход обслуживал оленеводческие бригады, расположенный западнее озера Плачущей Гагары. Иногда он брал меня и высаживал у егеря. Ездить с Аввакумовым было рискованно. Почти ни одна его поездка не обходилась без ЧП. Просто удивительно, как эти ЧП оканчивались в конце концов благополучно.
Ничто и никогда не могло выбить Лунохода из седла. В Аввакумове сочетались странные свойства: оптимизм, когда нет для него достаточных оснований; упрямство, которое отнюдь не является синонимом твердости; еще неприхотливость в еде, одежде, выносливость, готовность запоем работать и запоем ничего не делать, умение выворачивать веки и подушечками пальцев гасить сигарету. Короче, все то, что французы, пожимая удивленно плечами, вкладывают в понятие «ам сляв» – славянская душа.
Я принадлежу к послевоенному поколению, но когда думаю о войне, то мне почему-то видится именно Аввакумов, видится в растоптанных «кирзачах», в лихо надвинутой на затылок пилотке, вооруженный до зубов трофейным оружием, с чумазым, расплывшимся в улыбке лицом. Может, вот такие, ничем не пробиваемые работяги-пехотинцы вынесли на своих плечах все главные тяготы войны.
Вова-Луноход за время работы колхозным вездеходчиком успел схватиться с медведем, замерзать в пургу, тонуть в реке и гореть в огне. В дороге Аввакумов «ломался» бессчетное число раз. Однажды при мне полетел в пути шатун цилиндра. Луноход выкинул его и заколотил «дырку» консервной банкой. Доехали. В другой раз из-за отсутствия воды радиатор пришлось залить пивом, которое мы везли Верхососову на Новый год. А за неимением автола, помнится, в картер бухнули растопленное сливочное масло. Перед тем как собраться к Устинычу, я встретил неподалеку от райцентра Лунохода. Он выписывал по снегу странные большие круги. На мои расспросы Луноход невозмутимо ответил, что обломился рычаг поворота правой гусеницы и теперь придется передвигаться кругами. Он довольно точно рассчитал траекторию стыковки вездехода с поселком и к ночи благополучно ткнулся в угол гаража, вдребезги разбив при этом единственную целую фару.
Характеру Лунохода была присуща черта, из-за которой Верхососов ни на минуту не спускал с него глаз. Дело в том, что для Лунохода не существовало понятие «твое – мое». По забывчивости он мог напялить чужую шапку (если к тому же она была лучше собственной), обуться в разные сапоги, прихватить чей-то бинокль, между делом разобрать оказавшуюся под рукой «Спидолу», пальнуть в форточку из ракетницы.
Верхососов всегда ожидал от него подвоха, какой-нибудь каверзы. Так, однажды на плакате об охране природы, заменявшем егерю коврик, в слове «друг» Луноход исправил две буквы. Получилось: «Турист – враг природы». В другой раз, чтобы выманить «подкожную» бутылку вина, он вручил егерю почетную грамоту – якобы от руководства колхоза, как лучшему охотнику-промысловику. На грамоте стояла почему-то нефтебазовская печать.
Пока я все это вспоминал, вездеход, заложив крутой вираж, на полной скорости летел прямо на избу.
– На лобовую, видать, пошел, – сказал я как можно спокойнее.
Верхососов бросился наперерез транспорту, выставил костлявый кулак. Его голос потонул в гусеничном лязге. И хорошо, что потонул. Вездеход еще раз лихо крутанулся, обдал нас с ног до головы снежной пылью, замер. Хлопнула и напрочь отвалилась дверка кабины.
– Мое вам с кисточкой! – Луноход приподнял замусоленный козырек маленькой кепки-восьмиклинки. В вездеходе он всегда надевал кепку. – Как вы тут?
Верхососов вначале не удостоил Лунохода ответом, лишь огрызнулся:
– Ты у меня доиграешься, лихач зачуханный! Куда, спрашивается, прешь? Жилье здесь, жилье! Ладно, здорово, – он протянул руку, – заходь.
Гость с ходу полез к столу, подцепил пальцем соленый груздь, сладко причмокнул и закатил глаза. В следующую минуту Верхососов хлопнул Лунохода ложкой по лбу и взревел:
– Куда лезешь с грязными руками?
Луноход долго гремел рукомойником и, как всегда вместо приготовленной Устинычем тряпки схватил чистое полотенце, чем снова вызвал целый поток брани.
– Ладно, Устиныч, не переживай. Скажи лучше сколько песцов добыл?
– Нето добудешь, нето домой не будешь, – уклончиво ответил Верхососов.
– Не прибедняйся. Был бы хорошим человеком, плеснул бы на нитку. «Колосники» горят.
– Отчего это они у тебя горят-то? Опять брагу хлестал?
– Не хлестал, а принял слегка.
– Все равно не дам. И так один плафон (имеется в виду флакон) остался. Мало ли что случится. У вас там магазин под боком, а мне тут никто не поднесет.
– Плафон, плафон, – с сожалением передразнил Луноход, – а я тебе патефон присмотрел у одного. Правда, пока не дает, говорит, историческая реликвия.
– Патефон? – Устиныч строго посмотрел на Лунохода. – Знаю, патефоны сейчас назад вертаются. Только от дури это. Патефон нужен там, где нет электричества. К примеру, сюда. Мне этот механизм давно знаком и любезен. Лучше всяких батареек. Если пружина еще, скажем, упрямая (то есть упругая), так ему век сносу нет, а иголки я и сам могу вытачивать.
– Не дает патефона, – равнодушно сказал Луноход.
– А ты лагируй (значит – действуй), – разозлился вдруг Верхососов, – Лагируй! Объясни ему, дураку, что людям, живущим в отдалении, помогать надо.
– Лагировать, Устиныч, лагирую, – развел руками Луноход, – а… никак.
Верхососов опять внимательно посмотрел на Лунохода сплюнул на пол, порылся под столом, и выставил на середину круглый стеклянный флакон, найденный мной еще прошлым летом на морском берегу.
– Черт с вами! – Он разлил каждому спирт в микроскопические стопки, – По единой – и будет.
Чокнулись. Луноход крякнул и, проследив обратный путь флакона, вздохнул:
– Э-эх! Выпрошенная соль пищи не солит…
– Слыхал новое указание медицины? Соль приносит вред организму…
– Мне ничего не вредно, – Луноход почесал под рубахой живот, потом вывернул содержимое кармана на стол и среди гаек, болтиков и прочего металлического хлама нашел замусоленный пакетик с таблетками.
– Викалин? – спросил я, зная, что у него язва желудка.
Он махнул рукой.
– Врачи долбят: диета, диета… Какая уж тут к черту диета, в тундре-то?
– Женись, вот и будет диета. Хватит болтаться, – наставительно произнес Верхососов.
– После тебя, Устиныч.
– А мы уже со Свистофорычем сговорились, будем мне хозяйку искать, – Он кивнул в мою сторону, – Подтверди, командование.
Я подтвердил.
Луноход недвусмысленно заглянул под стол.
– Одно скажу, отец, просто молодец! Мо-ло-дец! Бери и меня в сватья. Сделаем. Без всякой наклевки. Верняк обеспечен. Я человек с опытом, ты же знаешь…
– Ты себя со мной не равняй, – пригрозил пальцем Верхососов. – Ты еще в себе несешь много зазнайства. Мне не до баловства, понял? Я человек сурьезный, и женщина мне нужна строгая, в годах…
– Ладно, Устиныч, найдем тебе сурьезную бабусю.
– А чтоб тебя! Каку таку бабусю? Погоди, я вот поброюсь, эвакуирую со лба шишку, еще погадаешь, сколько мне годков.
Я хотел скорее ехать домой и поспешил успокоить егеря что с этим деликатным вопросом обращусь к его товарищу колхозному счетоводу Драгомерецкому.
– Во, это ты сделаешь умно и красиво, – обрадовался Верхососов. – Драгомерецкий человек приимчивый. Через него, Свистофорыч, и лагируй.
Ни я, ни Верхососов не заметили, когда Луноход успел разобрать шариковую авторучку с плавающей внутри обнаженной женщиной. Когда на столе образовалась, густая лужа глицерина, егерь спохватился:
– Опять натворил, язви тебя в душу! Что за наказанье такое! Чтоб тебе пакши-то (руки, значит) оббило!
Луноход растерянно оправдывался:
– Да вот хотел взглянуть на нее поближе. Сделаю, не волнуйся.
– Да не сделаешь! В ней же все метрически устроено: и чтоб жидкость держалась, и чтоб баба центрально плавала…
Я прервал их перепалку, взял рюкзак и вышел из избы. Было морозно и тихо. Вспомнился ласковый пес Ахмет. Сейчас бы он крутился под ногами, прыгал, визжал от избытка чувств. Без него в этом глубочайшем безмолвии было что-то противоестественное, даже жутковатое, Верхососов Ахмета привез сюда щенком, а потом, через год, сам сунул, не моргнув глазом, в вездеход – мол, распугивает ему тут всех песцов. Дурень старый! Как можно без собаки в тундре жить?
Мы кое-как закрепили дверку кабины вездехода, помахали Устинычу. Отъехав на приличное расстояние, Луноход внимательно посмотрел на свои валенки.
– Черт, опять одни чужой попался. Теперь твой егерь меня убьет.
На озеро Плачущей Гагары меня и Верхососова забросили в середине июня. До начала холодов нам предстояло построить новый егерский кордон – так он громко именовался в отчетах начальника охотинспекции, который за короткое время сумел создать настолько грандиозное и хорошо налаженное делопроизводство, что ему позавидовало бы любое областное управление. На деле кордон этот предстояло возвести в виде одной небольшой засыпной избенки.
Все лето мы прожили в палатке. В двух километрах от нас находилась речка. Она впадала в большой залив. Здесь было много плавника. Оттуда мы на себе таскали весь необходимый материал. Это был адский труд. Жара с комарьем то и дело сменялась дождливым холодом. Мы простудились, и у обоих почему-то опухли и стали гноиться глаза. На самый сезон дождей пришлась утрамбовка стен избы землей. Вначале нарезали чавкающую тундру – верхний слой шел на обкладку завалинки, – затем на штык лопаты выворачивали глинистый пласт, рыхлили его, сушили и только потом мешками поднимали на стены, лишь тогда в ход шли деревянные колотушки.
Вертолет доставил нам кирпич, стекло, рубероид и краску. Все остальное, вплоть до рам, делали сами. В завале плавника обнаружили почти целую дверь; на ней сохранился даже почтовый ящик и полустертая надпись: «Осторожно, злая собака!».
Вообще изматывались до того, что порою не оставалось сил приготовить хороший ужин. Так и хлебали жидкий консервный борщ среди гогочущей гусями тундры, возле рыбного озера.
Верхососов побожился, что до окончания строительства не будет умываться, бриться, переодеваться. Одежда на нем тлела от пота и грязи, щеки ввалились, лишь глаза блестели странным горячечным блеском.
Меня он подбадривал:
– Ничего, Свистофорыч, ничего. Перекури, не надрывайся. Вот закончим дела, баню устроим, облачимся во все чистое, а это с себя – в костер. Заживем тогда красиво и умно. У этой стены тебе лежанку соорудим, а тут моя будет…
Признаться, меня поддерживало воображение. Я видел наш дом таким, каким мечтал о нем с самого детства: именно в глухомани, именно на берегу речки или озера, с большой печью и керосиновой лампой, стенами, обвешанными ружьями и какими-нибудь трофеями. И чтобы за его стенами чаще случалась непогода…
Верхососов был моим непосредственным подчиненным, дом мы строили сообща, и я считал его в равной степени и моим, особенно когда выяснилось, что за строительство нового егерского кордона нам платить не будут. Сначала обещали, а потом где-то наверху не утвердили. Впрочем, это было и не так важно. Трудно измерить деньгами те муки, которые мы приняли в то проклятое лето.
Верхососов тоже строил не егерский кордон, а себе жилье. Здесь он намеревался пробыть до пенсии, а может, и сверх того.
Свободного места для предполагаемой мне лежанки, однако, не нашлось, Я это видел и сам. У глухой стены мы еле втиснули егерскую кровать, а у противоположной сбили стол и лавку. На кухне вообще двоим развернуться негде. Так что приходилось довольствоваться полом и спальным мешком. И это не беда. Угнетало другое. Если ко мне приезжали студенты-биологи или просто знакомые, Верхососов уходил в тундру и ждал, когда все разъедутся. Этим он как бы хотел сказать: чем быстрее уедут, тем лучше.
Я и это понимал прекрасно. Изба для Верхососова была, может, последней гаванью в жизни, и он имел полное право на уединение.
Будущим летом я намеревался с помощью Верхососова соорудить для себя пристройку. Но егерь помогать отказался («Когда же мне отдыхать?»). Более того, наотрез запретил что-либо пристраивать к его дому («Знаю вашего брата, спалите себя и меня»).
Вечерами иной раз я втолковывал Верхососову, что так жить, как он живет, сейчас нельзя. Он злился: подумаешь, какой-то молокосос учит жить. Злился и я: жизненного опыта у него хватало, поди, на троих. Но эти «кровопролитные» споры нас настолько сблизили, что мы знали друг о друге все, словно самые близкие родственники, словно отец и сын.
Поначалу, грешным делом, я думал, что Верхососов принадлежит к какой-нибудь секте. Однажды мы нарезали тундру, и я вдруг услышал, как он, наклонившись к земле, что-то вполголоса, бормочет. Я даже слегка испугался – не рехнулся ли? – и зачем-то посмотрел на столб, где висел мой ремень с пистолетом. Подошел ближе к егерю. Вокруг него вся тундра будто вспахана плугом, а у ног зеленым островком торчит клочок нетронутой землицы с кустиком созревшей морошки. Я услышал: «Эка, милая! Расти тут рядышком со мной, не трону тебя».
Увидав меня, он смутился:
– Огорожу участок, чтоб вездеходами не испортили землю, – сказал он мечтательно и вместе с тем твердо, – Запрещу палить из ружей. Пускай живность подле меня размножается.
Обещание свое он сдержал. На озере под окном все лето плавали утиные выводки, поодаль, на бугре, устроилась журавлиная пара, а за поленницей дров с ранней осени прижились восемь молодых песцов. Верхососов кормил их из рук, а в день открытия промыслового сезона всех передушил. Таким образом, принадлежность его к секте, где проповедовалась заповедь «Не убий», вызывала после этого случая большие сомнения.
Кустик морошки? Кустик морошки очень удобно и поберечь – хоть и небольшая, а все же компенсация за грубое несовершенство человеческой природы.
На исходе первой зимы у Верхососова сломался зубной мост. Луноход предложил заклепать его стальной проволокой. «Гвозди будешь дергать», – заверил он егеря и вынул зачем-то из нагрудного кармана комбинезона большие ржавые пассатижи. Верхососов уже неделю жил лишь на манной каше и размоченных сухарях. Он недобро покосился на инструмент в руках Лунохода, потом на яркую картинку из старой поваренной книги. Эту картинку, живописно отливающую всеми цветами изысканных кушаний праздничного стола, нашел и приклеил к стене Луноход. Верхососов попытался в первый же вечер сорвать ее, но картинка намертво склеилась с обоями. А обои портить было жалко. Устин Анфимович выбрал такое место за кухонным столом, чтобы не видеть соблазнительных блюд. Так и сидел, вполоборота, скосив глаза на темный угол и осторожно двигая беззубыми челюстями. «Упитанности в птице – никакой, – говорил он каждый раз и вздыхал. – Отпуск отдыхающий пора брать, отпуск».
– Ну и возьми, – сказал я. – Сейчас самое время. Зубы склепаешь, шишку уберешь со лба, в баньке попаришься… Дней этак с десяток. А поживешь у меня.
– Не, жить мне есть у кого. У Драгомерецкого.
Наконец мы уговорили его поехать с нами в райцентр. Избу закрыли на большой амбарный замок. Как ни упрашивали Верхососова оставить а замке ключ, ни в какую. «Нет, в это время здесь никто не может быть, а порядок есть порядок, раз закрыто – не лезь, значит, чужой дом». Я возразил: а если случайный путник набредет или понадобится ему переночевать, обогреться? Луноход добавил яснее: ни один замок в тундре не удержит, надо – дверь взломают.
Не переубедили.
В райцентре Верхососов прожил пять дней и пришел утром ко мне на квартиру.
– Командование, пора домой, – сказал он с порога.
Я как раз занимался расшифровкой его полевого дневника, куда заносились сведения о летающей дичи в заказнике. Верхососов, как только был зачислен в, штат охотинспекции, сразу выдал: неграмотен, протоколы составлять не способен, пугнуть – пугну, можно даже ружье отобрать, а протоколы – не. Мы уставились на него, потом на заявление. Оно было написано школьным почерком. Как – неграмотный? А как заведовал на Курилах тепличным хозяйством? Однако Верхососов непреклонно объяснил, что рос на отшибе в семье лесника, в школу ходить было далеко, потом сам не захотел, а на Курилах всем делопроизводством ведала жена, работница тепличного хозяйства, он лишь командовал.
Вроде убедительно, хотя совершенно немыслимо. Ни я, ни мой начальник еще не встречали пожилого человека, исколесившего почти всю страну, но абсолютно неграмотного.
Короче, договорились, что Верхососов цифрами будет регистрировать пролетающих птиц. Счет он знал по деньгам, знал якобы и несколько букв алфавита. Теперь в полевом дневнике эти записи выглядели столицами корявых больших цифр и букв: «жу», «ут», «гу», «гн». Соответственно это означало: «журавли», «утки», «гуси», «гнездо».
– Проходи, Устиныч. Как зубы?
– Еще не привык, ляскают, язви их в душу.
– Да что же ты у порога стоишь, проходи! – Я вскочил и пожал ему руку.
Он потоптался смущенно, стянул ушанку, по не сдвинулся с места. Мне никогда не приходилось видеть Верхососова таким робким и даже стеснительным. Однако упрямый подбородок напоминал о твердости характера.
– Нет, нет, Свистофорыч. Я постою тут. Чай попил, рассиживаться некогда. Вертаться надо. Там дом, мало ли что…
– Как хочешь. А чего так быстро? Отдохнул бы еще, Походи в кино, баню, закупи все необходимое…
– Нет, нет. Пора. Баню я сам себе устрою. От кино у меня голова болит. Пора.
Я снова стал упрашивать егеря пройти в комнату, попутно выясняя, почему он так спешит в тундру, где его никто не ждет. Уж не обидел ли кто?
– Войди, командование, в мое понятие, войди. Тут мне все не так, да и люди кругом… Теснота. Копотно и дымно… Кашлять вот начал. Одним словом, вызывай Лунохода – пусть готовит свой механизм.
Отправил я их на другой же день. Верхососова провожал его друг, колхозный счетовод Драгомерецкий.
Я пожаловался ему на странное поведение егеря – даже в комнату не прошел.
Дратомерецкий схватил меня за пуговицы и громко закричал, икая:
– Мы с ним, эк, жили на Лососевой. С тех пор и дружим, эк! Удивляюсь, как он отважился у меня жить. Ни к кому никогда не ходит: боится, что к нему ответно в гости придут. А он этого не любит. Отшельник, эк!
– Хозяйка ему нужна. Где ее взять?
Драгомерецкий заложил руки за спину и нервно зашагал по комнате. Затем снова схватился за мою пуговицу.
– Есть у меня на примете, эк, одна. Серьезнейшая бабенка. Сам бы ее в хозяйки взял, эк! Мы с ней на курорте познакомились. Рассудительная, с приданым – у нее в Майкопе домишко, яблоневый садик, малинка, Верхососов как раз для нее. Начнем, эк, действовать!
Месяца через два Драгомерецкий вручил мне письмо и фотографию невесты. Устиныч долго и придирчиво разглядывал миловидное лицо женщины неопределенного возраста. Опытный глаз не мог не заметить следов ретуши. Однако понравился ее серьезный взгляд, полные губы, чуть тяжеловатый, но все еще приятный овал лица.
Устиныч довольно пошевелил усами, ничего не сказал, но поставил карточку рядом с поздравительной открыткой из военкомата по случаю юбилея Дня Победы. Таким образом, в красном углу избы Верхососова соседствовали теперь два дорогих для него образа – Воин и Невеста.








