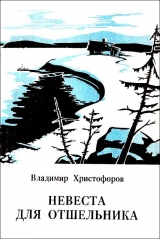
Текст книги "Невеста для отшельника"
Автор книги: Владимир Христофоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Бухта Сомнительная
Лирическая повесть
Людмиле А.

1
Я прыгаю в яму с моржатиной; успевая удивиться – надо же, снег! Белое пятно, спросонья принятое за снеговое, превращается в клубок стремительных и яростных мышц. Они оплетают меня, мнут, давят. Из горячей распахнутой пасти с гофрированным розово-пегим небом вырывается хриплый рев. Пасть дымится белым парком. Я чувствую пальцами витые шейные мускулы – они, словно маленькие тугие змеи, отчаянно бьются в моих ладонях. И вижу только небо зверя. Оно меня пугает и тоже превращает в зверя. Хотя должны бы напугать клыки. Прекрасные молодые клыки! Они созданы, чтобы разрывать живую плоть и перемалывать кости. Но почему-то пугает это розово-пегое гофрированное небо, Я знаю, что все равно не дамся ему, я нее равно постараюсь дотянуться до своего ТТ. Пистолет съехал на живот. Кобуру с такой силой дергает вниз лапа медведя! Я с благодарностью успеваю подумать о своей давней привычке никогда не снимать оружие в тундре.
Белый медведь лежит. Моя правая рука вцепилась в горло с бьющимися мускулами. Левым боком и локтем я давлю его правую лапу, левой он дерет на моей спине куртку. Мне не видно, но, может быть, одной лапой он скребет мерзлую стену – осыпается мелкая галька и песок. Мышцы у нас обоих напряжены, точно готовые вот-вот лопнуть струны… У кого первого? Мы замерли и выжидаем, где ослабнет мускул, чтобы молниеносно взорваться новым ударом, Я начинаю постепенно приходить в себя, лихорадочно соображаю, как выпутаться из этой истории. Можно закричать, но страшно – крик послужит зверю сигналом к последней атаке. Пока он тоже в шоке. Неожиданно я делаю радостное открытие – оказывается, до сих пор я живу лишь потому, что подо мной лежит не взрослый медведь, а, по-видимому, годовалый. Взрослому зверю потребовалось бы меньше минуты, чтобы смять меня. Иному белому медведю и тысячекилограммовый морж не страшен. А во мне всего сто с небольшим.
От близкого звериного дыхания меня начинает вдруг мутить, кажется, что сейчас я потеряю сознание. Яма забита кислым моржовым мясом для ездовых собак охотника Ульвелькота. Но к этому запаху я привык, как привык и к самой моржатине.
– Коте-е-но-к! Где ты? – слышу далекий голос Лариски. – Котенок!
– Здесь, – шепчу я и начинаю злиться. Злюсь от того, что злюсь, а когда злишься, можно испортить все дело. В приступе бешенства можно на все плюнуть. И просто встать с опрокинутого медведя. Сейчас я злюсь на это дурацкое прозвище: «Котенок», Оно произошла от моего имени. Его придумала Лариска. Какой я котенок? А сейчас я действительно словно котенок.
– Котено-о-к! – опять раздается сверху. Я улавливаю в голосе нотки тревоги. Идет! Молодец моя Лариска! Я, кажется, слышу даже ее дыхание. Она никогда не кричит, у нее одно восклицание на все случаи жизни – «О!», но с множеством оттенков.
– О-о! Котеночек, ты что тут делаешь? – шепчет Лариска.
Я не могу поднять голову, и мне хочется выругаться. Однако не ругаюсь. Однажды, услыхав от меня довольно безобидное словечко, Лариса умоляюще попросила при ней не «выражаться», как она сказала. Она не хотела ни на йоту изменить свое представление обо мне. С тех пор я никогда при ней не ругаюсь.
– Возьми карабин! Быстро! – рычу я в пасть медведю.
Боюсь, что последнего слова она не расслышала. В иные моменты Лариске не откажешь в ловкости и силе молодой пантеры. Кстати, ее так и называли в школе – черная пантера.
Я уже слышу лязг затвора и чувствую, как ствол карабина тычется в мой оголенный затылок.
– Да не в меня. Ниже! – кричу я изо всех сил. Бедняга, у нее, видно, дрожат руки. – Скажи перед выстрелом, – задыхаюсь я от натуги, – Обязательно скажи… Мне надо руку убрать. – Карабин, наверное, сейчас нацелен на узкий лоб медведя и вполне возможно, что пуля, пройдя сквозь череп, попадет в мою руку.
– Стреляю!
Одновременно с грохотом выстрела я отдергиваю руку, и челюсти медведя смыкаются на моем запястье. Его тело дважды судорожно вздрагивает и расползается, будто студень. На меня валится Лариска. Приятно пахнет пороховым дымом. Ствол карабина она засовывает в пасть медведя, и я вынимаю окровавленную руку Она осторожно берет ее и прикладывает к своей щеке Я слышу хлюпающие звуки, но всхлипы резко обрываются она знает, что я не люблю слез.
– Давай, Котенок, скорее. Я тебе помогу. Все хорошо, все хорошо… Главное, ты жив. Не переживай Поднимайся, милый! Вот так. Теперь становись мне на спину.
Я валюсь на ее хрупкую, узкую спину и хватаюсь одной рукой за край ямы. Сыплется галька. Лариска не выдерживает моего веса и приседает. Это не дело.
– Подожди, давай вот так. – Она с силой толкает меня, и я переваливаюсь за край ямы. Вот черт, откуда в ней такая сила?
Наш дом стоит неподалеку, на косогоре. Все на месте: слева океан, забитый торосами разного цвета – от бутылочного до голубого и розового: справа – огромная рыжая долина, заканчивающаяся уже по-осеннему мрачными и величественными горами; старая банька, разваленный вездеход возле крыльца. В который раз я опять думаю о собаке. Если бы была собака! Все этот жадный Ульвелькот: до начала охотсезона никаких собак!
Неизвестно, кто кого ведет. Лариска обхватила меня обеими руками, и это очень мешает передвигаться. С пальцев раненой руки на серебристо-серую траву падают темные капли.
Вот и дом. Мне жалко мою куртку, и я пытаюсь ее стянуть. Но Лариска проворно вспарывает портняжными ножницами кожаный рукав, потом свитер, потом рубаху. Ловко перетягивает жгутом предплечье. Мне страшно смотреть на свою изуродованную руку. Первая мысль – как работать? Бинт, смоченный в йоде, холодит и сразу опаляет огнем. Пока Лариска колдует над раной, я свободной рукой стираю кровь с ее щеки, тыкаюсь носом в ее черные курчавые волосы и шепчу.
– Баранья ты Башка…
– Это ты баранья башка, – ласково откликается Лариска. Она очень редко ворчит на меня. Нет, совсем никогда не ворчит. Но на этот раз в словах упрек: – Это ты баранья башка. Зачем ты убрал руку? Я ведь все понимаю.
– Зачем, зачем… Теперь можно рассуждать. Пули боится каждый кусочек тела. Независимо от меня, – Я, конечно, оправдываюсь, и мне стыдновато, что я поспешил отдернуть руку. А как знать? Пуля могла раздробить кость, и тогда осталось бы идти в инспектора Госстраха.
– Ну, да ничего. С рукой пока все. Давай теперь я тебя осмотрю. Может, еще где царапины. Вон на спине живого места нет, на коленях. – Она раздевает меня, и я замечаю, что делает она это с видимым удовольствием собственника. Раньше она никогда не видела меня в таком виде, но теперь мне деться некуда, а она очень довольна. Ее лицо время от времени озаряется радостью открытия:
– А вот здесь, Котенок, еще царапина. Сейчас мы ее…
– Баранья Башка, мне холодно. Хватит. Растопи печь. Будем пить чай и думать, как жить дальше.
– А чего думать? Рука заживет. Я пока буду твоим и. о.
– Медвежонка надо спрятать, – говорю я. – Нельзя убивать белых. Тем более нам, работникам заказника.
– Но это ведь вынужденно, – возражает Лариса с таким безразличием, словно речь идет о сорванном на общественной клумбе цветке.
– Скоро появится Ульвелькот, и тогда все побережье узнает. Потом доказывай, что ты не верблюд. Мы должны сохранять свой престиж, – высокопарно заключаю я.
– Чего? – она удивленно смотрит на меня.
– Престиж. Авторитет, значит.
– А, да, я просто забыла.
– Не забыла, а скажи честно, что не знала.
– Нет, забыла. Ты его еще записывал в мой словарик.
– Господи, Баранья Башка, такие слова знает теперь первоклассник.
– Хорошо, хорошо, не волнуйся. Ты болен.
Лариса воспитывалась в русской семье, но училась сначала в украинской, потом в русской, потом опять в украинской школе. Язык у нее коверканный, значение многих иностранных слов она вообще не знает. До сих пор не пойму, как это получилось: или недостаток в школьном образовании, или нелюбовь к чтению. Да нет, о последнем не скажешь: читать она любит. Поэтому Лариска завела себе тетрадку, куда записывает все непонятные слова. Иногда записываю я. Особенно неладно у нее с ударением.
– Давай хоть шкуру с медведя снимем! Я, может быть, единственная женщина на всем белом свете, которая убила белого медведя. Представляешь, шкура будет лежать возле нашей кровати…
Я морщусь оттого, что представил, как каждое утро буду становиться на шкуру этого медвежонка.
– Нельзя, Лариса. Понимаешь, никак нельзя. Надо спрятать в торосах.
Она недовольно отворачивается:
– Как знаешь… Впрочем, твое слово для меня – закон! Ты, как всегда, прав.
Плохо всегда быть правым. Неинтересно. Но об этом я не говорю, незачем ей это слышать. Пусть думает, что я всегда прав. Просто теперь надо делать так, чтобы правота твоя не вызывала сомнений.
Лариса треплет меня по щеке, надо сказать, довольно фамильярно.
– Господи, как мне хорошо с тобой! Мы пройдем через все испытания, и я продлю тебе жизнь на много-много лет.
Я недовольно кривлюсь: сейчас начнется ее любимая бодяга про лечебные травы, которые она прихватила с Материка. Вот уж где позавидуешь ее эрудиции: токсины, аритмия, сенсорный голод, депрессия, большой и малый круги кровообращения, «разумная» мышца и прочая медико-анатомическая премудрость. В таких случаях, предвосхищая словесный водопад, я выставляю ладонь и говорю:
– Спокойно! Я все знаю: бессмертник – мочегонный, шиповник промывает кишки, прости, печень, липовый чай – с похмелья…
Лариса со вздохом умолкает, подавленная моим невежеством.
«Продлю тебе жизнь на много-много лет» – самоуверенно и наивно, но мне хорошо от этих слов. Хорошо оттого, что их сейчас почти не говорят супруги. Чаще услышишь: «Ты мне укоротил жизнь» или: «Я тебе устрою такую жизнь – поплачешь!»
Лариска сидит на краю постели. Руки сложены между колен. Взгляд отсутствующий. Она напоминает человека, который остался один в комнате и знает, что за ним никто не наблюдает. Просто задумалась. А может быть, к чему-то прислушивается? Эти краткие мгновения меня настораживают. Она вдруг делается далекой и чужой, со своей жизнью и тайнами. Как и положено эгоистичной натуре, я про себя продолжаю, правда довольно лениво, ревновать ее к той жизни – без меня. Нет, она скорее похожа сейчас на юную женщину, что сидит в пустой комнате и ждет тихого стука в дверь.
– О чем думаешь, Юстэйсия? – моя слабость – придумывать ей постоянно новые имена и прозвища.
– О нас с тобой. О том, что мы счастливы, потому что любим друг друга, – серьезно отвечает она.
Неужели правда так думает? Чужая душа – потемки.
Я хохочу и подзадориваю:
– Скажи теперь, что ты искала меня всю жизнь и вот – нашла.
Лариска улыбается:
– Ты же знаешь, что это так.
Да-а… Отсутствие чувства юмора. Хорошо это или плохо? Мне кажется, что я даже немного ей завидую.
– Иду растапливать печь. Господи, чего же я сижу, вот странная…
Она никогда про себя не скажет, даже шутя: «Вот дурочка» или «Вот глупая», как говорят обычно. Она все понимает буквально и совсем не считает себя ни глупой, ни тем более дурочкой.
Я поудобнее устраиваюсь на своем ложе. Больная рука пылает. Но даже сильная боль, если она постоянная, притупляется, к ней привыкаешь. Одно время у меня появились в груди так называемые «блуждающие» боли. Я то не мог лежать – приходилось много ночей спать сидя; то не мог глубоко вздохнуть – нутро словно рвали когтями. Боли настолько были сильны, что во сне я кричал и пугал соседей. Врачи посоветовали сменить работу, и вот я стал охотоведом. Считаю, что это удача. К боли в руке привыкну. Это пустяк по сравнению… во всяком случае она не мешает мне погружаться в размышления.
Константин
…Это было лет семь или восемь назад. Я работал в хорошей областной газете. В нашем отделе работал и мой приятель – Коля Старухин. Мы были молоды, красивы – «золотые перья», как нас иронично называли коллеги. Нам это нравилось. Любили кутнуть, поволочиться при случае за хорошенькими девушками. Самоуверенности, тщеславия, зазнайства, порой и наглости было у нас с излишком.
Однажды Коля машет мне, мол, выйдем.
– Старик, тут к тебе… М-м… – он почмокал губами.
В коридоре стояла тоненькая юная девушка. Девушка как девушка. Еще «детсад». В руках школьная тетрадь трубочкой.
– Этот молодой человек, – Старухин галантно кивнул в мою сторону, – как раз занимается волшебными сказками. Он вас проконсультирует.
– Чего? Какие сказки?!
– Обыкновенные, волшебные, – пояснил он так, словно этим видом творчества занимался каждый второй житель планеты, – Девушка пишет волшебные сказки. Вот принесла, так сказать, на ваш суд, коллега.
Она стояла с опущенными глазами, в страшном смущении. За чащей иссиня-черных ресниц блестели, набухая, сверкающие капельки.
Я наклонился к ней и спросил шепотом:
– Вы… вы действительно пишете волшебные сказки?
Лишь на мгновение вспорхнули щеточки ресниц, открыв мне свет необычных монгольских глаз.
– Да, – еле слышно выдохнула она.
– Тогда все правильно. Проходите, пожалуйста.
Старухин насмешливо улыбался. Я ему незаметно показал кулак. У нас с ним была такая игра: подсовывать друг другу явно безнадежных для газеты авторов.
Такие девушки прекрасны, что и говорить. Я уставился в густые энергичные завитки на ее головке. Накануне мне пришлось побывать в одном крупном овцеводческом совхозе, и до сих пор перед глазами мелькали бесчисленные курчавые бараньи головы недавно народившегося молодняка. Довольно глупо, но, взглянув на ее прическу, я вспомнил про этих милых барашков. На смуглом скуластом личике ярко горел румянец. Она исподлобья глянула в мою сторону и положила тетрадку на угол стола. Совершенно черные глаза лучились ослепительным светом. Верхняя губа своенравно вывернута, а нижняя – пухлая, беспомощная, точно у недавно ревевшего ребенка. Подбородок крепкий, фигура, хрупкая на первый взгляд, все-таки довольно сильная и ловкая. Она повернула плотно сжатые колени от меня чуть в сторону и положила ладошки на край черной юбки – нормальной юбки, уже не мини, но еще не макси.
Я открыл тетрадку и с умным видом уткнулся в ровный, очень правильный строй красивых букв. Не помню, о чем шла речь в первой сказке. Называлась она «Зеленое райское яблоко». Однако запомнилось, как «туман юности кого-то уносит на своих легких крыльях, раздумья вздрагивают от плеска ласковых воли, а чувства освещены какими-то странными жемчужинами», Сказка заканчивалась словами: «И она встретила юношу с нелживым блеском глаз».
Это было прекрасно, и я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться.
– Что-то есть… хм… хм… Что-то есть… хм… хм, – пробормотал я, долго раскуривая сигарету, – Расскажите о себе…
Ничего особенного. Окончила сельскую школу, вместе с родителями переехала в город, сказки пишет недавно – «сама не знаю, как это вышло», – сейчас думает устраиваться на работу. И все.
– А знаете, Лариса, – я посмотрел на часы, – не поехать ли нам в ресторан? Все равно дало идет к обеду, а в столовые я не хожу.
Она поправила юбку, глубоко вздохнула:
– Я согласна.
Мне осталось отпроситься у редактора, перехватить где-то червонец. Редактор отпустил, не удосужившись даже выслушать наспех сочиненную мною легенду о каком-то важном письме, которое якобы немедленно надо расследовать. «Хорошо, хорошо, идите, только без Старухина. И чтобы потом я не разыскивал вас через милицию».
У Старухина я почти силой вырвал последнюю десятку. Он уставился на меня своими нагловатыми глазами, слегка увеличенными стеклышками очков:
– Неужели о'кэй? Ну, ты даешь! Ну, а вообще как она? – он пошевелил пальцами.
– Детсад, – односложно сказал я.
Для шику я взял такси, хотя до ресторана было минут десять хода. Мне принесли бокал шампанского, ей лимонад. Лариса понемногу разговорилась, однако была очень серьезна и никак не хотела принять моего снисходительно-шутливого тона. А вот о чем говорили – не помню. Не могу объяснить и того, как мне после прогулки по парку удалось уговорить ее зайти ко мне домой. Кажется, было все естественно и просто. Я пригласил на чашечку кофе – она не отказалась. Детсад, одним словом. Уже в то время за внешней робостью в ней чувствовалась какая-то отчаянность. Может быть, она мучилась своей кажущейся неполноценностью или просто не хотела – не дай бог! – выглядеть этакой деревенской недотрогой?
Видно, все-таки, выражаясь по-деревенски, я ей приглянулся, как мог бы приглянуться сельской девушке каждый второй современный городской человек. Да что говорить, я сам себе тогда правился, и на моем глуповато-самоуверенном лице почти всегда сияла этакая ослепительная улыбка на все тридцать два зуба, безмятежность и беззаботность сами по себе выплескивались наружу. Взрослым людям я казался просто лоботрясом и пижоном.
Вошла Лариса в комнату без опаски, не обратив внимания на холостяцкий беспорядок. Присела на обшарпанный диван, да так и просидела до того рассветного часа, когда уже можно было различить наши уставшие и измученные лица. В темноте между поцелуями я каким-то образом стянул с нее юбку. Она осталась в тончайших голубоватых колготках. С эстетической точки зрения вид у нее был вполне приличный. Она это знала и могла великодушно позволить себя рассмотреть: мол, мы хоть и деревенские, а фигуркой можем еще ох как поспорить с городскими девушками.
Мы расстались, не договорившись о встрече. Пожалуй, потому, что я окончательно уверился в ее, так сказать, «детсадовском» возрасте. Она стала заходить в редакцию, но волшебных сказок – слава богу! – больше не писала, просто выполняла поручения отдела информации. Иногда печаталась. Любила посидеть в нашем со Старухиным кабинете. Придет, бывало, тихо поздоровается и присядет на свой стул возле окна. Если у нас находится время, позубоскалим с ней, чтобы лишний раз увидеть поразительный румянец на ее щеках; если нет – работаем, а она посидит-посидит и незаметно выйдет. Вот и все. Я даже умудрялся при ней по телефону назначать свидания.
А через некоторое время меня отправили собственным корреспондентом в соседний промышленный городок, где сооружался крупный металлургический комплекс. Я окунулся в новую жизнь, завел новых знакомых. Моей подругой стала полненькая блондинка-рентгенолог с пронзительными, словно сам рентген, глазами. Она только что разошлась с мужем и пребывала еще в том состоянии, когда неожиданная свобода пьянит, мир кажется шире и многообразнее, люди интереснее, а поступки легкие и смелые. Когда она приходила, я просил ее рассказать о Крайнем Севере, земле, окруженной для меня ореолом загадочности. И кто знает, не потому ли я и сейчас живу на Чукотке?
Лариса
Когда я перелистываю эти старые тетради, смешанные чувства владеют мной: я смеюсь и грущу, умиляюсь и стыжусь. Меня как бы снова начинает волновать то мое состояние, я заново переживаю события, встречи. Мне дорог тот мир, такой ясный, наивный и такой сложный. Костя, наверное, хохотал бы до упаду, читая эти строки. Вот почему мне не хочется, чтобы он видел мои дневники. Как я прятала их от чужих глаз! В общежитии – от девчонок, дома – от мамы. Костя, зная о существовании тетрадей, сказал, что, если я не захочу, он никогда не прикоснется к ним. Нет, он сказал не так: «Еще не хватало, чтобы я рылся в чужих бумагах. У меня своих предостаточно». А все же грустно такое слышать. Разве ему неинтересно, как я жила? Может, он уверен, что я все эти годы только и делала, что думала о нем. Я ведь тоже была любима, и, может быть, это чувство ко мне было таким же всепоглощающим, как мое к Косте?
Впрочем, зачем об этом? Теперь мы вместе, и теперь нас ничто, кроме смерти, не может разлучить. Просто любовь надо воспитывать, как надо воспитывать чувство долга, способность к труду. И самое главное – надо все делать всегда охотно и сердечно. И когда целуешься, хотя, может быть, у тебя в эту минуту совсем иное настроение. Мне смешны женщины, которые мучаются со своими мужьями. Мужчина, в сущности, большой капризный ребенок. Нужно делать так, чтобы он рядом с тобой мог почувствовать свою силу и… превосходство. Древний механизм: слабость одного вызывает ощущение силы у другого. Как это важно в наш век, век сплошного женского равноправия, когда даже по внешнему виду трудно различить сразу, кто к какому полу принадлежит.
Об этом я часто думаю, вернее, не забываю никогда. Любопытно, как я могла еще в те годы разработать целую систему взаимоотношений в семье? В ней сорок шесть пунктов и шесть подпунктов. На их реализацию, но моим подсчетам, необходимо пять лет. С Костей мы живем одни год, семь месяцев и… четырнадцать дней. У нас все хорошо, хотя я три раза плакала и лишь однажды подумала, что идеал недостижим, а счастье сомнительно. Но это было лишь один раз. До полного осуществления моей пятилетней системы остается три года. Это небольшой срок. Потом мы будем жить в полнейшем согласии. Я совсем не хочу перевоспитывать Костю, хотя модель в моем сознании все-таки существует. Но перевоспитание чревато потерей индивидуальности. Просто, может быть, что-то надо подправить для его же пользы. Эти поправки касаются некоторых сторон его образа жизни. Ведь я обещала продлить ему жизнь. Мы максимально увеличим срок пребывания на этой планете, чтобы кое-что на ней повидать. Но я должна сделать главное, сделать так, чтобы мое присутствие вызывало у него потребность смягчать речь и манеры, шутить, чтобы его природная душевная щедрость распространялась на всех окружающих, чтобы его сила и мужество вызывали уважение, а благородство действий шло бы от благородства мыслей. Вот и все!
Мне недостает образования и воспитания, и уступаю ему в умственном развитии. Я ничего не умею. Мне еще надо изучить какое-нибудь дело, небольшое, но необходимое ему. Изучить в совершенстве. Об институте я не мечтаю. Да это и необязательно. Я никогда не стремилась во что бы то ни стало поступить в институт. У меня не было твердого убеждения – в какой именно поступать. И хорошо. Нет ничего глупее поступать в первый попавшийся вуз. Но хватит, иначе это покажется обыкновенной завистью.
Мне хочется, как говорят, смотреть в рот своему мужу, так много лет любимому человеку, хочется им восхищаться и хочется чувствовать себя рядом с ним немножко дурочкой. Мне надоело поднимать слабых и доказывать свое превосходство.
Вот почитай, дорогой, что писала деревенская девочка, когда ей исполнилось семнадцать:
«После той ночи с НИМ, пока шла домой, настроение было тревожное, а вокруг ликовала весна. Не поехала на занятие. Симулянтка торжествует, все оказывается нипочем.
…Испытываю отчужденность. Что-то мешает мне слиться с толпой. Взгляды и внимание ко мне раздражают. Волнуюсь и с нетерпением жду вручения профсоюзного билета. Оказывается прислали только восемнадцать штук, так как фотографии сдали с опозданием. Не знаю, дадут ли сегодня.
Пусть с момента встречи прошло несколько дней мне кажется что наша любовь чище горного хрусталя. Я верю в любовь с первого взгляда! Как все-таки интересно жить!»
…Пожалуй, я сделала верно, что сохранила дневник, не поддалась много раз возникавшему желанию уничтожить его. Это мой тыл, это, как сказал бы Костя, музыка обратного времени, которой лишены – и оттого бедны духовно – многие, очень многие люди. Дневники надо хранить! Мне пришла странная мысль: если бы у всех были дневники детских и юношеских лет, то, наверное, люди были бы лучше. Ведь они забывают про себя, про то, что когда-то были наивны и чисты. Они забывают своих родителей, свой родной дом, его дыхание, запах.
Сегодня пришлось убить молодого белого медведя. Константин поранил руку, кажется, сильно. Но с ним никогда ничего не может случиться плохого. Если он даже вздумает умирать, я своим криком, силой воли верну его, уходящего. Только бы не пропустить этот момент! А вдруг ему станет совсем плохо? А вдруг заражение? Не думай, не думай про это! Не позволяй себе распускаться.
2
– Костик, ты не переживай из-за медведя! – кричит откуда-то из глубины дома Лариса.
Да, домила у нас – не сразу и определишь, где находится Лариса. Может быть, в моем кабинете или в Зале Голубых Свечей, а может быть, в библиотеке или в будуаре.
В дверь просовывается курчавая голова:
– Котенок, где сегодня будем обедать?
Обедаем мы на кухне и лишь в особых случаях закатываем торжество в Зале Голубых Свечей. Угадывая ее желание, я отвечаю:
– Может быть, в Зале Голубых Свечей?
Ее глаза вспыхивают радостью:
– Ты просто умница! Сегодня такой день! Мы должны отметить… м-м… твое мужество и мою удачу.
Молодец, выкрутилась из щекотливого положения. Какая же радость, если такая неудача, если еще кости стонут, а рука пухнет, словно на дрожжах? Она торжественно закрывает дверь, некоторое время шагает по коридору и, наверное, покачивает бедрами, затянутыми в видавшие виды джинсы. Это у нее осталось от сельского кружка художественной самодеятельности, где она, кажется, была звездой первой величины.
Через минуту ее курчавая головка снова просовывается в дверь:
– Ты мне позволишь взять твой наган?
– Не наган, а пистолет ТТ.
– Пистолет ТТ, – поправляется она. – Я за углем, мало ли что…
Я размышляю и готов согласиться, – в принципе она права, – но делаю недовольное лицо, чтобы у нее было чувство почтения к оружию и к самому факту – я доверил ей свой личный пистолет.
– Тебе, как егерю, по штату положен карабин. Вот и бери его.
– Да-а, он тяжелый, и вообще… – уже откровенно клянчит Лариска.
Человек я слабохарактерный и потому соглашаюсь.
– Ладно. Да поосторожнее там.
Склад угля, оставшийся еще от гидрографов, находится за ручьем. Уголь возим тележкой, попутно набираем воды.
Я устало закрываю глаза и впервые за этот год думаю о сигарете. Бросить курить каким-то непонятным образом заставила меня Лариска. Я даже сам не заметил, как это случилось. Взял… да и бросил. «Я ведь, Котенок, во всем беру с тебя пример, – сказала она тогда очень серьезно. – Что ты будешь делать, то и я. Давай вместе курить. Пусть токсины одновременно разрушают наши организмы». Конечно, не в этих словах дело. А в чем?
Рука ноет, пульсирует, словно туда переместилось сердце, и как-будто разбухает. «Дела могут быть, – озабоченно думаю я. – Заражение – и сыграешь, как принято сейчас говорить, в телевизор с одной программой: «Спокойной ночи, малыши!»
Окно в нашей спальне затянуто прозрачной пленкой. Чтобы зимой не выдувало тепло. По официальным данным, в бухте Сомнительной третья часть года приходится на жесточайшие пурги. Так что с печками мы еще помучаемся. Ну да сами добровольно пошли на это, никто нас не принуждал селиться в особняке. Нам вполне хватило бы однокомнатного домика, каких в поселке целая дюжина – выбирай на любой вкус! Но мы обжили эту громадину в семь комнат. Блажь? Пижонство? Конечно! Но в этом доме разместится контора заповедника, лаборатории и прочие службы. Надо обживать. И все же… Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой во всем доме, придется дважды в сутки топить четыре круглые печи и плиту на кухне. Выдержим ли мы такой темп и объем работы, покажет скорая зима. В крайнем случае с отоплением кухни, кабинета, спальни и будуара, как выразилась Лариска, «обязательно совладаем».
Почти месяц мы угрохали на ремонт особняка. Даже подновили старый лозунг: «Гидрограф! Соблюдай правила техники безопасности в тундре». Мы не гидрографы, но теперь эти слова всегда будут напоминать мне о сегодняшнем дне. Самой сложной оказалась проблема мебели. Оттого и появилась мастерская с верстаком, где я восстановил собранную со всего поселка разнообразную рухлядь. Спальню обили старыми дорожками, на топчан постелили овчину, выкроенную Лариской из полушубков. В изголовье, но все же не над самой кроватью – техника безопасности! – подвесили керосиновую лампу. Есть, правда, и электричество, но не будешь же каждый раз заводить движок, а потом в одном белье бежать, чтобы его заглушить. Вешалку заменили роскошные оленьи рога. Олени здесь очень большие, много диких, поэтому они живут подолгу, отращивая свою костяную красоту. Я, конечно, был не в восторге от этих рогов, да еще в спальне, но Ларисе они понравились. Может быть, рога ей вообще ни о чем неприятном еще не напоминают?
Кабинет мой пока выглядит бедновато: смонтированный из двух тумбочек письменный стол, старый-престарый диван. На нем удобно сидеть, греясь у камина, покуривая трубку из вишневого дерева, попивая… ну хотя бы «Солнцедар». Увы! Камина нет, курить бросил, а спиртного в обрез. На стенах две карты – Магаданской области и Советского Союза. Да, еще радиола «Кантата», найденная в бывшей конторе гидрографической базы. Радиола для антуража – внутренностей в ней нет никаких, и она служит шкатулкой для документов и служебных бумаг, которые, правда, пока умещаются в моем бумажнике. Музыку мы иногда слушаем в библиотеке. Это маленькая комнатка – два на три – без окон, со стеллажами, забитыми старыми подшивками «Огонька» и «Крокодила». Книжек еще очень мало, главная – «Белый медведь и его охрана в Советской Арктике». Здесь установлен наш собственный проигрыватель – стерео «Аккорд». Подбор пластинок неплохой – любимая классика, хороший джаз.
Рядом с библиотекой – будуар Ларисы. Это комната побольше. За самодельной ширмой установлен большой чугунный чан. Его с великим трудом притащили мы из бывшей кухни. Сейчас он с успехом заменяет ванну. В другой половине комнаты столик с трельяжем. Это давнишний подарок Ларисе от ее мамы. Она всюду возит его с собой. Говорит, приносит счастье.
О кухне и мастерской рассказывать нечего – там все обычно.
Зал Голубых Свечей – наша гордость и радость! Но я поверил в это только тогда, когда Лариса тщательно вышоркала и подлатала линолеум (тридцать шагов на пять), повесила на четыре больших окна шторы из обыкновенной мешковины, разместила картины. Я смастерил из двух дверных полотен огромный стол. Лариса вынула из чемодана две толстые голубые свечи, зажгла их, и мы враз произнесли: «Зал Голубых Свечей!»
Суровым аскетизмом средневековья веет от грубых мешковинных штор. Это ощущение подчеркивают строгие линии незамысловатого орнамента на грубой ткани. Этот орнамент виден лишь днем, когда свет проникает сквозь шторы. В другое время узоры сливаются с тканью. Тогда грубоватость ее еще больше усиливается, и даже с выдумкой сделанные кисти внизу не оживляют картину.
Со стен зала лица, лица, лица… Улыбающиеся, глубокомысленные, равнодушные, грустные, любопытные, гневные, умиротворенные. Лариса эти репродукции вырезала из старых «Огоньков», аккуратно подклеила картонки, сделала рамки. На одной стене – современная живопись: «Молодые ученые новосибирского Академгородка», «В тракторной бригаде», «Юность», портреты Героя Социалистического Труда Язмурада Оразсахатова, балерины Надежды Павловой, архитектора Кикнадзе, «Ужин рыбаков», «Порт Находка»… На другой – репродукции с полотен Паоло Веронезе, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи…








