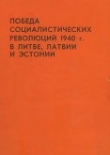Текст книги "Дети Революций... (СИ)"
Автор книги: Владимир Кабаков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Мысли Сталина постепенно отвлеклись от болезней, и сознание, проваливаясь в прошлое, стало рисовать ситуации и случаи из длинной, наполненной событиями и действиями жизни...
Иосиф Сталин – тогда еще Сосо, – много читал. Семинаристы тайком передавали из рук в руки Шекспира, Шиллера, "Историю культуры" Липперта. Но больше всего полюбилась ему книга грузинского писателя Козбеги "Отцеубийца".
Её герой, Коба, горец, бесстрашный и хладнокровный мститель, выступает против произвола чиновников, против подлости царских прислужников, становится благородным разбойником и в неравном бою, попав с друзьями в засаду, один из всех ускользает из ловушки.
Отныне Коба стал для Сосо божеством. Вдохновленный примером, Сосо тренирует тело, закаляет волю, воспитывает в себе мужество и бесстрашие, что почти сразу замечают однокашники.
Однажды Сосо-Коба решил проверить силу воли и не спать, сколько сможет. После двух бессонных ночей ему стало плохо, начались слуховые и зрительные галлюцинации. Кофе уже не помогало. На третьи сутки ему особенно было нехорошо: раскалывалась от боли голова. Вместо сна приходили кошмары; казалось, что руки, ноги и голова вдруг начинали разбухать и достигать страшных бревно образных размеров. Сознание затапливали образы беспричинного давящего ужаса, еще мгновение и тело, и голова разлетятся в клочья, в осколки, взорванные изнутри изнутри страшным давлением.
"Боже! Спаси и сохрани! – повторял Иосиф, – За что мне такое наказание? За мою гордыню, за ненависть к этим аристократам и богачам, этим фарисеям в клобуках... Боже! Боже! Я не вынесу этой боли!..".
И, вдруг, словно переполнив чашу страдания, боль исчезла, в глазах полыхнул божественный свет, и голос из страшной тьмы воображаемого запредельного произнес: "Иосиф!!! Готовься к избранничеству. Ибо тебе будет дано все, чтобы спасти народы от несправедливости. Отныне твоя жизнь должна быть посвящена борьбе с угнетателями и притеснителями народов. И станешь ты, как Коба, жертвой и спасителем!!!".
И так велико было впечатление, так потрясен был Сосо видением, что потерял сознание...
Утром товарищи стали будить Джугашвили и обнаружили, что он болен, горячий, как печь, и бормочет бессвязные слова.
Через неделю Иосиф поправился... Еще через год под подушкой Иосифа были найдены запрещенные социалистические брошюрки, за что он и был исключен из семинарии...
Всплыли воспоминания, которые он обычно старался гнать от себя. После исключения: ни работы, ни прошлого, ни будущего. Одна надежда и вера в борьбу за права простых людей. И, вдруг, арест; почти полтора года Иосиф провел в стареньких тюрьмах Кутаиси и Батуми. Отношения между зэками и администрацией там были самые патриархальные, но случались и взрывы эмоций, почти бунты, борьба сильных характеров.
После тюрьмы и ссылки Иосиф годами ходил по улицам как убийца, за которым гонятся полицейские ищейки. И сейчас, чаще весной, его охватывало чувство опасности и возбуждения, далекие отголоски той реальной опасности быть арестованным или просто убитым шпиками. И потому бакинская тюрьма показалась ему местом успокоения; так трудно было жить на свободе...
Рассчитанная на четыреста человек, тюрьма вмещала полторы тысячи. Арестанты спали вповалку на ступеньках лестниц, в коридорах. Уголовные и политические перемещались по тюрьме свободно, все двери из-за тесноты были распахнуты настежь. Среди заключенных были и "смертники". Они ели и спали вместе со всеми.
Ночью их выводили и вешали в тюремном коридоре; слышны были стоны и крики. Кобе казалось тогда, что он ничем не может помочь обреченным, и, закрывая глаза с вечера, он старался покрепче заснуть, чтобы не слышать всего происходящего.
Тогда же он познакомился с ребятами, на совести которых были ограбления, а иногда и убийства. Этим они были ему интересны. Он тогда уже понял, что люди действия – это люди решительные и способные на все, они могут пройти сквозь строй не дрогнув и убить предателя или изменника...
Сталин сощурился, остановился напротив окна, вглядываясь в темноту ранних весенних сумерек.
"И тогда, – продолжил он внутренний диалог, – я впервые понял, что самые храбрые люди бояться того, что случается, происходит не с ними, а рядом, на их глазах. Ведь в коридорах тюрьмы не раз случались драки между уголовниками, и это как-то особенно угнетало политических, тех, кто далек был от реальной борьбы, живой крови. Нас, эксистов, это только возбуждало, горячило".
Один раз на лестнице, ведущей в политический корпус, повздорили молодой рабочий из новой партии прибывших и опытный зэк, уголовник по кличке Грек. Рабочий был сильным и здоровым парнем, а Грек изможденный многолетними "сидениями", впал в истерию и, изловчившись, ударил рабочего ножом и убил его.
Иосиф видел это и, вдруг, понял, что и сам вот так может воткнуть нож в тело другого, что ему не страшно и ответить потом за такой поступок: в его жизни было столько плохого, что он сам стал частью этого мира насилия. Но, главное. Он верил, что только борьба поможет несчастным рабам сбросить иго буржуазного господства. А какая борьба без крови?
Ему вспомнились кичливые, грубые повадки горийской знати и нищета, в которой приходилось расти. А рядом – пьянство и барство разодетых в шелка и меха ничтожных нуворишей. "Черт бы их всех побрал!" – ругнулся Сталин и ударил в сердцах крепко сжатым кулаком по ладони...
"Да, – продолжил воспоминать Сталин, – тогда я был много смелее. Сейчас меня гнетет страх. Это какая-то истерика, нервы... Вот и сны стали сниться, – он закурил, – надо пригласить сегодня всех и сказать им, что жить мне осталось недолго... Но как вспомню эти лживые завистливые лица...
Неужели Ленин, умирая, вот так же думал о нас, остающихся здесь? Нет, он был другой, хотя тоже не был святым и хитер был, и знал, кому что сказать. Вот в молодости он был орлом!..
Да, таким он был тогда, на конференции большевиков зимой в Финляндии. Стоял морозец, и белый снег завалили все деревья, и скрипел под ногами. Пахло вкусными щами из станционного буфета, и крепким табаком, который курили почти все делегаты. Мы шли группой, и я надеялся, что вот-вот нас догонит он, Ленин. Но оказалось, что он уже сидел в зале и говорил с делегатами. И когда я его увидел, то разочаровался: ожидал что он все-таки повыше ростом, и лицо значительное, а тут – низенький, плотный, почти лысый и картавит...
Но уж когда он заговорил, то все замерли, так у него быстро, четко и понятно выходило. Я в восторге подумал: вот сила логики, вот у кого надо учиться, кому надо подражать...
А ведь тогда, в болезни, он мне что-то хотел сказать, объяснить мне из тех далеких времен, что-то важное, чего не надо делать, чего надо опасаться...
Наверное, хотел предупредить, что не надо болеть долго, что надо умереть быстро, чтобы над тобой не смеялись, не успели забыть, не стали жалеть. Бог мой! Ведь он хотел умереть, но уже не мог, не владел собой. Его охраняли как реликвию жена, сестра, родственники. Они хотели, чтобы он подольше жил, даже так, получеловеком...
А ведь он просил у меня яду. Он понимал...
Но почему у меня?..
Может потому, что Он знал: я его пойму...
А я не захотел, побоялся, пожалел, и все равно меня подозревали... Троцкий, Зиновьев...
А ведь когда он умер, я плакал, я понял, что теперь я один, теперь только сам могу ответить за все, что произойдет... Он был для меня как отец: и поругает, и побранит, а потом спросит: "Товарищ Сталин. Как вы думаете"..? А я и рад: ведь сам Ильич просит совета...
И вот что страшно: он умирал молодым, а я ведь старик и нет никого из тех, кто был там и тогда... Но я хочу, хочу знать, что он хотел мне объяснить...
Сталин ощутил сильную боль и, стыдясь этой напасти, – почки начинали подводить – не мог уже успокоиться, ходил из угла в угол и думал, думал...
"Как же так могло случиться, что я остался совсем один. Ведь были же друзья, были люди, с которыми вместе воевали, вместе в ссылке и в тюрьмах сидели. Сотни таких людей было, а в живых осталось от силы с десяток, и тем я не верю. Я никому не верю, я пропащий человек. Я сам себе не верю...
Вдруг, в очередной раз подумалось: жизнь то кончается, в нет никого во всем мире, кто мне бы был предан по-человечески, без подхалимажа и служебного рвения. Казалось бы, самые близкие люди, которых я знаю уже лет сорок...
Ну вот, хотя бы Молотов. Чего ему не хватало? Ведь я ему доверял бесконечно и приблизил очень. И все недоволен. Мне говорят люди, что он, побывав в Штатах, посидел там с политиками и набрался идей...
А по-моему, его там просто купили. Пусть не прямо, но купили, и он теперь мне не нужен. А он лезет, ездит на дачу ко мне. Я ведь запретил говорить в секретариате, где я, куда уехал. Конечно, одно дело сидеть в Вашингтоне и, представляя победивший Советский Союз, изображать из себя стратега, и другое дело здесь, в Москве, где все свои и все знают, кто делал эту громадную победу...
А ведь я перенес все, и особо плохо было в начале. Ведь я верил, что у этого параноика Гитлера не хватит духу, я знал, что это невозможно, и потому не верил ни Шуленбергу, его намекам, ни нашему послу в Берлине, этому, как его... Фу, черт! Опять фамилия выпала из памяти... Но не важно...
Я выжидал и готовился, и деваться было некуда, не на кого было положиться. Кругом одни предатели, все те, кто хотел меня свергнуть, убрать, убить, чтобы править самим, не имея понятия об ответственности и одиночестве того, кто принимает решения.
Одно дело писать теорию и кропать статейки о стратегии партии, а другое решать когда и сколько людей надо переселить, перегнать с места на место, чтобы не было смертоубийства и национальной вражды.
Кто из этих "деятелей" взял бы на себя ответственность за тех людей, которыми надо было пожертвовать, ради блага народа, блага Союза?..
И ведь не я начал эту борьбу, а в войне, чтобы победить, надо быть беспощадным к врагу, как и к своим слабостям. Еще Ленин учил меня беспощадности..."
Сталин поежился, поднялся с дивана, подошел к окну, глянул в сад, на деревья, засыпанные влажным снегом, прошелся по столовой, снова сел... Тихо в саду... Еще тише в доме...
"Боже! Сколько крови пришлось мне увидеть за жизнь. Но, пожалуй, самая страшная кровь была в степях под Царицыным, когда схватились в рубке наша и деникинская конница. Ужас!
Десятки тысяч всадников, обезумевших от злобы и страха, сцепились на этих пространствах...
А что было после боя? Не передать. Тысячи тел человеческих и кучи мертвых лошадей, и кровью пахнет, кровью земля полита. Буквально! После того я спать не мог. Все мерещилась смерть с косой, иначе нельзя было представить причину этого ужаса...
Вот тогда я понял, что не надо бояться крови, и что если бог такое позволяет на земле, то это так и должно быть...
А Клим ведь был тогда тоже там. Или кто еще. Егоров, кажется, тоже там был. И, как мы тогда верили, что выиграем и все, войне конец и на долгие времена счастье и мир...
Ан нет. Сильному все завидуют. Егоров стал предателем. Тухачевский – агент фашистов. Блюхер хотел отделить Дальний Восток от Союза. Даже Клим, и тот переменился. Он думал, что если он мой друг, то можно все этим покрыть: и провал на Финской войне, и потом на Ленинградском фронте.
Тьфу! Стыдно!..
Я никого не боюсь. Пусть болтают, сплетничают. Мне это надоест терпеть, и я покажу, кто Хозяин здесь. Им все кажется, что они хорошие, а я плохой. Но кто им дал возможность жить безбедно, в почете? Кто самую грязную и, жесткую часть работы на себе тащил? И потом, кто подготавливал, кто разжигал во мне ненависть? Я это только сейчас начинаю понимать, кому это было выгодно..."
Сталин снова поднялся на негнущихся ногах, прошелся по залу прихрамывая – затекли от неподвижного сидения, – проковылял в противоположный угол. На ходу массируя бедра, приткнулся на стул, сгорбился и надолго затих...
"Зачем было все это: борьба с оппозицией, индустриализация, коллективизация, борьба с "врагами народа". Я ведь уже тогда прекрасно понимал, что никакие они не враги народа, а просто люди, которые хотят удовлетворить свое тщеславие, свой эгоизм и потому замышляют против меня...
Людям нужен человек, который бы был громоотводом, на который можно было бы "повесить всех собак". Они как бы не хотят понимать, что цель оправдывает средства. Они думают, что блага можно добиться только добром, но ведь это не так. Любой, кто брал на себя ответственность за порученное дело, знает, что существует множество непредвиденных препятствий между словом и делом, теорией и практикой... А если ты возглавил страну, которая проводит эксперимент всемирного масштаба, когда ты отвечаешь за жизнь и счастье более ста пятидесяти миллионов людей, и когда ты изо дня в день работаешь по пятнадцать часов.. а тут тебе говорят, что Троцкий критикует тебя за твою решительность, что Бухарин и Каменев с Зиновьевым собирались вместе и решали, как помешать тебе...
Им кажется, что так будет лучше, если они уберут меня. Но никто из них на себя ответственность не возьмет. Нет, не возьмет!
Им хотелось, чтобы я за все отвечал сам, но делал, как им удобно...
В любом деле бывают ошибки, перегибы, неожиданные препятствия. Но ведь это жизнь и другой не дано...
А они все умны задним умом. Ведь критиковать сделанное всегда легче, чем сделать что-то самому. Критиковать это значит мешать делу...
Они все хотели, чтобы социализм пал, и тогда они оказались бы правы: Троцкий в том, что необходима мировая революция, Бухарин – в том, что можно, лично обогащаясь, строить коммунизм. А я доказывал всем, что не только социализм построить можно. Но еще и войну великую выиграть и верить, верить до конца, что социализм осуществлен на благо народа, не на благо этих бюрократов-захребетников, путаников и саботажников...
Однако, сейчас я понял, о чем силился сказать Ленин, что он хотел мне объяснить тогда, когда просил меня достать ему яд. Он, конечно, понимал, что умирает. Он говорил мне, что его отец умер тоже в 53 года, а мать от этой же, такой же болезни".
Сталин пошевелился, неловко повернул голову и перед его глазами, на миг все в комнате поплыло, сдвинулось со своих мест. Это состояние уже стало привычным и потому Сталин замер неподвижно.
Потом все пришло в норму, вновь стало как было и Вождь продолжил размышления: "На чем я остановился? А вот! Надо будет сегодня же собрать Берию, Хрущева, Маленкова, Булганина и объяснить им, что если они будут непримиримы, то легкой жизни им не видать. Враг внутри и извне слишком силен, чтобы успокоиться. И потом, надо, чтобы они поняли: такого, как я, среди них нет и потому они должны стараться жить и руководить дружно, а для того, чтобы найти нового Вождя, они должны расширить и сам Президиум. Об этом ещё Ленин говорил... Да! Но вот этого, для чего расширять, этого им говорить не буду. Они и без того перегрызутся за пост Генсека.
Пусть, пока я жив, в Президиум входит, как сейчас 21 человек. А когда я умру, Президиум все равно победит Бюро, это уже ясно на сто процентов, и тогда, может быть придет кто-нибудь из молодых. И Берия и Хрущев ворчат, что коллегиально ни одного вопроса оперативно решить нельзя, но ведь они и не будут крупных вопросов решать, пока не придет новый Вождь, который возьмет на себя весь груз власти, всю её ответственность. А эти не смогут... Нет, не смогут! Привыкли отсиживаться за моей спиной..."
Сталин тяжело вздохнул, оперся ладонями о колени, с кряхтением расправил спину, подошел к дверному косяку с вделанной в него кнопкой звонка. "Сегодня суббота, соберу всех кино посмотреть, а потом привезу к себе на дачу и попробую с ними поговорить об этом".
...Когда Сталин ехал в Кремль, то думал в машине, глядя по сторонам, о том, что народ – это глина, из которой можно сделать плуг, а можно и меч и как им управляют, так он и живет. И что всегда кому-то одному надо возглавлять. И решать тоже одному. Во всяком случае, в России, всегда так было и так будет.
У России своя дорога в мире. И то, что хорошо для Америки или Англии, вовсе не хорошо для нас. И потом, все равно социализм победит и мы сделаем Мировую Ассамблею, в которой все страны будут равно представлены, и тогда уже можно будет подумать о демократии...
Мысль перескочила из светлого будущего в темное, неясное настоящее...
"А после меня кто остается? Эти нерадивые, трусливые прислужники..."
Он представил себе Лаврентия, его толстый нос, острые, змеиные глаза, блеск пенсне, пухлые влажные руки...
Безликие, мягко одутловатые лица своих помощников: Хрущева, Булганина, Маленкова.
Сталин передернул плечами, поморщился...
Приглашенные собрались как обычно в Кремле, в кинозале. Смотрели какую-то американскую кинокартину. Как всегда Большаков пересказывал содержание. Было много стрельбы и в этой неразберихе. Большаков, не знающий языков, на память "переводил" и иногда надолго замолкал, а иногда отделывался репликами типа: "Вот он идет" и говорил это значительным тоном. А Берия, ерничая, передразнивал и продолжал: "Вот, смотри, побежал, он побежал". Все смеялись, Сталин улыбался...
После кино Сталин пригласил всех на Ближнюю дачу, перекусить и, конечно никто не посмел отказаться, хотя всем эти обеды были уже поперек горла – всем назавтра надо было работать...
За обедом было весело. Сталин вспомнил ссылку в Туруханском крае, в Курейке. Жил он там со Свердловым, которого Сталин, судя по рассказам, не очень уважал и даже откровенно посмеивался над его щепетильностью. "Я назвал свою охотничью собаку Яшкой, а Свердлов обиделся и даже переехал в другой дом".
Сталин выпил вина, громко смеялся. Но иногда среди разговора замолкал и внимательно рассматривал присутствующих...
"Ну что это за люди? – спрашивал он сам себя. – Неужели из всех, кого я знал, эти самые лучшие? Черта с два! Эти самые хитрые и самые негодные и потому будут плакать, когда я умру, но сами они ни на что не способны.
Ну, вот хотя-бы Берия. Вот он сидит, скалит зубы, веселится, а что у него на душе? Темный лес. И вообще, он садист какой-то. Если бы не его собачья преданность, я бы его уже давно сгноил в тюрьме. И есть за что. Одни его похождения "насчет клубнички" чего стоят. Но я его берегу, он может быть последний, с кем я могу душу отвести, вспомнить Грузию, поговорить на родном языке. И потом, он мне свою преданность доказал и это главное. За ним такая кровь, что без меня ему и года не прожить, потому и бережет, за спину мою прячется...
А Хрущев? Я же его помню ещё с Промакадемии, где он был секретарем парт ячейки, и где за мою линию боролся с правыми. Он, конечно, человек простодушный и наверное неглупый, но уж очень провинциал, таким высшая власть и не снилась. Ему всегда нужно, чтобы кто-то выше него был, кто за все ответит.
Он был и остался крестьянином, хотя набрался манер, нож научился держать за обедом, но все равно путает сухое вино с крепленым. Работник он неплохой, но стратег из него не получится. Гопака танцевать он здоров... – Сталин невольно улыбнулся.
Маленков? Да это просто вечный секретарь. Ему бы справки выдавать, да за сбором взносов следить. Боится меня сильно, но наверняка думает, что достоин лучшей участи. И рожу-то наел, аж задыхается. Вообще все они как толстые свиньи. Вот в чем их плебейство. Жрут и спят, словно за всю родню хотят отличиться. А дай возможность, денежки начнут копить...
Единственный, кто еще более менее выглядит, это Булганин. Но сдается мне, что он пороха не изобретет. Типичный бюрократ со значительным лицом, но в сущности простой исполнитель и, главное, знает свое место. Они в паре с Хрущевым хорошо смотрелись, когда Москвой заведовали. Хрущев речугу завернет со своими шуточками, а этот молчит. Но значительно молчит..."
К концу обеда, часам к пяти утра, все напились, а Сталин остался трезвым и помрачнел.
"Ничего я им не буду говорить, не стоят они этого, -думал он пристально вглядываясь в пьющие и жующие лица, – и почему эти остались, а не другие, которые были тогда, в революцию, по заграницам и ссылкам, почему те ушли, умерли, убиты...
Почему власть так разъединяет, так озлобляет людей, разводит самых преданных друзей, делает их врагами. Почему я остался, а они все ушли? Казалось, ведь общее дело делали. Всем бы хватило места под солнцем. И все-таки пришлось выбирать.
Я иногда думаю: будь проклят тот день и час, когда я стал революционером. А иногда понимаю, что иначе не могло быть. Каждый проживает свою судьбу сам и делает и живет так, как ему на роду написано..."
На рассвете настроение Хозяина, как обычно, портилось...
"И мое одиночество и любовь и ненависть, которая меня окружает – все это предопределено. Воистину "никто не убивает и не бывает убит без соизволения бога". Жаль, что понимают это все слишком поздно...
А может быть так и надо. Пока человек молодой, он старается что-нибудь сделать, чтобы войти в историю, а в старости это нам уже не нужно, лишь бы в покое оставили..."
Проводив гостей, Сталин еще долго не мог успокоиться, ходил из угла в угол, морщился и шептал что-то.
"Нет! Я сам виноват, что стал таким же, как эти, похож на них. Я уже разговариваю на их языке, смеюсь их шуткам, стал не сдержан, не слежу за собой. Как там говорится: с кем поведешься, от того и наберешься!
– А ведь как иногда хочется все бросить и уйти... вот хотя бы в келью, в Афон. Как у них глаза горят, когда они молятся. Им ведь ничего больше не нужно, лишь бы поклоняться кому-нибудь... Тот же Войно-Ясенецкий. Ведь он светится, когда о Боге говорит и наверняка умереть за него хочет. А мы его в ссылку. Такому надо дать большой пост, вот он и закрутится: здесь прием иностранных гостей, там освящение храма... Смотришь – уже не до Бога... Да, были ошибки, были. Да и как не быть. Ведь все впервые. Никто до нас такого не делал...
...Сознание ушло неожиданно. Очнулся на полу, на щетинисто-мягком ковре. Запах мочи, влажное сукно брюк холодило и царапало промежность. "Боже мой!" Стыд пронзил Сталина жаркой испариной.
"Что со мной? Что случилось? Неужели это так бывает – не только страх, но еще и унижение". Снова вспомнился Ленин и его невнятная речь, вызвавшая у него когда-то подавленную усмешку. "Неужели и меня Бог наказывает. Нет! Нет!"
"Ленин? Почему здесь и сейчас он? Ведь он давно умер и умирал нелепо, стыдно, по-обывательски...
Я старался его понять, когда видел его. Но он просто мычал или непроизвольно проговаривал "Ллойд-Джордж", "конференция" или что еще. И это было страшно... и противно, нехорошо...
Была такая-же весна 1923-го и я ехал в Горки, вдыхая влажный воздух и ожидая плохого, но то, что я увидел, меня прости подавило...
Я тогда же поговорил с Обухом его личным врачом, позвонил Розанову, большому спецу по головной медицине, заставил их дежурить у Владимира Ильича...
А он, всегда такой логичный, очень умный вдруг стал как ребенок-идиот: то невнятно что-то бормочет, то начинает резко двигаться, махать руками, жестикулировать, гнать всех прочь: врачей, медсестер, санитаров...
Но вот сейчас он. Как тогда в первый раз, молодой, сильный. Энергично что-то доказывающий... Что он мне хочет сказать? Почему так волнуется?.."
Охранник, при очередном обходе, заметил свет в щель между дверью и косяком и увидел Хозяина, лежащего на полу и беспомощно шарившего руками. От испуга он почти вскрикнул. "Убили! Отравили!" – пронеслось в голове.
Подскочив к косяку, нажал на кнопку тревоги вызова начальника охраны, потом постоял решаясь, перекрестился, услышав дробный стук множества бегущих по коридору ног, распахнул дверь, подскочил к Сталину, встал на колени, не зная, что предпринять, провел легко рукой по телу лежащего. Он боялся прикоснуться к этому Старику, Патриарху, Богу... Наконец в комнату ворвались офицеры охраны, заговорили быстро, сбивчиво, панически.
Подняли Хозяина на руки, перенесли на диван, по телефону вызвали врача, засуетились вокруг, забегали, стали звонить в Москву.
Вскоре на Ближней собрались все: Берия, Маленков, Хрущев, Булганин, приехал Ворошилов и Каганович с Молотовым
Все напряженно слушали рассказ начальника охраны. Получалось, что Сталин пролежал на полу несколько часов без сознания...
Доктор дрожащими руками ощупал Вождя, потрогал руки и ноги, поднимая и опуская их как драгоценные стеклянные сосуды. Берия, не отрываясь, следил за ним и даже прикрикнул: "Смелее, ведь вы же медик". Закончив осмотр, доктор дрожащим голосом сообщил, что у Сталина развился паралич правой стороны тела... Вождя перенесли в большую столовую, разрезав одежду ножницами, сняли и переодели в чистое.
Решили дежурить круглосуточно парами: Берия и Маленков днем, Хрущев и Булганин ночью.
Врачи консультировались долго – решили, что Сталину жить осталось совсем мало...
Горе и страх оцепенением захватили всех на даче, в Москве, в правительстве. Хозяин умирал. Посвященные в эти события содрогались и гадали: кто придет на смену Вождю. Неужели Берия?..
Сталин умирал. Начался бред...
Длинный коридор, выкрашенный на высоту человеческого роста темно-синей краской. Слева и справа ровными рядами торчали из плоскости коридорных стен железные, тяжелые коричневые двери с квадратными нашлепками-глазками.
И, вдруг, все как будто рухнуло, грохнуло и сотни алюминиевых мисок застучали неистово в двери. Перекрывая звон, дребезжание, множество голосов кричали, вопили, срываясь в истерический визг: "Убий-ца! Людоед! Смерть ему! Смерть!! Сме-рть!!!" Эхо раскалывало коридор на множество кусочков, которые словно стеклянные осколки, вонзались в голову Сталина, вызывая невыносимую боль. Не было сил перенести ужас этого страдания и он побежал, обхватив голову руками, зажимая уши, спотыкаясь и ударяясь о двери. А рев, стук, свист настигал его, вытряхивал душу, почти непреодолимо вставал на пути.
Голову сверлила невыносимая боль-мысль: "Почему они так кричат? Предатели! Трусы! Они боялись мне это сказать в глаза. Только тут, спрятавшись за стенами тюрьмы, вопят, чтобы напугать, убить меня!"
Коридор, казалось, длился бесконечно. Сердце Вождя бешено билось, ноги в мягких сапогах налились тяжелой усталостью, воздуха для легких не хватало и казалось, что внутренности горели медленным огнем...
"Все! Я не могу больше!", – подумал Сталин и, споткнувшись, мешком повалился на пол, по инерции перекатился через голову и застыл неподвижно, тяжело дыша, ворочая непослушными глазами, отыскивая, где верх, где низ...
Вой, крики, стук внезапно прекратились и в нахлынувшей тишине стало слышно, как гулко, с перебоями стучит его сердце и казалось, что с каждым ударом паузы все длиннее, боль все тише. Равнодушие и безразличие охватило Сталина: "Зачем борьба, зачем волевые усилия, зачем жизнь? Ведь так приятно лежать неподвижно в этой блаженной тишине и знать, что никому ничего не надо доказывать, подозревать, наносить упреждающий удар..."
Бред продолжался. Маленькое, скрученное тело Сталина дергалось, то напрягаясь, то падая на тюфяк, на подушку. Глаза двигались под плотно сомкнутыми веками, губы пытались что-то шептать. Берия сидел рядом с Хозяином и с напряженным вниманием впивался взглядом в это, до судорог знакомое лицо, маленькую, гордо и спокойно глядящую внутрь себя, как в былые времена, невозмутимую маску-гримасу.
"Неужели умрет этот обожаемый и ненавистный человек. Вся жизнь в нем, все в этом бесстрастном, даже сейчас, на пороге смерти, человеке. "Как он меня оскорблял, как он иногда страшно и долго молчал, что-то решая про себя. Лучше бы он кричал, топал ногами...
На меня, которого боятся все...
А он, он мог отдать приказ и из меня бы через неделю сделали жалкую тряпку...
Но я был ему предан. Я знаю, он умрет и мне долго не прожить. Я устал бороться, следить, предугадывать, рассчитывать. Я не верю, что власть может доставлять радость... Он, Хозяин, говорил не раз мне, когда мы пили вино...
Он говорил мне, что власть только кажется счастьем, благом. Он говорил, что из-за власти перестал быть человеком, перестал любить людей, перестал их жалеть. Он говорил: "Я всем чужой, даже тебе, которого я призвал и сделал своим помощником. Меня никто не понимает... Я сам себя не понимаю. А чиновники, среди которых я живу, это подхалимы, которые вьются вокруг власти. Они просто дерьмо, они недостойны быть впереди. Они трусы и подонки, которые способны продать родную мать, отца, жену, лишь бы быть у власти... Им нельзя верить." – говорил он..."
Берия резко оглянулся. Маленков, развалившись в кресле всем своим студенистым грузным телом всхрапнул, почмокал толстыми губами, отвернул голову в сторону...
...Сталин шевельнул рукой... что видел он сейчас в своем бреду? Почему так бегают глаза под веками, вздрагивают кончики пальцев?.. Вождь бредил. В бреду он видел свое прошлое...
Июнь сорок первого. Вождю казалось, что так необходимая Союзу стабильность достигнута. Есть еще год или два для завершения реконструкции армии, для подготовки решающей схватки...
На дворе стояло теплое, ясное лето, длинные и жаркие дни сменяли ночи ясные и звездные, люди ехали на дачи, на море, в отпуск...
Школьники гуляли по ночным городам, празднуя окончание учебы. Влюбленные до утра бродили по скверам и паркам, наполненным ароматами сирени, черемухи и мягкой тепло-влажной лиственной зелени...
Он в ту ночь лег часа в два, собираясь поехать назавтра отдохнуть на Ближнюю, так любимую им дачу. Только заснул, согревшись и успокоившись, как зазвонил телефон правительственной связи. Открыв глаза, Сталин чертыхнулся про себя: "Кому там не терпится?" – но сердце заколотилось вдруг неожиданно бешено... "Неужели?" – произнес он вполслуха, – "Не может быть!".
Звонил Жуков: – Товарищ Сталин! Началась война. Немцы бомбят Киев. Танки и войска перешли границу в четыре часа утра. Вы слышите меня, товарищ Сталин? Вы слышите меня? Война началась!
Сталин судорожно сглотнул, рванул ворот ночной рубашки, задышал тяжело и часто, прокашлялся: – Да! Слышу... Держать меня в курсе... Докладывать каждый час, и бросил трубку.
"Что? Как? Почему?.. но поздно. Все пропало. Перевооружение не закончено. Изменники из командирской головки деморализовали Советскую Армию. Куда сейчас? Может застрелиться? А может за Урал, туда в просторы Сибири? Нет поздно. Опозорят. Скажут трус..."!
В бреду он, как тогда, в первые дни войны, почувствовал тоску и безысходность
"Но что я мог сделать? Я не мог помешать. Я хотел его обмануть, но он, этот истерик. Перехитрил меня. Нет, я не хочу, не могу умереть, пока не попробую дать бой... Лишь бы поверили, лишь бы позволили мне руководить битвой..."
Сознание возвращалось медленно. Вначале проявился в мутно-белесой пелене уходящего бреда потолок, потом вверх стен и полукружия свода потолка в стены, картина из "Огонька", на которой было изображена девочка, кормящая из бутылки ягненка. Потом бледное лицо в белой докторской шапочке... Дошли до слуха слова: "Он пришел в сознание". И голова доктора медленно уплыла за пределы зрения и на ее место протиснулось лицо Лаврентия, его дрожащий подбородок, капля не то слез, не то пота на щеке.