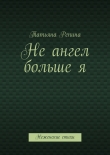Текст книги "Строчка до Луны и обратно"
Автор книги: Владимир Добряков
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Помолчал дед, еще раз вздохнул и спросил:
– Сам-то чего припечалился? Отчего душа не поет? Я вижу.
– Дед, влюбился я. Ты не смейся, мы с ребятами так и говорим: влюбился, не влюбился.
– Да я ничего, – сказал дед. – Обыкновенное дело. Со всяким приключается. А если еще такая девчонка! Как же без этого? Обязательно даже.
– Дед, это не Таня.
– Ишь ты! – поразился он. – Еще красивше нашел? Ну и Петька! Весь в меня!
– Нет, она не такая красивая, – сказал я. – Может, и вовсе не красивая.
– Так, так. – Дед опять затеребил усы. – И что же?
– Кира ее зовут. Нравится мне.
– Кира, значит, Кира, – забормотал дед. – Ну-ну?
– Нравится, говорю, очень. Тоже в нашем доме живет. На девятом этаже.
– Ясно, ясно. – Закивал дед. – Обе, значит, тута. В одном дому. И Кира, значит, имеет на тебя обиду.
– А ты откуда знаешь? – Я в удивлении уставился на деда.
– Петруха, дела эти известные. И сам не единожды попадал впросак. Парень-то, сказал тебе, был я видный. И всё-то со мной было. И чего только не было. И слез тех перевидал – запрудой не запрудить… Ах ты, оборот-поворот какой! Татьяна, выходит, тут вовсе и не к делу? А как хороша!
– Я кто ей? Так, рыцарь, мальчик высокого роста. Охрана.
Я сказал это обиженным голосом, и только в эту минуту совсем ясно понял, что так оно и есть.
– А Кира, может, и плачет, – добавил я.
– Ах ты, Петушок – чистый гребешок! – сказал дед и прижал мою голову к себе. – Видишь, жизнь-то какая негладкая. Они по нас плачут, а и нам не сладко… А гляди-ка, – вдруг показал дед за окно. – Пока тут сидели, разговоры говорили, и дождик за лес ушел. Прояснило. Солнышко скоро будет. Хватит, Петруха, тужить-горевать, идем-ка во двор, домину кругом обкружим, еще чего покажешь…
А на другой день погода и совсем разгулялась. От вчерашнего разговора мне было немного не по себе, и дед словно чувствовал это – ни о чем вчерашнем не вспоминал. Я принес утром газету из ящика и стал смотреть, где какие фильмы идут. Сходим, думаю, с дедом в кино. Четвертый день живет, а нигде еще не был. Только с мамой в универмаге. Но магазин не считается. Это не развлечение.
Я газету смотрю, а дед – на балконе, дали оглядывает, на солнышке греется. До обеда солнце весь балкон заливает, хоть ложись загорай, и на пляж не надо ходить.
– Петь, – позвал меня дед. Я подошел, а он рукой показывает на трех девчонок, что, сидя на лавочке, смотрели журнал и, словно по команде, правую ногу закинули на левую. – Вон та, беленькая, не Кира будет?
– Что ты, она совсем не такая.
– А с краю, в желтой майке?
– Да нет ее здесь, – говорю я и голос сдерживаю – вдруг и Таня на своем балконе стоит?
– Показал бы мне, – сказал дед. – Татьяну видел, теперь Киру посмотреть бы.
– Ладно, – говорю, – ладно. – И тащу деда за рукав к двери. Догадался дед.
– Экий пень бестолковый! – ругнул он себя. – Ясная обстановка. Операцию держим в секрете.
В комнате я начал было про фильмы деду читать – так не слушает.
– Кино от нас не ускачет. Ты Киру мне покажи. Какая из себя она.
Чего Кира далась ему!
– Высокая, – говорю, – чуть пониже меня. Две косы длинные. Глаза серые, крупные такие. – Я взял листок и бережно нарисовал большой глаз. – Здесь вот, к носу, уголок немного загнут. А над глазом тонкая полосочка круглая, с ресницами. Зрачок черный. А брови… – Я и бровь вывел карандашом. – Нет, они ровней у нее. Волосики густые и все в одну сторону смотрят. Много. Может, тысячу волосиков на каждой брови будет.
Кирин глаз деду понравился.
– Ишь, как ловко обрисовал! Красивый глаз. Теперь еще шибче охота поглядеть на нее.
Я несколько раз смотрел с балкона. И в классики играли девчонки, и в обнимку ходили парами. Та троица с журналом все на лавочке продолжала сидеть, только ноги опять, будто по команде, переменили – теперь левая на правой. И с мячом играли, но далеко, у того же второго подъезда. Однако Киры нигде не было видно.
А в двенадцатом часу выглянул, и вот – будто в горле у меня перехватило. Сидит Кира у своего подъезда на лавочке. Она спиной сидела, но я узнал ее. И косы длинные, и серое платье с красной оборкой… Да и вообще, как же мог бы я не узнать Киру!.. Показать, что ли, ее деду?
А дед, надев очки, читал в комнате газету.
– Еще не раздумал смотреть? – подойдя к нему, спросил я. – На лавочке она сидит.
– Кира! – Дед газету – в сторону, скорей на балкон.
Я показал ему Киру. Дед смотрел, вытянув худую, морщинистую шею, молчал. Потом палец к губам приложил и вытолкал меня в комнату.
– Что на спине о девочке прочитаешь? – раздосадованно сказал он. – Пойду глядеть.
– А может, не надо? – усомнился я. – Тогда хоть недолго. Посмотришь – и назад.
– Дело само покажет.
Я испугался:
– Какое еще дело?
– А как слово захочу молвить? Не боись, Петруха. Лишнего не брякну…
Ох и дед! Умеет же – поучиться у него! Сошел с крыльца, пиджак новый одернул и – прямехонько туда, к далекой лавочке у Кириного подъезда. И там не долго раздумывал. Сел рядом с Кирой. А через минуту и рукой взмахнул. Пошел байки рассказывать!
Что? О ком? Я терялся в догадках, только стоял, смотрел на их спины и ждал, когда он там наговорится.
Не дождался. Вдруг встали оба, поднялись по ступенькам и – нет их, скрылись в подъезде.
Я и дураком обзывал себя, и на кухню воду ходил пить, потом, в большом раздражении, уселся за стол и принялся читать газету.
Читаю строчки, целый столбец одолел, а про что написано – не знаю. В голове – Кира, дед мой болтливый, зачем домой к ней пошел? Привык у себя в деревне – каждый дом открыт, заходи, куда хочешь… Чего он там наговорит обо мне?
Больше часа не было деда. Звонит, наконец, разведчик тайный! Входит, и не пойму, что с ним? Серьезный какой-то, озабоченный. Но потом, правда, улыбнулся, подмигнул даже:
– Ну, Петруха, нагляделся, насмотрелся – что на самолете том полетел. Куда как дальше видно с ихнего балкона. Такие дали заречные. Даже голова чуток закружилась. Кажись, и не бывал так высоко. Понравилось. Обратно в деревню на самолете полечу. А чего – грудных детишков возят теперь, время такое. Полечу!.. Да, чего ж хотел тебе, Петруха, сказать? Вот что – плохие твои дела.
Снова загадки! Хоть бы сказал сразу. Притих я, насторожился, жду.
– С виду она, врать не стану, конечное дело, – не Татьяна. Но душа ейная, внук мой золотой, – цветок раскрытый… Вот идешь, бывает, поутру, рано-рано, лугом некошенным, и стоят они, глядят, улыбаются, всему миру открытые, росой напоенные, первым солнцем обласканные – лютик ли желтый, колокольчик, анютины глазки. Идешь, смотришь на красу эту чистую, и ступаешь осторожно, чтоб случаем по вине своей, лености или глупой спеси – не смять цветок тот безневинный. Ты правду сказал, ростом Кира высокая, а все одно – цветок малый и чистый.
Дед все это говорил, тихо расхаживая по комнате, вздыхая, и не говорил даже, а словно читал стихотворение какое-то. Никогда я раньше не видел его таким. Подшутить, посмеяться, забавную историю рассказать – вот каким привык видеть его. А сейчас… Что с ним сделалось?

Дед умолк, а я и не знал, что сказать. Спросить – говорил ли он с Кирой обо мне, после всех его задумчивых и неторопливых слов показалось неудобным.
За обедом дед все-таки рассказал мне, как познакомился с матерью Киры, с сестрой Риммой из северного города Норильска. Рассказывал он без обычных шуток, и от него услышал я много такого, о чем и не знал совсем. Мать Киры не работает, инвалидную группу врачи ей назначили. Сказал, что она очень хорошая и душевная женщина, а вот с мужем неважно они живут, потому что он крепко попивает.
– Видишь, – сказал дед, – невеселые дела какие. А подумай: Кире каково приходится? Её, Киру, внук мой хороший, никак зобижать невозможно. Грех это.
– Она жаловалась, да? – спросил я.
– А зачем, Петя, было ей жаловаться? Про тебя, мой хороший, ни словечка я не услышал. Как и нет тебя. Будто карандашиком вычеркнула. Потому и сказал я, что плохие твои дела.
– А ты, – спросил я, – тоже ничего не говорил?
– И я про тебя молчал. Чего ж говорить? Вам самим разубираться надо. Если не поздно.
Вечером я долго не мог уснуть. Что же получается? Кира от меня отказалась, карандашиком вычеркнула. С Таней теперь дружить? Почему бы и нет? Самая красивая девчонка двора. Точно, все ребята будут завидовать. А Кира… Так не хочет ведь. И не надо! Но чтобы окончательно уверить себя в том, что действительно «не надо», что на Киру мне начихать, я должен был на нее обидеться или хотя бы разозлиться. Должен был, а не мог. Я вспомнил, что и раньше, когда Кира в первый раз не захотела разговаривать со мной, тоже хотел рассердиться, и тоже не смог. Потому что, если честно, не за что. Я виноват.
Наверно, и дальше продолжал бы я мучаться, ничего не в состоянии решить. И день бы так прошел, и другой, и третий. Не знаю, сколько бы их прошло. И еще обнаружил бы я в Наташкином ведерке конфеты и записку с обращением к «свободному гражданину». И отправился бы с красивой Таней сначала в универмаг за голубой тесьмой, а потом, может, в кино. И ловил бы завистливые взгляды ребят. Так все и было бы, но…
– Петруха, хочешь расскажу, как я женился?
Это дед сказал мне утром, когда мы расположились за столом завтракать. Сказал своим обычным голосом, и мне сразу как-то легче стало.
Дед намазал хлеб паштетом, откусил и стал тщательно пережевывать.
– Нет, поедим сначала. Это сурьезный разговор.
– А чего глаза смешные были?
– Так она жизнь такая. Что арбуз полосатый. И горько, и смешно. Все рядышком, вперемешку.
Поел дед, усы полотенцем вытер.
– Я тебе сказывал, что был я парень молодец-удалец. И нраву веселого. Да и ласковое слово в кармане не прятал, за что девки любили меня и погулять со мной за большую честь почитали. И сколько ходить бы мне в женихах – того я не знаю, да вот на двадцать третьем моем году пересеклись наши дорожки с Глашей. Не скажу, чтоб лицом она была краше других, только стал я к тому времени уже понимать, что красота – не главный у девки козырь. Красота, говорят, до венца. А вот как потом жить – не тужить, горя не знать и нраву веселого не лишиться? Вижу: вроде получается у нас песня. Свидимся с вечера, а расстаться никак не можем. Хоть утро встречай на бревнышке. И все больше разговоры промеж нас, шутки. Я говорун, а и Глаша не молчунья. Хотя и слушать умела. Большая мастерица была слушать. Просит бывало: «Расскажи, Проша, еще чего. Слушать больно тебя интересно». А я говорю: «Теперь ты рассказывай». «Нет, говорит, лучше ты. А я послушаю. – И смеется: – Знаешь, почему рот у человека один, а уха два? Чтоб услышать больше».
И всякий раз сидели бы мы до утра, все говорили бы и прощались, да больно уж строгий был у нее отец. Откроет окошко и кричит: «Глашка! Сколь повторять? Иди домой!» А потом и вовсе не велел выходить ей ко мне. Из богатых он был, до революции лавку имел. А я что – веселый да голый. Одни руки. Видишь, положение какое! Глаша со всей душой ко мне, и я без нее не могу, так отец – стеной промеж нас. Я Глаше толкую: раз отца не переиначишь, то один выход – идти поперек его отцовской воли. Не прежнее, говорю, время, чтоб во всем исполнять волю родителей. Сами хозяева. Не пропадем, говорю: четыре руки, две головы, да любовь-душа посередке. Она слушает, кивает, но пуще всего отца страшится. Отец-то, когда увидел, что не по его выходит, вконец освирепел. «Кнутом, кричит, забью! На порог родного дома не ступишь!» Видишь, зверюга какая! Недаром что новой власти уже боле десяти годов было.
Ну, что тут делать? Никак не решается Глаша поперек отцовской воли идти. Слезьми обливается. «Видно, не судьба, говорит, Проша. Отступись от меня». И что ж, Петруха, удумал я?
Дед посмотрел на меня весело. Стукнул кулаком по столу.
– Ах так, говорю я своей Глаше, не плачь тогда обо мне, не лей горючи слезы, прощевай, говорю, дорогая-любимая, а жизни мне без тебя все равно нету. Забежал я в церковь да скорей по лесенке – на самый верх. Схватился рукой за колокол, на самый краешек встал и кричу: – Прощавай, Глашенька!
– Прыгнул? – со страхом спросил я.
– А как бы я, внук золотой, говорил сейчас с тобой? Да и на свете не было бы тебя… Услышала Глаша, обмерла, руки вверх вскинула. «Прошенька! – кричит. – Пожалей меня!» И сама на траву повалилась.
– А что потом?
– Так мой верх и вышел. Поженились.
– Дед, – спросил я, – а если бы она не закричала? Прыгнул бы?
– Не могло такого быть. Должна была закричать. Она же любила меня.
– А если бы не крикнула все-таки? – допытывался я.
– Да кто ж его знает, – невесело усмехнулся дед. – Ведь под горячую руку… Мог бы и сигануть.
Мне рассказ его здорово понравился. Вот это дед у меня! У кого еще такой есть!
– Ну а дальше? – говорю я деду.
– А дальше история долгая. Прожили мы с Глашей сорок шесть годов, за вычетом двух лет и двух месяцев – это как по причине сильной контузии головы и нахождения в правом боку осколка немецкой мины признали меня полностью негодным к продолжению героических сражений с фашистскими гадами. Из армии списали, ну, а старухе моей, на ее великую радость, даже и в таком сильно поврежденном виде вполне я сгодился. Только в ту пору была Глаша, ясное дело, не старуха, а очень даже завлекательная и душевная женщина она была. Так и жили. В чины я, правда, не выбился – конюхом был, ездовым, а после до нонешнего времени пастухом состоял, но Глаша, врать не стану, в обиде на меня не была и словом никогда не попрекнула. И прожили мы с ней эти сорок с лишним годов, как один день. В мире, в согласии, а уж говорить-говорили и все никак наговориться не могли. Я тебе, внук золотой, так скажу: если бы все слова, что мы с Глашей друг дружке сказали, написать бы в одну строчку, то протянулась бы эта строчка до самой Луны, кругом нее обвилась три раза и опять бы вернулась на ту же нашу землю.
– Ого-го, строчка! – сказал я. – Миллион километров, наверно! И все языком!
– Не языком, Петруша, а сердцем. С любимым другом сердце говорит. А язык только помогает. Тут уже его не остановишь. Губы да зубы – два запора у языка, да и те не удержат.
– Дед, – я улыбнулся, – а ты сколько мне сейчас наговорил? Километр будет?
– Да кто ж его знает, может, и будет.
– А ты сердцем говорил?
– Сердцем, Петруша, – сказал дед. – Думаешь, не болит за тебя сердце? Болит. Ехал сюда, и знать не знал о твоих заботах. А тут, видишь, дела какие сурьезные. Сколько ниток напутано. Попробуй найди конец… Ладно, мой хороший, посуду пока уберем. Я мыть стану, а ты на полку складывай.
Прибрали мы на кухне, я и веником на полу еще подмел. Ведро было полное. Я пошел на лестницу, к мусоропроводу. Иду, а сам все думаю про то, о чем дед рассказывал. Особенно, как с колокольни он чуть не сиганул. Это, значит, по-настоящему любил. Не то, что я. Мне даже обидно стало за себя.
– Дед, – вернувшись с пустым ведром, спросил я, – а Кира ничего-ничего про меня не сказала?
Он лишь руками развел:
– Не сказала, Петруша. Только ведь, знаешь, какое тут дело – посмотреть надо, отчего не сказала. Я так понимаю, что от боли. От сердца. Сердце в горе молчит, в радости говорит.
– Дед, а будет она со мной разговаривать?
– Того не знаю. Попробуй.
Попробовать? А что, если и правда, попробовать? Конечно! Что же мне дед сразу не сказал? Все про сердце да про сердце…
Я вышел на солнечный балкон. Далекая вертушка на белой палочке быстро крутилась. От легкого ветерка работал пропеллер и на моем балконе. Это мне придало уверенности. Я отыскал в ящике круглое зеркальце и сказал деду:
– Я пошел.
Наверно, по моему лицу дед понял, что я собираюсь делать:
– Иди, Петруша. Хорошо поискать – в любом мотке конец сыщется…
Я уселся на доске песочницы и, достав из кармана зеркальце, навел светлый круг на балкон Киры. Если она в комнате, то должна увидеть. На потолке будет свет.
Все правильно я подумал. Через несколько секунд на балконе появилась Кира. Я помахал рукой. Она постояла, постояла, и ушла. Теперь я уже не понял: что бы это значило? Выйдет? Но в ответ она не помахала. Или не хочет разговаривать? Подождал минут пять – снова достал зеркальце.
Она долго не показывалась. И я не отступаю, навожу зеркало, дрожит на ее балконе светлое пятно. Опять вышла она. Я опять рукой. Она, кажется, пожала плечами. Ушла. Что это значит? Все-таки решила спуститься?..
И верно: теперь я увидел ее в дверях подъезда. С крыльца спускаться она не стала. Я быстро подошел, взбежал на ступеньки и, придав как можно больше решительности и уверенности своему голосу, сказал:
– Здравствуй, Кира!
– Здравствуй. – И ничего не шевельнулось в ее лице.
– Я к тебе пришел, – сказал я.
– Вижу.
– А разговаривать со мной ты не хочешь?
– О чем?
– Обо всем.
– Это с какой стати? – В ее больших серых глазах, с чуть изогнутыми у носа уголками, даже не проскользнуло усмешки.
– Кира, ты совсем-совсем не хочешь со мной разговаривать?
Она куснула верхнюю губу, изогнула ровную бровь с тысячью темных волосинок, но так ничего и не сказала.
– Кира, у вас чердак открыт? Там железная лестница должна быть.
Она пожала плечами.
– А в нашем подъезде чердак открыт. Кира, я сейчас побегу на чердак и вылезу на крышу.
Она наконец разжала губы:
– Зачем?
– Вниз прыгну.
Она посмотрела мне в глаза и усмехнулась.
– Серьезно говорю, – сказал я. – Прямо на асфальт упаду.
– Зачем? – опять спросила она и тут же с тревогой добавила: – Ты правда собирается прыгнуть?
Из подъезда вышла женщина с ребенком на руках, но я даже не обратил на нее внимания:
– Думаешь – не прыгну?
– Петя, что с тобой? – вдруг сказала Кира и покраснела. – Тебе плохо, да?
Я лишь кивнул. Мне показалось, что могу заплакать.
– Что же ты ничего не говорил мне?
– Я говорил. Ты же помнишь?
– Да, правда, – сказала Кира. – Но я думала… А почему ты еще раз не пришел?
– Я пришел. Видишь.
– Да, пришел. А я думала – уже никогда не придешь.
Из дверей вышел малец с куском булки и внимательно оглядел нас.
– У тебя есть время? – спросил я. – Чего мы здесь стоим?
– А куда мы пойдем?
– Не знаю. Куда-нибудь. Идем?
– Да.
– А дома не надо сказать?
– Ничего. Мама с сестрой платье кроят. Ведь мы не очень долго?
– Наверно.
Мы обогнули дом и вышли на улицу.
Я не знаю, о чем мы говорили и куда шли. Просто шли вперед. А говорили обо всем, что приходило в голову, что вспоминалось. И о деде говорили. Кира сказала, что он очень понравился ей. И еще спросила, почему я раньше говорил, будто он смешной.
– Вообще, он смешной, – сказал я. – Только не всегда. Знаешь, он хотел жениться, а невеста не соглашалась, боялась своего отца, так дед чуть с колокольни не прыгнул.
– А ты с крыши собирался! – засмеялась Кира и в ту же минуту стала краснеть. – Нет… я не то хотела сказать.
– Конечно, – кивнул я, чувствуя, что тоже краснею. Получалось: будто я – жених, а Кира моя невеста.
– Мы ведь просто дружим, – сказала Кира.
– Конечно. И в одной школе учимся. Ты как закончила год?
– У меня с математикой неважно, – вздохнула Кира. – Тройка годовая.
– Ерунда, – сказал я. – Чего там сложного? Вместе позанимаемся. Ладно?
– Ладно. А у тебя троек нет?
– Поднажал в последней четверти.
– А у меня вот одна – по математике…
– Ты мороженое любишь?
– Конечно. Осенью съела сразу два фруктовых и горло простудила. Ангина была.
– Тогда не куплю, – сказал я.
– И не надо!
– А у меня и денег нет!
Так, разговаривая, почти не глядя по сторонам, мы прошли до конца весь наш длинный проспект Энтузиастов, упиравшийся в другой проспект – Московский. На противоположной стороне его возвышается памятник героям Великой Отечественной войны – широкое развернутое знамя с высеченными из камня суровыми лицами бойцов, и впереди – женщина, опустившаяся на одно колено, со склоненной головой.
Перед памятником, на красноватой гранитной площадке, стоял почетный караул – две девочки с автоматами и в защитных гимнастерках с погонами и два мальчика, тоже с автоматами.
– Ты не стоял в карауле? – спросила Кира.
– Нет, – ответил я, внимательно рассматривая неподвижно застывших в строгих позах мальчишек и девчонок примерно моего возраста.
– А я стояла. В октябре. Дождь тогда начал накрапывать. А мы все равно стояли.
– С автоматом?
– Да. Я стояла и почему-то все время о дедушке думала. Отце моей мамы. Он никакой, конечно, не дедушка был. Ему только двадцать семь лет исполнилось, когда он погиб. Шестого декабря день рождения у него, а девятого, через три дня, погиб. В Сталинграде. Несколько писем его осталось. Я покажу тебе, ладно? Одно смешное такое. Не смешное, просто написано смешно. Как без обеда остался. Поставил котелок, а в него пуля попала. Взял ложку, смотрит, а борща и нет. Одна капуста на дне да картошка.
Постояли мы у памятника героям и пошли назад – Кира беспокоилась, что дома ничего не сказала.
И снова о школе говорили, я о дедушке рассказывал. А еще я спросил Киру:
– Сколько времени мы гуляем?
– Часа два примерно.
– И все время говорили, правда?
– Все время, – в подтверждение кивнула Кира.
– А если все наши слова в одну строчку написать, сколько было бы?
– Не знаю, – с удивлением сказала она. – Много. Просто не представляю.
– Вот ты сказала: «Не знаю. Много. Просто не представляю». Шесть слов. Как раз упишутся на тетради в строчку. А тетрадь – сантиметров пятнадцать. Семь раз так скажешь – больше метра получается. Может быть, мы с тобой километра два уже наговорили.
– Интересно, – улыбнулась Кира.
– А еще вопрос. Ладно? Чем мы с тобой говорили?
– Языком, – ответила Кира. – Чем же еще!
– Так, да не так, – качнул я головой.
– А как?
Но о сердце говорить я постеснялся. Потом когда-нибудь скажу. И перевел на другое:
– А слышала пословицу: зубы да губы – два запора, а языка не удержат?
– Не слышала. Это дедушка твой так говорит?
– Угадала.
– Он вообще очень интересно говорит. Хороший у тебя дедушка.
– Обожди, послушаешь, когда смешное станет рассказывать!
– Он тоже на войне был?
– Два года и два месяца. А потом сильно ранило его и контузило. Осколок мины до сих пор в боку сидит. – Наш дом был совсем близко, и я спросил: – А гулять ты можешь теперь, ведь сестра приехала?
– Да. Римма еще полтора месяца пробудет. Она от мамы отлучаться ни на шаг не хочет. Я тоже надолго не буду уходить.
– А завтра пойдем куда-нибудь? Помнишь, в кино собирались?
– Помню. Сто лет не была. А твой дедушка может пойти с нами?
– Спрашиваешь! Он кино больше всего любит!..
Мне так скорее хотелось увидеть деда, что выскочил из лифта и ключа не стал доставать – притиснул пальцем кнопку звонка и держал до тех пор, пока дверь не открылась.
– Что за пожар? – спросил дед.
А я прошел в комнату, повернулся на каблуках и говорю:
– С Кирой помирился. Гулять ходили.
– Гляди-ка! – удивился дед. – И кончик нашел?
– Что кончик! Весь моток размотал! Дед, мы два километра наговорили! Или даже три!
– Обожди с километрами, – сказал дед. – Кончик пусть ты и нашел, а моток, Петруша, еще путаный. И не один там кончик. – Он открыл ящик буфета и подал мне две толстенькие конфеты. – А еще и письмо тебе.
Я развернул листок: «Славный, верный рыцарь Петр Доброхотов! Как рыцарь смотрит на то, чтобы сопровождать даму сердца в универмаг? Мне нужно купить четыре метра голубой тесьмы. Гарантирую коктейль с вареньем. Таня».
– Что задумался? – сказал дед. – Тут, милый, в клубке этом путано-перепутано. Не гляди, что махонькая, да коготок у нее острый. Из-за таких глаз, мой хороший, короли-принцы голов лишались.
Я положил листок на стол и решительно сказал:
– То короли да принцы, а моя голова, дед, на месте пока.
На свободной половинке листка с письмом Тани я черным фломастером нарисовал тучу, а красным – маленький краешек солнца. Внизу написал: «Солнышко закатилось. Рыцарь подал в отставку».
Дед, внимательно смотревший на мою работу, с довольным видом потер руки:
– Ай да Петруха! Ай да орел! В ведерку, значит, ее! И конфеты не забудь.
– Конечно! Нужны мне ее конфеты!
Я опустил ведерко с запиской и конфетами на балкон пятого этажа, закрыл дверь и сказал:
– Дед, в кино завтра пойдем?
– А чего ж, хорошее дело. Люблю кино. А если комедия какая смешная – пять раз смотреть буду. Про Шурика в клубе у нас показывали. Три раза привозили, три раза смотрел. Когда, говоришь, пойдем, завтра?
– Сейчас газету из ящика принесу, посмотрим, какие фильмы идут в наших кинотеатрах.
– Погодь, Петруха, – остановил меня дед. – А с кем же мы в кино пойдем?
– Втроем, – сказал я.
– И Кира, значит?
– Да, с Кирой.
– Ну и молодец! Вот ты бравый какой у меня! Орел! Весь в своего деда! Ну, беги за газетой.