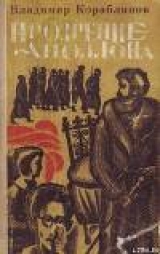
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
4
Ранним утром Рита оделась, наскоро выпила чаи и, прихватив свою замызганную холщовую папку, собралась уходить.
Агния сказала:
– Господи, Риточка… в такую рань? Что за спешка?
– Ах, я и так уже опаздываю! – с досадой отмахнулась Рита. – Мы с Фимушкой договорились в девять… Он должен стихи сочинить к моим рисункам.
Еще она сказала в дверях:
– А какая погода дивная! Ну, пока…
И только ее и видели.
После чего, как ни старался Аполлон Алексеич успокоить, вразумить жену, все было напрасно. Агния билась в истерике, под нею звенел матрас, свистела юбка Хохочущие рыдания перемежались какими-то невнятными словами, из которых уразуметь, разобрать можно было единственное:
– Нет, Поль! Нет… Стихи, рисунки… Фимушка… Нет! Нет! Нет!
А часом раньше, когда окна ещё только-только предрассветно синели, Ляндрес-младший сидел в крохотной кухоньке отцовской квартиры, что-то марая и зачеркивая на бумажной осьмушке; пил жиденькое синеватое молоко и терпеливо выслушивал раздраженную воркотню старшего Ляндреса. Подобные стычки двух Ляндресов происходили обычно по утрам, и первым, как правило, начинал старший.
– Слушай, Хаим, – скороговоркой, шепелявя, тарахтел он. – Ты кто, Хаим? Ты – Пускин?
– Здрасьте-пожалсте, – не отрываясь от писания, отзывался младший, – опять двадцать пять, за рыбу деньги…
– Нет, ты, пожалуйста, скажи: ты – Пу́скин?
– При чем тут Пушкин, при чем? – презрительно вздергивал Ефим плечо.
– Ай-вей! Ты пишешь, Пускин пишет… а он говорит – при чем Пускин!
– Да что вы привязались ко мне со своим Пушкиным! Если не писать, так дайте хоть покушать спокойно…
– Абра-а-ам! – страдальчески тянула сухонькая, словно провяленная, мадам Ляндрес. – Почему ты не даешь мальчику спокойно покушать, Абрам? Ты хочешь, чтобы он весь день сидел на службе голодный?
– Ха! Служба! Азо́хен вей – служба! Ты таки, Циля, понимаешь, что такое его служба? Он ходит на службу сочинять стихи!
– Папа!
– …и он имеет от своей службы такой большой гешефт, что не может купить себе приличные сапоги или курочке для своей больной старой маменьке…
Ефим молчал, дохлебывал невкусное молоко и, не глядя на отца, благодарил мадам Ляндрес, чмокал ее в черную кружевную наколку на крутых седых кренделях высокой прически и, стараясь не греметь солдатскими пудовыми башмаками, уходил.
– Ай-яй-яй! – горестно качала головой мать, прибирая на столе.
Старший Ляндрес еще некоторое время молчал, зудел, обращаясь в пространство, насчет того, что Пушкину было хорошо, Пушкин был барин, богатый человек, капиталист. Он таки мог сколько ему угодно сочинять стихи, а Хаим Ляндрес – бедный еврей, и ему надо думать о том, чтобы заработать себе на малюсенький кусочек хлеба, хотя бы даже и без масла…
Ха! Масло… Азохен вей, какое нынче масло!
Затем старший Ляндрес надевал трепаное-перетрепаное, еще в тысяча девятьсот одиннадцатом году перелицованное пальтецо и отправлялся на работу в кооперативную мастерскую «Красный швейник». Он был портной, и отец его был портной, и дед, и ему действительно казалось ужасным, нелепым, постыдным, что его мальчик не желает тачать и кроить, а, видите ли, бегает в какую-то редакцию и сочиняет стишки.
Вот так приблизительно каждое утро проходило у Ляндресов (отцы и дети, старое и молодое, вечный спор поколений!), и никто в семье не придавал особого значения этим беззлобным и немного смешным перепалкам между отцом и сыном, никто не думал, что когда-нибудь случится взрыв, катастрофа.
Это случилось сегодня.
Спозаранку прибежала старшая дочь Фаня, которая была замужем за ювелиром Каменецким, жила на Большой Дворянской и за богатство мужа почиталась аристократкой. Размазывая по красивому туповатому лицу слезы, она рассказала, что ночью к ним приходили чекисты, перевернули вверх дном всю квартиру, нашли в отдушнике чулок с царскими золотыми десятками и увели Каменецкого в тюрьму.
– Ой, Боря! – причитала мадам Каменецкая. – Ой. Боря-Боря-Боря! Какой уже раз его так уводят! Он больше в тюрьме живет, чем дома… Ой, Боря-Боря!
– Сам твой Боря виноват, – строго сказал Ефим. – Нечего было прятать это дерьмо. Он что, маленький ребенок или неграмотный, что не читал постановления губфинотдела о сдаче золотых и серебряных вещей? Сдал бы сразу, своевременно все свои цацки, и пожалуйте! Четыре сбоку, ваших нет.
Фаня перестала плакать и, приоткрыв рот, изумленно уставилась на брата. И тут папа Ляндрес взорвался. Он подбежал к Ефиму и пронзительно закричал:
– Босяк! Босяк! Иди же и целуй свою босяцкую власть, которая грабит по ночам честных людей! Иди, босяк! И чтоб я тут больше не видел твою бандитскую физиономие!
– Абрам! – заплакала мать. – Подумай, что ты такое говоришь, Абрам!
– Не беспокойтесь, уйду! – Ефим решительно отодвинул недопитый стакан молока, надел свою рыжую кожаную куртку, туго-натуго перетянулся ремнем и ушел.
На этот раз он уходил, грозно громыхая своими великанскими башмаками.
Молодость легко и решительно ломает рамки привычной каждодневности, ей нипочем самые крутые житейские повороты. Этим-то она и отличается от зрелости и в этом-то и есть ее бесспорное превосходство.
На темной вонючей лестнице, на грязных, склизких ступеньках двух ее маршей – от второго этажа до выходной двери – еще сжималось, замирало сердце в душной злобе, в мучительном стыду за отца, за этого бедного малограмотного человека-раба, которого вечная нужда, вечный страх за кусок хлеба приучили к бессознательному преклонению перед чужой, недосягаемой собственностью.
Но стоило выйти во двор, увидеть над головою высокое, необыкновенно веселое небо, рваные, быстро бегущие, с золотистой рыжинкой облака, сквозь которые простреливали длинные весенние лучи солнца, стоило услышать звонкую капель и бог весть откуда прилетевший в этот грязный двор синичий свист – и темное развеялось вдруг, разведрилось на душе. Ощущение счастья, какая-то вселенская радость наполнила все существо, все клеточки изумительно легкого, как бы готового к полету тела. Мир был – Весна, Революция, Рита… «Нынче скажу, – подумал Ефим с радостным ужасом. – Нынче обязательно объяснюсь…»
Башенные часы на кокетливой барочной колокольне кафедрального собора пробили девять.
– Фимушка-а!
Рита бежала прямо по лужам, раскрасневшаяся, в распахнутой куртке. Круглые румяные щеки, черные брови вразлет. Темное колечко волос выбилось из-под котиковой круглой шапочки, прилипло к вспотевшему лбу. Она вся была в радужном сиянии синих клочьев неба, солнечных пятен, ледяных брызг. Она была Весна.
Горячей крепкой рукой пожала маленькую костлявую руку Ляндреса, сильная, как парень.
– Написал?
– Спрашиваешь!
Буйный мартовский ветер треплет белые листочки бумаги, норовит вырвать из Ритиных рук. Хохочет Рита.
– Екатерина великая – о! Поехала в Сарское Село! Нет, Фимушка, ты просто гений! Ты самого Тредьяковского за пояс заткнул!
– При чем тут Екатерина? – обижается Ляндрес. – Какой-то еще Тредьяковский… Кто это?
– Ах, да… ты же в частной гимназии учился, у вас не проходили… Тем более гениально!
Она читает вслух, громко, на всю Дворянскую:
На пики взденем! Взденем пики на
Его сиятельство – Деникина!
– А что, плохо? – готовый к бою, хмуро спрашивает Ляндрес.
– Дивно! Но, Фимушка, милый, почему же – сиятельство? Ведь он не князь, не граф… Он генерал, надо – его превосходительство…
– Размер, понимаешь, не позволяет. Ай, да не один ли черт – генерал ведь… Ты ко скольким отделаешься?
– М-м… сейчас – в редакцию, малевать Деникина на пиках, к двенадцати – студия. Часам к четырем, пожалуй. А что?
Смешливо покусывает яркие, чуть пухлые губы. Поправляет выбившиеся из-под шапочки волосы. Застегивает нижние пуговицы кожанки. Верхние не сходятся на груди, вот богатырша! Куда ж ему, тощему, слабосильному…
«Все равно, нынче объяснюсь! – упрямо думает Ляндрес. – Все равно…»
Редактор вчера сказал:
– Что-то, товарищи, о красоте забыли мы. Война, хлеб, транспорт, заводы – это так, это, конечно, первый вопрос на повестке дня, тут, товарищи, спорить не приходится. Но, как говорится, не хлебом единым… Культуру, ребята, надо освещать. Культуру. Нашу. Советскую. Работники культурного фронта у нас в тени как-то. А между прочим, замечательные есть люди…
И он назвал сотрудника музея товарища Легеню. Энтузиаст своего дела. Горит на работе, как говорится…
– Сходи-ка, товарищ Ляндрес, побеседуй, как и что. Он, Легеня, конечно, старого дерева кочерга, но с нами. Такую интеллигенцию привлекать надо. Поощрять. Читал, конечно, как товарищ Ленин на съезде по поводу специалистов ставит вопрос? Ну, вот-вот… Валяй.
Проводив Риту до дверей редакции, Ляндрес «повалил» в музей. Год с небольшим назад ему довелось провести здесь тревожную ночь. В те дни в городе было неспокойно: анархисты шумели, постреливали, грабили магазины, склады. Чтобы сберечь музейные ценности, городской комитет партии организовал ночные дежурства вооруженных коммунистов в помещении музея. В одну из ночей пришлось дежурить и Ефиму. Он хорошо помнил ту февральскую вьюжную ночь, вой бурана за белесыми от пушистого инея, промерзшими окнами высоких, сурово, как бы презрительно молчащих комнат. Странно, фантастично вырисовывались в полумраке очертания диковинной старинной мебели, таинственно мерцали стеклянные витрины, сами собой мелодично, жалобно звенели хрустальные подвески венецианских люстр… И сердито из тускло поблескивающих рам хмурились какие-то важные старики в усыпанных звездами мундирах. Около полуночи где-то далеко, в городе, застучал пулемет, бестолково посыпались отдельные винтовочные выстрелы. «Ну, поглядывай, ребята, – сказал охранникам старшой. – Главное, у подъездов, у черного хода…» Их было пятеро, наряженных на ночное дежурство. Гулко, отзываясь протяжным эхом, звучали шаги. Разговаривали шепотом и все прислушивались, прислушивались… Длинна показалась Ляндресу та ненастная ночь. Он и теперь с чувством какой-то почти детской робости ступил под мрачные тяжелые своды старого дома. Среди провинциального плохонького дворянского ампира и доходных купеческих и мещанских домов этот екатерининских времен дворец выглядел как подлинный большой вельможа, попавший в пеструю компанию мелких, лебезящих и заискивающих перед ним обывателей. Он и стоял-то не в ряду других домов, не по уличной линейке, а в просторной глубине пустынного двора, окруженный приземистыми каменными службами, за которыми в зимней наготе чернел огромный сад, заросший, как лес, с косматыми шапками вороньих гнезд на верхушках столетних деревьев.
Внутри было сумрачно и холодно. Тусклый свет едва проникал сквозь морозные стекла зарешеченных окон нижнего этажа. Просто невозможно было представить здесь, что рядом, на улице, – яркое синее небо, веселое солнце, сверкающие капели сосулек и оглушительный щебет воробьев, почуявших близкое тепло, – такая унылая, такая пещерная тишина стояла под этими насквозь промерзшими сводами.
Тут вся крутогорская история была собрана – от времен незапамятных, от каменных топоров и стрел, от скифских могильных черепков, от древнего русского оружия – мечей, секир и сайдаков – до диковатой современной картинки местного футуриста, где на сумасшедшую неразбериху разноцветных квадратов и кругов аккуратно, прочно была наклеена натуральная дамская туфля со стоптанным французским каблуком, а вся эта чепуха (судя по медной табличке на раме) называлась «Сентиментальный романс».
В низеньких сенях на кокетливом канапе конца восемнадцатого века сидела крохотная старушечка в дворницком тулупе, вязала чулок. Ефим спросил, здесь ли товарищ Легеня.
– Должно, там, – вязальной спицей старушка указала куда-то в глубь темного коридора.
Коридор был довольно широк, но низок, сводчатый потолок давил. Ефиму казалось, что он идет в глубоком подземелье. Пройдя десяток шагов, почувствовал на себе чей-то пристальный, немигающий взгляд сбоку. Не без робости скосил глаза в ту сторону: круглолицая румяная баба в расшитом сарафане и бисерном кокошнике пялилась на него бессмысленно вытаращенными голубыми стекляшками. За нею виднелась другая, третья… целый ряд. В причудливых старинных нарядах, одна ярче, цветистее другой, этнографические бабы провожали Ляндреса своими мертвыми глазами, пока он не оказался у приземистой двустворчатой двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Ефим деликатно постучал.
– Ну, что еще там? – послышался из-за двери сердитый голос. – Да входите же, сделайте одолжение, черт возьми!
В беспорядочном нагромождении картин, статуй, золоченых, черных и красных багетов, каких-то огромных, затейливой формы расписных ваз и стеклянных горок Ефиму не сразу удалось увидеть того, кто так нелюбезно отозвался на его деликатнейший стук. За крохотным вычурным столиком («в стиле Луи Которз», – наобум определил Ляндрес) сидел щуплый человечек в шубе, в шапке, в золотых очках на хрящеватом ястребином носу и что-то записывал в толстую клеенчатую тетрадь.
– Товарищ Легеня? – осведомился Ефим.
– Нуте? – обернулись, сверкнули очки.
– Я из редакции, – сказал Ефим. – Вот хотим рассказать читателям о музее… Заинтересовать массы, так сказать. Осветить.
Очки, метнув молнию, взлетели на лысоватый лоб. Тетрадь захлопнулась
– Ну, и ваша роль… – мямлил Ефим, несколько теряясь под пронзительным взглядом Дениса Денисыча. – Ваши, так сказать, заслуги…
– Моя роль? Мои заслуги? – Денис Денисыч пожал плечами. – Моя роль, молодой человек, очень скромна, а заслуги… заслуги надобно приписать не мне, а людям, сумевшим собрать и уберечь эти ценности. Ну-те-с… Идемте, я покажу вам кое-что, о чем действительно стоит рассказать… Прошу.
Они шли из зала в зал, среди каких-то чудовищных мослов, мамонтовых бивней, заржавевших корабельных якорей и пузатых, похожих на жаб, мортир, среди стеклянных шкафов с драгоценнейшим китайским и французским фарфором. Редкостей было так много, что уже и любопытство притупилось. Вот грубое, плотницкой работы кресло, на котором сиживал царь Петр; вот ветхий трехногий столик, некогда принадлежавший великому русскому поэту; вот синий полковничий мундир героя, дважды простреленный в Бородинском сражении… Цепи и клещи пытошной избы… Черные, похожие на обгорелые доски рукописные книги семнадцатого века… Золоченая, громоздкая, с пухлыми купидонами на дверцах карета, в коей матушка Екатерина совершала свой патриотический вояж из Санкт-Питербурха в новой донской городок Ростов…
Все было необычайно интересно, возле каждой диковинки хотелось постоять, поглазеть, поподробнее расспросить обо всем этого сухопарого, строгого, стремительного в движениях человека. Ляндрес жалел, что с того памятного ночного дежурства, когда на улице стучали пулеметы и было не до разглядывания музейных сокровищ, он так и не удосужился побывать здесь, – сколько раз ведь собирался, да то одно, то другое что-то важное и обязательное становилось поперек пути, и культпоход в музей откладывался, отодвигался на предбудущие времена.
Ефим знал, что за два послереволюционных года музей пополнился особенно ценными экспонатами из частных собраний – помещичьих усадеб, особняков городских богачей и что именно благодаря Легене ни одна вещь не пропала, не ускользнула, не оказалась в чьих-то воровских, нечистых руках. Он неутомимо метался из конца в конец губернии (что по тем временам было делом далеко не безопасным), искал и находил, причем ухитрялся массу новых приобретений не замуровывать на долгий срок в запасники, а сразу определять всему свое место, бесконечно перестраивая и меняя экспозицию выставочных залов. Особенно значительны были пополнения в отделе изобразительного искусства. Денис Денисыч откапывал такие шедевры, какими могла бы гордиться любая картинная галерея Европы.
– Послушайте, – восторженно сказал Ляндрес, – вы удивительный человек!
Денис Денисыч покраснел, как девушка, сконфузился. Пытаясь скрыть замешательство, принялся протирать стекла очков, затем сказал:
– Пожалуйте сюда…
Распахнул двери зала, увешенного картинами. И тут уж Ляндрес растерялся. Бородатые нерусские святые с обнаженными мускулистыми руками, с кудлатыми гривами (лишь золотые венчики над которыми доказывали, что люди эти не разбойники, не воины, а святые), черные фоны пещер, желтое пламя светильников, пыльные черепа и толстые священные книги… Пышнотелые нагие красавицы, сине-черные кирасы рыцарей… Неправдоподобно клубящиеся, напоминающие букли парика тучи, деревья невиданно кудрявые, как бы завитые… Кружевные воротники, парча, необъятные чаши кринолинов… Чужое, непонятное и даже враждебное в этой своей чужой непонятности оказывалось именно тем самым, что составляло главную ценность и гордость музейного собрания.
«Ой, мамочка! – огорченно подумал Ефим. – Одно из двух: или эти бородатые дядьки и скоромные дамочки – сплошная реакционная мура и затемнение мозгов трудящихся, или я – болван и неуч, которому еще учиться да учиться… Эх, вот бы у Ритки спросить!»
Маленький и, как ему казалось, ничтожный и одинокий, стоял он перед этими дюжими святыми бородачами и надменными красавицами, словно бы оглушенный, подавленный телесною крепостью изображенных на картинах странных, никогда не виденных людей, словно бы сквозь сон слышал восторженное бормотание Легени:
– Ах, вот это, взгляните!.. Или вот еще… Нет, дорогой мой, вы только обратите внимание на это плечо, как дьявольски смело выхвачено оно из черноты!
И сыпал звучными незнакомыми именами: Рибейра, Эль-Греко, Сальватор Роза, Тьеполо…
«Ай-яй-яй! – сокрушался Ляндрес. – Хоть бы одна знакомая фамилия!»
– Кисти Виже-Лебрен, – сказал Денис Денисыч, указывая на портрет какого-то сердитого старика в зеленом мундире с огромным, расшитым золотом красным воротником.
– Он что же – русский? – спросил Ляндрес.
– Вы кого имеете в виду?
– Ну, художник… У нас в городе тоже ведь есть Лебрен. Режиссер. Слышали?
– А, вон что! – Денис Денисыч улыбнулся. – Нет, это француженка. Она, Элизабет Луиз. Некоторое время, в конце восемнадцатого века, жила в России, бежала от французской революции.
– Что-о?! – завопил Ляндрес. – Эмигрантка? И тоже – представляет собою ценность?
– М-м… Как вам сказать? Салонный портрет. Техника, конечно, блестящая. Но особой художественной ценности не представляет. Без божества, без вдохновенья, так сказать…
– Да ведь еще и эмигрантка к тому же, – напомнил Ефим. – Контра. Это, товарищ Легеня, тоже следует принять во внимание.
– Контра? – Веселые морщинки разбежались по строгому лицу. – Ну, конечно, вы правы. Роялистка до мозга костей.
«Ай-яй-яй! – опять огорчился Ляндрес. – Ро-я-лист-ка… А я – словно в лужу: контра! Нехорошо. Неинтеллигентно. Недостаток общей культуры… Эти чертовы частные гимназии!»
– Ну-с, – сказал Денис Денисыч, останавливаясь перед небольшим ларчиком. – Вот теперь-то мы с вами и пришли к самому замечательному…
Крохотным ключиком щелкнул в замочной щели, распахнул золоченые створки. В таинственной глубине чернела картинка величиной с ученическую тетрадь. Из коричневато-зеленого сумрака сияло нежное лицо молодой женщины. Склонясь над спящим младенцем, она улыбалась. Седобородый старик стоял за ее спиною, опирался на посох Он стушевывался в глубокой тени, разглядывался не сразу. А за ним, совсем уж в пещерной черноте, лежали козы. На выгнутых рогах иных мерцал золотистый отсвет. Но ни лампады, ни факела: источником света был младенец.
– Рембрандт…
Денис Денисыч сказал благоговейно, приглушенно. И даже руки сложил ладонь к ладони, как бы в молитвенном восторге.
«Об этом человеке я не статью – поэму трахну!» – восторженно подумал Ляндрес.
Потом они сидели внизу, в той захламленной комнате, где произошла их встреча. На печке-буржуйке простуженным голосом сипло пел чайник. Обжигаясь, пили мутноватую, заваренную мятой воду, и Денис Денисыч рассказывал о музее – как создавался. Из ничего. Буквально по крупицам. Стараниями, бескорыстным трудом двух-трех энтузиастов. Упомянул несколько фамилий и сказал:
– Вот о них обязательно напишите.
– Эти товарищи сейчас в Крутогорске? – поинтересовался Ляндрес.
– В могиле, – строго сказал Денис Денисыч. – Тиф. Голод. Один (он назвал фамилию) от шальной пули погиб, когда анархисты хулиганили. Но вот что я вам хочу сказать, молодой человек… История создания музея, это, конечно, важно, об этом стоит вспомнить, смотрите только, чтоб не получилось сухо, как этакий, знаете, официальный отчет…
Ефим чуточку обиделся.
– Да уж постараюсь, – смущенно пробормотал. – Такой замечательный очаг культуры… картины и все такое…
– Вот именно, насчет очага-то. Тут, знаете, в будущей статье вашей такую мысль необходимо высказать: Рембрандт, освобожденный Революцией. Понимаете? Ведь от всего мира был скрыт, замурован, даже погребен в земле…
– То есть как в земле? В каком смысле?
– А в самом буквальном. Эта дивная картинка считалась утерянной. Она, конечно, значилась в числе работ великого голландца, но с пометкой «местонахождение неизвестно». Послушайте, – золотые очки сверкнули, взлетели на лоб, – у вас есть время?
Ефим вспомнил о Рите: до четырех еще два часа оставалось.
– Времени – вагон! – сказал да и спохватился: в музейной обстановке жаргончик был явно неуместен.
– Ну, если вагон, – улыбнулся Денис Денисыч, – тогда извольте слушать. На вашем месте я бы не статью о музее, а вот такой рассказ написал…
ОСВОБОЖДЕНИЕ РЕМБРАНДТА
Война захватила князя Щербину-Щербинского в Мадриде. Он был одним из тех сиятельных бездельников, для которых понятие отечества, Родины было очень туманно, а верней сказать, просто не существовало. Франция, Испания, Швейцария с их курортами и развлечениями – вот что заменяло ему отечество. Даже вздорное княжество Монакское, крохотное государство игроков и шалопаев всего мира, и то было роднее и ближе князю Ростиславу, чем далекая Россия, ее природа, ее избы и мужики, о которых он с детства усвоил одно лишь – что они невежественны и дурно пахнут овчиной и дегтем.
Его род был богат и знатен. Когда-то князья Щербины-Щербинские стояли «в челе России», как говаривали в старину, то есть водили рати, сидели в государевой думе или ехали воеводствовать в богатые большие города. Еще при Екатерине один из Щербинских был довольно влиятельным лицом в государстве. С этим екатерининским вельможей и угасла государственная деятельность знаменитого рода; за сотню лет Щербины-Щербинские измельчали и выродились. В память о прошлом величии остались одни лишь грамоты, предания да портретная галерея – от безыменных «парсун» до великолепных Рокотова и Боровиковского: важные, надменные господа в густо напудренных париках и расшитых, усыпанных алмазами и орденами мундирах. Одним несметным богатством держалась слава неудалых потомков. Но, как денежного богатства, земель и мужиков было множество, – оно, богатство это, и возмещало нищету талантов, и хотя Щербинские девятнадцатого и двадцатого веков в государственных мужах не ходили, все равно фамилия их была знаменита, а жизнь протекала в бездействии и излишнем довольстве.
Итак, последний в роде, князь Ростислав, жил в Мадриде. Там он занимался иногда приятным, а иногда утомительным ничегонеделанием, аккуратно получая из российских поместий немалые деньги, выручаемые от земельных арендаторов и продажи лесов и сенокосных угодий. В губернском городе Крутогорске у него был большой старый дом, куда он наезжал раз в пять-шесть лет. В этом-то доме и береглись в течение без малого двух веков семейные родовые ценности Щербинских: портреты, грамоты, дарственные сервизы, табакерки и прочая памятная дребедень. Среди всего этого дорогого фамильного хлама хранилось несколько хороших картин русских и иностранных мастеров конца восемнадцатого и первой половины девятнадцатого века, таких, как Делякруа, Жерико, Коро, Брюллов, Кипренский, Венецианов. Об этой картинной галерее в городе знали отлично, и когда княжеский особняк в восемнадцатом объявили собственностью народа, туда направился один из сотрудников музея – осмотреть картины и вещи и отобрать наиболее ценное, чтобы включить в экспозицию. Этим сотрудником был Денис Денисыч Легеня.
– Я пришел туда, – рассказывал он Ляндресу, – когда в доме уже успели побывать какие-то темные личности. Верней всего, это были просто-напросто ворюги, бандиты, хотя встретившему их старику домоуправителю (единственному, кстати, из княжеской прислуги, не покинувшему дом) они назвались «комиссарами Советской власти». Полагаю, что были эти самозванцы пьяны в стельку, иначе зачем бы им понадобилось так дико и бессмысленно портить вещи? А они вдребезги расколотили огромные зеркала и выломали клавиши в дорогом блютнеровском рояле.
Нуте-с, пришел я. Все тот же старичок (его звали Александр Романыч Ловягин, это имя и в акте зафиксировано) встретил меня, как, вероятно, сами догадываетесь, без особого восторга. А когда я предъявил ему мандат, усмехнулся, знаете, этак, с откровенной ехидцей и сказал: «Что ж, сударь, ежели обратно зеркала бить пожаловали, так опоздали – все уже ваши комиссары перебили…» Я, разумеется, не понял, какие зеркала? Какие комиссары? «В чем, говорю, почтеннейший, дело? Объяснитесь». Ну-с, он мне и рассказал. «Черт возьми, – думаю, – может, эти авантюристы и картины погубили…» Спрашиваю старичка. «Нет, – отвечает, – картины, благодарение господу, не тронули. Золотишко какое, серебро столовое – это, действительно, уволокли, а картинами – нет, не интересовались». – «Ну, – говорю, – дорогой товарищ, ведите меня, показывайте, где картины». – «Так вы, стало быть, насчет картин соображаете? Как же, мол, резать их или в печке жечь будете?» Объясняю ему – с какой целью пришел, про музей толкую, что картины там, дескать, еще сохраннее будут. Нет, вижу, не верит ни на копейку. «Что ж, – говорит, – ваша власть, берите…»
Да-с, вот видите, молодой человек, какие дела-то… Отобрал я из княжеской коллекции несколько вещей. Отличный Жерико – бегущая лошадка, Делякруа – мальчик в красной феске… Ну, Рокотов, Боровиковский – прелесть, чудо! Все это, разумеется, превосходно, но мы-то, старые крутогорцы, мы-то ведь и о княжеском Рембрандте были отлично наслышаны. И даже какими судьбами несравненная эта вещица попала в богоспасаемый город наш – и это, представьте себе, знали еще с гимназических лет. История эта тоже, надо полагать, будет вам небезынтересна, но о ней когда-нибудь после… Да-с, так вот. Верчу, знаете ли, головой туда-сюда, заглядываю в шкафы, в горки, в бюро – нет как нет, словно сквозь землю провалился Рембрандт! Старичок же мой, видя, что я уже, оставив картины, принялся по укладкам шарить, этак деликатнейше намекает, что какие же, дескать, могут быть картины в укладках-то? «Или, – говорит, – вас, государь мой, еще что и помимо картин интересует?» Нуте-с, выкладываю ему прямо, без обиняков, что именно ищу; про медный ларчик рассказываю, в коем сия крохотная картинка, – где, мол, она? Вижу, нахмурился старикан, этак презрительно поджал губы, отвернулся. «Не могу знать, – отвечает, – ищите». Чувствую, что спрятано где-то сокровище, а где? Дом велик, старинной постройки домище, надо думать, и тайнички имеются. «Да вы, – говорю, – родной мой, не запирайтесь, скажите… Не для себя ведь, для всего русского народа прошу!» Молчит, пожимает плечами да уж и вовсе как-то отвернулся, словно магической чертой отгородился от меня. Да, да, интереснейший случай, знаете… ну, просто, знаете ли, роман… Что?
Это рассеянное «что?» Денис Денисыч пустил куда-то в пространство, ни к кому не обращаясь, нежно поглаживая рукою ту черную тетрадь, которую захлопнул при появлении Ляндреса. Он далеко сейчас пребывал, в том дивном мире, что скрывался под клеенчатой обложкой. (Там смуглый молодой грек Дионисий писал узколицую богородицу для первой русской церкви… Да, да, кто же спорит, греческие изографы написали первые русские образа, но был же ведь и первый русский художник! И так ярко, так живо предстал в воображений некий юноша, чертящий на речном песке те странные лики, какие никто не видел, лишь он один… Конечно, конечно, его рукою была написана первая русская мадонна!)
– Ну? – не выдержал Ефим. – Нашли же ведь все-таки! Где? Как?
– Простите, – сказал Денис Денисыч. – Одну минуту…
Он отогнул краешек клеенчатой обложки и меленько записал: «Первый рус. худож.». И засмеялся счастливо.
– Нет, представьте себе, – сказал, обернувшись к Ляндресу, – так-таки и не нашел!
– Но как же…
– А вот слушайте. Дня через два иду на работу, гляжу – у ворот музея княжеский старикан. «Мое почтение, – говорю, – вы ко мне с какими-нибудь претензиями?» – «Нет, – отвечает, – какие претензии. Идемте». И пошли мы с ним в княжеский сад, и вручил он мне лопату и велел копать под досками пола старой, почти развалившейся беседки, и там…
– Ах, здрасьте-пожалсте! – подпрыгнул Ефим. – Так ведь это же целая поэма!
– Именно, – сказал Денис Денисыч. – Вот вы и опишите, как был освобожден Рембрандт. И как старый слуга предал его сиятельство во имя…
– …ее величества Революции! – со смехом докончил Ляндрес. И, как была уже половина четвертого, наскоро распрощался с Легеней и побежал к театральной студии.
Утреннее сияние померкло, синее небо затягивалось туманной наволочью. Но жизнь все равно казалась бесконечным праздником. В лохматой голове клокотали, кипели еще не сложенные стихи; утлая коробка черепа едва сдерживала штормовые валы слов, образов, мелодий. Они накатывались на бурно пульсирующие виски; грозили, сломав, уничтожив хрупкую костяную преграду, выхлестнуть наружу, затопить все к чертовой матери, искрящимся гребнем волны прянуть в небо и спустя мгновение рухнуть к ногам любимой… и умереть от счастья!
В непомерно головастой оболочке тела метался, безумно бредил одержимый поэзией Ляндрес. Но в этой же оболочке неусыпно бодрствовал другой Ляндрес, Ляндрес-двойник, коммунист, член РКП с января восемнадцатого года. Этот последний призвал к порядку расходившегося поэта, велел шагать смирно, без глупостей.
Но недоглядел все-таки. И сырой, туманный мартовский воздух был сотрясен строчкой поэтического бреда:
Весна – Революция – Рита…
За это готов умереть!
Они расстались у последних деревьев Ботанического сада. В зыбкую стену промозглой хмари уходила Рита…
Навсегда!
Ах, дурак… ах, кривляка! Ну, зачем, зачем сказал он эти пошлейшие слова! Ведь как все хорошо, как все просто было, по-товарищески, как-то по-мальчишески даже. Мало тебе, идиоту, показалось бесплотной мечты? Захотелось чего-то такого, что уже за чертой обыкновенной жизни, обыкновенных будничных отношений?
Тощая плоть заговорила… Ай-яй-яй!
Бывало, провожая ее к институту, долгой дорогой стихи читал, острил, гримасничал, выкидывал всякие штучки, и она смеялась с милой хрипотцой, махала руками, изнемогая: «Ой, Фимушка, милый! Ой, уморил!» Ее легко было смешить, но Ляндресовы стихи принимала довольно равнодушно, судила прямо, резко. Большею частью они ей не нравились, она говорила: «Господи, ну чего фокусничаешь? Просто, просто надо писать, вот так…» И читала:








