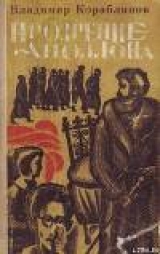
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
– Жалко жеребца-то… – ласково пел Тюфейкин. – Полукровка, видать, такой резвый… Ить надо ж, как угораздило, тентиль-вентиль, – прямо под левую лопатку попала! Вот грех-то… Ну, ладно, хоть сбруя добрая осталась. А портфелю вашу мы не видели, – обернулся он к Денису Денисычу. – Очки, действительно, валялись в стерне, а портфеля не было… А, Еремин? Верно ведь?
– Верно, – сказал Еремин, – портфеля не было. Я все кругом дочиста обыскал – одни очки…
– Значит, Гундырь на вашу портфелю польстился, унес, собака, – милиционер сочувственно покачал головой. – Что, верно, деньги, казенные суммы? И много?
– Да нет, какие деньги… Так, бумаги, чернильница, записки черновые в тетради…
– Ну, это, тентиль-вентиль, пустое, – сказал Тюфейкин. – Увидит, что денег нету, – выкинет.
– Жалко, – вздохнул Денис Денисыч.
– Может, записки-то поважней денег, – сказал Бахолдин. – Ты, Еремин, вот что: пока Петелина нету, сходи-ка еще пошукай.
Еремин с готовностью вскочил и пошел в сторону леса, глядя под ноги, вертя головой туда и сюда.
«Вот досада, – подумал Денис Денисыч, – и на какого черта было брать с собой тетрадь… Глупо! Ужасно все глупо получилось».
Он опять поглядел на убитого жеребца, на перевернутую телегу. И дико, невероятно ему показалось, что вот так, жалеючи, сокрушенно говорят о лошади, а те, что лежат под веретьем – люди, свои, здешние мужики, – как бы и жалости не достойны: «срезали», «ссадили», и все, точка. С удивлением и с некоторым даже страхом поглядел на этих троих, сидящих возле него: что за люди? Убить человека и не ужаснуться содеянному, а спокойно толковать о жеребце, о сбруе, о том, что шкуру надо снять с убитой лошади…
Но люди были самые обыкновенные, – встретишь так-то да и пройдешь, не заметив. Товарищ Бахолдин, видимо главный у них, костлявый, болезненного вида человек с нехорошим ржавым румянцем на бледных впалых щеках, сидел, привалясь к скирде, устало полузакрыв синеватые веки. Его голый лоб был влажен, на потном виске заметно трепетала жилка. Милиционер Тюфейкин, поджав по-турецки ноги, сидел на самом солнцепеке, грелся, просушивал ватную телогрейку, от которой валил пар. На его добром румяном лице сияло выражение довольства и покоя. Комсомолец Еремин был почти уже возле леса, на черном фоне деревьев ярким цветком татарника алел малиновый верх его кубанки.
Да, обыкновенные и, наверно, даже хорошие люди, не чета, конечно, тем, с какими встретился ночью… Но как же так? Эта хладнокровная жестокость?
«Такая, брат, нынче жизня, – вспомнил Легеня слова круглорожего мужика. – Не знай как об ней и рассудить…»
Они довезли Дениса Денисыча до самого Камлыка, прямо к школе, где квартировал писавший в губнаробраз учитель Понамарев. Тощий, подслеповатый, с какой-то семинарской чуднинкой, он обрадовался Легене, долго тряс руку, все твердил: «Очень хорошо, прекрасно-с!» – и говорил, говорил…
Действительно, картин по камлыкским дворам рассеяно было великое множество. Мясистые нимфы, белые лебеди, ангелы, полуобнаженные и совершенно обнаженные гаремные красотки, ландшафты с водопадами и морскими бурями, натюрморты с битой дичью, хрустальными бокалами, арбузами и персиками, – всего этого добра было пропасть. Заключенное в раззолоченные аляповатые рамы, оно пестрело – краснело, голубело, розовело и зеленело на каждом шагу. Шедевры базарной выделки во всю бездонную глотку кричали о знаниях и вкусе прежнего владельца, махорочного фабриканта Филина.
Денис Денисыч с учителем село из конца в конец прошли, заглянули чуть ли не в каждый двор, но все без толку: глазу не на чем было остановиться. Грудастая Леда, кокетничающая с плохо, беспомощно нарисованным лебедем, красовалась на дверце курятника; пухлый купидон нацеливался из лука в старый хомут под навесом-погребицы; какое-то бурное море с тонущими кораблями накрывало кадушку для отрубей.
– Вот-с, не угодно ли! – возмущенно трепетал бородкой учитель Понамарев. – Вандализм! Вопиющее невежество! Произведения искусства – в свинюшнике! А? Что вы на это скажете?
Денис Денисыч сказал, что всем этим нимфам и купидонам едва ли найдется лучшее применение.
– Разве что вот несколько рам…
Учитель сперва не понял, ошалело таращил глаза.
– То есть как же-с… позвольте? Какое же это применение? – недоуменно спросил. – В катухе-с?
– Вот именно, – сердито сказал Денис Денисыч – В катухе-с.
Всякое в его поездках случалось, но такое… Ему живо представилось свиное мурло махорочного фабриканта, ударившегося в моду коллекционирования. Зло взяло, что вот этак бессмысленно проездил да еще и влип в идиотскую историю с бандитами, чуть жизнью не поплатился, рукопись потерял – и из-за чего? Из-за дерьма, из-за ярко размалеванного мусора.
– Так-таки ничего и не обнаружили? – заикаясь от обиды, спросил учитель. Он стоял посреди зеленого выгона, возле церкви, засунув руки в карманы пятнисто-синих, из дурно выкрашенной холстины брюк, раскачиваясь с каблуков на носки. – Так-таки и ничего ценного?
– Ничего, представьте, – сказал Денис Денисыч. – Исключительная чепуха. Базарная мазня.
Задрав голову, он разглядывал церковную колокольню. Это было довольно интересное барокко конца восемнадцатого века.
– Вот это разве…
– Ка-а-к?! Церковь?!
– Да… но тут уж мы с вами ничего не можем сделать, ее в музей не увезешь.
– Прекрасно-с, прекрасно-с… очень хорошо-с! – Учитель откровенно недоверчиво оглядывал Легеню. И вдруг выпалил неожиданно: – А позвольте, дорогой товарищ, ваш мандатик?
И долго читал бумагу, вертел так и этак, для чего-то смотрел на свет, качал головой, видимо сомневаясь.
– Ну что ж, – сказал наконец, – если так, то извиняюсь, конечно, за беспокойство. Придется написать в высшие инстанции…
– Да для чего же, помилуйте? – улыбнулся Денис Денисыч. – Вы мне не верите?
– Не верю-с, – твердо отчеканил учитель. – Да и кто же вам поверит? Миллионер-с, на всю Россию знаменитая фирма – и вот тебе, вдруг…
– Это вы о ком? – не понял Легеня.
– О ком же – о Филине Сысой Матвеиче-с. Не глупее же они вашего были-с. У них художники даже на жаловании служили…
– Ну и пишите! – вспыхнул Денис Денисыч. – Можете хоть самому наркому писать, если вам кроме делать нечего.
– И напишу-с! – взвизгнул учитель. – Вот именно, самому товарищу Луначарскому и напишу-с!
Учитель Понамарев ушел разобиженный.
«Ну, анекдот! – подумал Денис Денисыч. – Да еще и какой скверный анекдот-то…»
Он присел на бревнышко в холодок под старым ясенем, буйно разросшимся над воротами церковной ограды. Невеселые были его мысли: поезд на Крутогорск идет ночью, значит, надо бы, не мешкая, сейчас же шагать в Садаково. Но… двадцать верст по грязной, еще не просохшей дороге… Но боль в голове, разбитость во всем теле. Еще бы, битых три часа таскаться по селу, да натощак… Впрочем, есть уже не хотелось, перетерпел, но – спать, спать…
Ласково, задушевно шептала густая листва над головой. Какие-то дивные запахи от ясеня, от скошенной на церковном дворе отавы, от теплой парной земли обволакивали легким облаком. И вот так бы, закрыв глаза, сидеть да сидеть, забыть про житейские дрязги, кровь, злобу, отмахнуться от всего, что извне, а только чувствовать, что внутри тебя, вдыхать эти сладковатые запахи земли, слушать шепот деревьев, негромкий пересвист синичек над головой…
Но был Легеня из тех людей, помыслы которых о покое так и остаются лишь помыслами: жизнь только и делает, что разрушает эти иллюзии и – хочешь не хочешь – велит действовать. Сейчас, например, он, может, и заснул бы в тишине под ясенем и, может, хоть на малое время обрел бы желанный покой, но Жизнь по зеленой мураве церковного выгона подкралась неслышно и над самым ухом пропела звонким, чуть хрипловатым тенорком:
– Ну, как делишки, товарищ Легеня! Много ль чего обнаружил по деревенским дворам?
Денис Денисыч вздрогнул, открыл глаза. Перед ним стоял давешний милиционер Тюфейкин, с добрым любопытством разглядывал этого чудного очкастого культпросветчика, которого в перестрелке с гундыревцами очень свободно мог бы и укокошить. «Откуда он взялся?» – удивился Легеня.
– К сожалению, ничего не обнаружил, – растерянно сказал. – Одни рамы золотые, да и те дрянь, в печку только, на растопку.
– Плохие же, значит, ваши дела, – посочувствовал милиционер. Он присел рядом на бревнышке, свернул огромную, с длинной ножкой цигарку, но табаку в нее не насыпал, а так, пустую, сунул в рот, стал чмокать, посасывать.
– Это я так от курева отвыкаю, – сказал. – А то, ну ее к черту, в грудях, тентиль-вентиль, чегой-то сипеть стало, не отхаркаюсь, да и на… Ничего, значит, нету по художественной части такого особого…
Он задумчиво поглядел на Дениса Денисыча, но как бы мимо, как бы не замечая его.
– Тогда вот что. Время сейчас, – он поглядел на огромные, переделанные из карманных ручные часы, – время сейчас половина шестого, все равно засветло до станции не доберетесь, а ходить по нашим дорогам ночью – сами видели – лучше не пробовать… Ночевать придется, товарищ Легеня. И вот есть у меня соображение – свести вас к одной старушечке, у ней и переспите спокойно до завтрева… да заодно и поглядите, может, у ней-то, у Егорьевны у нашей, и находится самая что ни на есть первейшая художественная драгоценность.
С лукавой усмешкой поглядел на Дениса Денисыча, подмигнул даже: вот, мол, как я тебя, тентиль-вентиль, озадачил!
Действительно, это вышло так неожиданно и интересно, что у Дениса Денисыча и боль и усталость как ветром сдуло.
И они пошли к старушечке.
Ее кособокая вдовья избенка стояла на отшибе, у самого леса, вплотную прислонясь к веселому разнодеревью, где и береза светлела, и алая рябина разбрызгала свои бусинки-ягодки, и чуть пожелтевшие лапчатые листья клена узорчато вкрапливались в зеленую черноту молодой сосновой посадки.
В лопухах, в чертополохе, среди мелкого кустарника, прихотливо вилась не слишком притоптанная тропка, по которой словно вот только-только прокатился лукавый, от бабушки с дедушкой убежавший колобок… И оттого, что колобок вспомнился, и от непонятности – для чего крохотная избенка эта, бог знает откуда взялась, притулилась тут, на отшибе от села, – все вдруг обернулось забытой бабушкиной сказкой, и таким желанным русским, с детства всю жизнь носимым в себе, заветным и береженым русским повеяло!
А на голенастых кольях ветхого, трухлявого плетня, куда деревенские хозяюшки обычно надевают сушить корчажки, диковинно белели конские черепа. И длинные снизки желтоватых яблочек-кисличек нарядными ожерельями висели под ними.
– Ах, что это? Какая прелесть! – не удержался, воскликнул пораженный Денис Денисыч.
– Павлюшка это все… – засмеялся Тюфейкин. – Непонятный, чудной малый… Эй, жива, Егорьевна? – крикнул он, отворяя лычком завязанную плетневую калитку.
Что-то загремело в избенке, словно ведро уронили, стукнула железная щеколда, и из распахнутой двери, как птичка из часов, выскочила крохотная старушка.
– Ой и настращал же ты меня, Афоня! – дробным смешком рассыпалась, замахала коротенькими ручками. – Орет как оглашенный, ей-пра… аж трусюсь вся от зыку от твоего…
– Чтой-то, бабка, не видать, чтоб оробела… С нечистой силой вроде бы по-свойски, в кумовстве живешь, а тут – на-ко, тентиль-вентиль, оробела…
– Ох-и! – Егорьевна частыми-частыми крестиками закрестилась в ужасе. – Да что ж ты, бесстыжи твои глаза, этак страмотишь меня перед чужим-то человеком!
Денис Денисыч снял шляпу, поклонился.
– Она, товарищ Легеня, у нас… как бы этак сказать, не обидеть, ведьмачкой числится, ну, это… ворожейкой, что ли. Да ты не серчай, Егорьевна, я ить правду истинную гутарю. Темный еще народишко, необразованный, чего не наплетут… Какие могут быть ведьмы в сейчасошнее время или там что… Верно, товарищ Легеня? Ну, факт! Вот, бабушка, привел человека, нехай погостит у тебя до завтрева…
– Ну-к что ж, ну-к что ж, милости просим, – засуетилась, рассияла чудесной улыбкой, все лучики морщинок дивно засветились на крохотном личике. – Пожалуйте в горницу, чего ж мы тут-то…
От ветхости крохотные оконца осели, перекосились; мутные глазки стекол были составлены из кусочков; потолочная балка провисла, ее подпирал грубо отесанный кривой стояк; зыбкий пол, латаный и перелатаный, как живой ходил под ногами; и кирпичная кладка печи треснула по всему челу наискосок. Да и сама хозяйка была под стать старому жилищу: сухенькая, сморщенная, одета бедно, что юбка, что кофта, заплата на заплате, все ношенное не год, не два – десятилетия.
Сиротство, скудность, нужда жили здесь прочно. Однако не сразу разглядывались эти безрадостные жильцы, они хоронились за опрятностью, за чисто вымытыми, выскобленными досками пола, двери, столешницы; за красиво расшитым красными и черными цветами старинным рушником под дешевыми, одесского литографического изделия образами в фольговых завитушках; за размалеванной петухами и маками огромной, в пол-избы, печью; за черепяными махотками с зеленью лекарственного столетника и душистой «розовой травки», расставленными на подоконниках двух крохотных окошек.
Но главное, что делало комнатку нарядной и необыкновенной, были картинки. Нет, не те, в золоченых рамках из филинского дома, за какие так тревожился учитель Понамарев, – иные. Те, филинские, огромные, кричащей пестрой мазней подделываясь под красоту мира, на самом деле мир этот закрывали, застили своими многоаршинными холстами и завитушками пудовых багетов; эти же, маленькие, необрамленные, сами по себе были как бы окнами в прекрасный, полный света и воздуха мир. Наивными, чистыми, даже младенческими, может быть, глазами виделось изображенное: первый снег, сорока на плетне, лесная омутинка – черная вода и на ней опавшие листья. Крылечко и мальвы. Егорьевна, вся в морщинках, лукавая, сказочная. Наконец, тентиль-вентиль, сам милиционер Тюфейкин в милицейском картузике-снегире с ослепительно алым верхом, особенно, прямо-таки нестерпимо-алым на фоне серенького, похоже осеннего, неба…
Все это было нарисовано точно, написано широко и смело, и все это жило, дышало, светилось и даже рождало какие-то неясные музыкальные намеки: песня на вечерней заре, печальный голос жалейки, могучие вздохи органа (облака над озером)…
«Так ведь это же, черт возьми, гениально! Но это, скорей всего, сон… – Денис Денисыч вспомнил зеленый выгон у церкви, ласковый шум ясеня над головой. – Да, конечно, я задремал на бревнышке и вот вижу сон… Он сейчас кончится, и снова будет выгон, церковная ограда, монотонный шум дерева и ветра…»
Однако не шелест листвы и не ветер услышал Денис Денисыч, а певучий говор Тюфейкина.
– Жаль, жаль, что Павлюшки-то нету, – ласково пел милиционер, – ишь ты ведь какая история… Вот из губернии товарищ приехал насчет картин, какие с барского двора порастаскали. Человек, значит, ученый, сведущий по живописной части. И вот, понимаешь, собрался было ко двору обратно ехать, а я говорю – куда ж, дискать, на ночь-то глядя? Да еще и такая мыслишка была: нехай, дискать, поглядит на Павлиново рукоделье, чего, может, присоветует, – учиться малому ай как… Ну, что скажешь, товарищ Легеня? Востер ведь малец, верно? Глянь, как меня-то изобразил, – потеха!
– Но кто же все это написал? – спросил изумленный, совершенно сбитый с толку Денис Денисыч.
– Кто-кто… да Павлин же! Я ж тебе толкую… Мальчонка, внучок, стал быть, Егорьевной этой самой, старушки нашей расчудесной…
– Павлюша, сударь, все Павлюша, – пригорюнилась, вздохнула Егорьевна. – То и знай все малюет, все малюет… А чтобы там по хозяйству чего, хошь бы взять приступочек на крыльце ай плетенюшку поправить – и-и, сударь, никак не может, вовсе неудалый он у меня, одно слово – ветютень…
– Э-эх, Егорьевна, милушка, как рассуждаешь! – сокрушенно и немного презрительно сказал Тюфеикин. – Темный ты все же человек. Ветютень! Да он, Павлюха-то, может, великим спецом станет по этому, стал быть, делу… Нонче, бабка, не при старом режиме, – пожалуйста, дорога никому не закрыта… Ну, ладно, – поглядел на огромные свои часы и встал решительно, – разбалакался я тут с вами, тентиль-вентиль, пошел, стал быть… Так ты, товарищ Легеня, прикинь насчет малого-то, может, и верно чего присоветуешь…
И уже с порога сказал:
– Будешь с ним гутарить, так шуми подюжей – глуховат, стал быть, маленько. А то, еще лучше, сядь поближе да на ухо этак тихонечко… На ухо ежели, так он и шепотом услышит.
«Откуда такая смелость, такая техника? – удивлялся Денис Денисыч, разглядывая Павлиновы картинки. – Мальчику, говорят, семнадцати нет, ничего не видел, все – сам. Ведь вот взять хоть этот портрет… Цорн! Настоящий Цорн! Какой широкий, смелый мазок, какие горячие краски… Подробнейше, ювелирно выписанные морщиночки, ротик гузочкой… синеватые вены грубых, корявых рук, – как тонко и точно, но без натуралистического рабства, и вдруг – кофта, юбка, платок, все – шлеп, шлеп! Мастихином, что ли? Да какой мастихин, откуда… Ножом, верно, шлепал или стамеской… А тут – извольте – просто-напросто пальцем мазнул… Какая техническая изощренность! Что это? Чудо века? Фантастично! Невероятно!»
Глядел Денис Денисыч, не мог наглядеться, про все забыл: и что сутки скоро, как поел в последний раз, и что такая ужасная была ночь, и что зря только проездил в этот чертов Камлык.
Нет, не зря, не зря! Открыть такое диво не каждому, черт возьми, доведется!
Бабушка Егорьевна около печки хлопотала, зажгла на загнетке щепочки, чугунок пристроила. И все сокрушалась: куда ж это Павлюшка запропастился, как ушел с утра, так и до се нету…
– И все в лес, сударь, и все в лес… Кажной божий день в лесу, ах, бесстрашной! – говорила, словно сказку сказывала. – Легко ль, сударь, дело, по нонешнему времю-то в лесу, не медведь, не волк – разбойники, дизентиры энти… бандиты, одним словом, ну, лихие люди. Изобидят мальчонку, а ить он хоть, пущай, и неправый этта, с бусорком, да все жалко, своя, сударь, кровинушка…
Веселый огонек потрескивает, разгорается на загнетке, ветер нежно звенит в трубе, словно осторожно трогает какой-то диковинный погремок, и не то озорничает, не то убаюкивает… И журчит лесным, сокровенным в траве, светлым ключиком журчит Егорьевна:
– Вот так-то, сударь, намедни пошла на подтопку хмызку́ собрать… Всего и делов-то, каких-нито сажней двадцать от двора отошла – и-их, как свистнет в лесу-то! А в ответ, слышу, кочетом закричал. Мати царица небесная! Альни вся нутрё упала, напужалась, всё трясмя трясет, ноженьки не́йдут, рученьки не владают… Да. Тут какой-то голенастый, в галихве в кожаных, на стежку вышел. В руках – ружье, иржет, что твой жеребец: «Ты, бабка, твою растак, какую такую имеешь праву тут ходить?» Ох, мол, батюшка, да я за хмызком только, прости… «То-то, говорит, за хмызком, знаем мы вас, таких-разэтаких!!» Да как свистнет обратно, как свистнет, а ему из лесу-то – все кочетом, кочетом…
Егорьевна журчит, ветер позванивает… За крохотным оконцем мальвы колышутся, как плывут… Конский белый череп глядит в оконный глазок: «Дивчина, дивчина, пересади через порог!» Ну, не сказка ли?..
Вот оно, когда откликнулись все треволнения дороги и бессонная ночь: сидя, заснул Денис Денисыч, и сам не заметил как. Сперва были ветер, мальвы да бабкин ключик журчал; затем дремучий лес обступил, сосны такие, что задерешь голову – макушек не видать, и там, вверху, чуть ли не под самыми облаками, кричат, перекликаются горластые кочета. Так незаметно из яви шагнул Денис Денисыч в сновидение, где среди всего прочего предстал перед ним учитель Понамарев, в кожаных галифе и с ружьем, кричал сердито, потрясая винтовкой, грозился написать про Денис Денисычев саботаж не кому-нибудь, а именно тем самым кочетам, что перекликаются под облаками… Но Дениса Денисыча не учитель Понамарев и не его ружье и угрозы страшили: дробный стук телеги по неровной дороге, бряканье сбруи, далекие пьяные мужицкие голоса… И он рванулся в ужасе, побежал напролом – через кусты, через чащу, спотыкаясь о корневища сосен; падая, снова подымался и бежал, пока не поредели деревья, пока небо не сверкнуло веселыми голубыми заплатками. А там Егорьевна бродила меж молодых сосенок, в лукошко собирала хмызок… «Ах-и! – всплеснула коротенькими тряпичными ручками. – Да где ж это тебя, болезного, носило до ночи!»
Вздрогнул Денис Денисыч, очнулся. В дверях стоял щуплый паренек. Сильно попорченное оспой, совсем ребячье, худенькое личико, плащишко брезентовый трепаный, темные волосы неумело, неровными рядками, стрижены кое-как, заплатанные порточки, лапти, холщовая сумка через плечо… Стоял паренек, огромными синими глазищами жадно уставясь на Дениса Денисыча.
– Ну, вот, сударь, и Павлюша наш припожаловал, – зачастила, застрекотала Егорьевна. – Это, деточка, человек городской, ученый…
– Здравствуйте, Павлюша, – почему-то робея под синим взглядом, сказал Денис Денисыч. – Очень, очень рад познакомиться с вами… Денис Денисыч меня зовут.
Странно и страшно было подумать о том, что вот в этом затерявшемся на российских просторных землях Камлыке, в этой кособокой избенке живет никому не ведомое и никем не хранимое чудо. Странно и страшно было вообразить, что чудо это легко могло быть уничтожено – оспой, голодом, лихим человеком. И гибель его прошла бы незамеченной, и навсегда исчезло бы чудо, не оставив по себе никакой памяти, лишь крестик плохенький в бурьяне сельского кладбища. Да, может быть, чей-то вздох равнодушный, к случаю, при разговоре: «Вот, мол, и осталась одна старушка наша, вовсе осиротела… Да ведь, милые, и мальчонка-то, царство ему небесное, пустой был, неправый, ему одно лишь – малевать да малевать, а чтоб там чего по хозяйству – нет, на это покойник совсем никудышный был…»
Большое богатое село Верхний Камлык, пятьсот с лишним дворов, три лавки, мельница паровая, крупорушка, две школы – одна земская, другая при церкви… Сколько народу прошло-проехало мимо, а вот никто не заметил, никто не оценил, не угадал.
Один милиционер Тюфейкин, спасибо ему.
Так что, не явись нынче сюда Денис Денисыч, все равно, конечно, помог бы Тюфейкин малому, дал бы знать о великом чуде в губернию, в Москву даже, может быть… А что – почему бы и не в Москву? Но зачем толковать об этом, когда и так все отлично сложилось. Случайно, правда, ну так что? Ведь сложилось же!
Темная, черная, вся в звездах-зернах, предосенняя ночь. Нет-нет да и упадет из мрака, царапнет по черному куполу крохотная золотая пылинка и исчезнет на полпути к земле, к камлыцкому лесу, где в неглубоких сырых землянках хоронится от милиции пустой, неприкаянный народишко – дезертиры, зеленые, как их называют в деревне. Где, прилепившись к самой опушке, едва угадывается в мглистых потемках крохотный сиротский домишко и смутно белеют вздетые на плетневые колья старые конские черепа…
Где такой между двумя людьми негромкий идет разговор:
– Я, бывало, все угольком рисовал, – тихо, ровно, как все глухие, говорит Павлин. – Все как есть стены замарал… Ну бабаня и бранилась же! Потом дядя Афоня мне книжку где-то раздобыл, атлас называется: на одной стороне всякие земли, моря, а другая чистая. И карандаши разноцветные. Двенадцать карандашей – ах, и хороши же!
– Это какой же Афоня? – Денис Денисыч тоже, как и Павлин, тихонько говорит, близко наклонясь к уху мальчика.
– Да какой-такой – Тюфейкин, который милиционер. Он, правда, баскаковский сам, да тут всех знает. Он и папашку моего знал, они вместе на германской служили. Сказывал, как папашку при нем, на его глазах, снарядом убило. А мама при родах померла, одни мы с бабаней…
Вздыхает Павлин. И – странное дело – Денис Денисыч не видит его лица в темноте, но чувствует: синим огнем горят Павлюшкины глаза.
– И как это красками малюют, сроду не знал. А тут – хлоп! – взялись мужики барина грабить. Вижу – картины тащут, ах ты, господи! Бабаня мне: не ходи, мол, детка, нехорошо, грех… А я: какой грех, думаю себе, не хлеб ведь, не худоба какая, картины же! Враз побег на барский двор, набрал картинок, какие помельче – большие-то все растащили, ну, домой уж было наладился, глядь – в мусоре, в стеклах битых, вроде как сундучок махонький, на крючочки замкнут, валяется… Это, думаю, пожалуй, грех брать, дай погляжу только… Откинул крючочки – ах, мать честная, да ведь это ж краски! И кисточки в сундучке всякие, и баночки с маслом… Вот с энтих-то пор все красками больше, уж так-то занятно!
– Ну, а те картинки, что набрал на барском дворе, – понравились?
– Да сперва-то дюже понравились, а потом… – Павлин усмехнулся, замолчал.
– Что ж – потом?
– Скучные какие-то показались. Неправда в них.
– В чем же неправда?
– Вот я вам, Денис Денисыч, скажу, не смейтесь только. Ну, взять хоть бы траву, деревья, небо. Или, допустим, лицо. Там, на тех, на бариновых картинках, – одно в одно: раз трава иль дерево – значит, ровное, зеленое… Все равно как крыша на школе. А небо – голубое. Лицо – розовое, тельное. А ведь это неправда. Трава та же, допустим. В ней и золотинка, и голубинка, а дунь ветерок – так вся сединой и подернется… Верно ведь? А если лицо? Вот я пришел когда, открыл дверь, гляжу – у вас от света из двери одна щека красная, а другая, что в избу повернута, с зеленцой… А тельного-то и вовсе нету! Не просвечивает даже. А может, это все я неверно говорю? Может, мне только мстится так, а на поверку если, так по-другому? Нет-нет да такая ж тоска возьмет, – э, дурак неученой, лапоть! И куда тебя, шутоломного, несет! Беда, Денис Денисыч, не знаю я ничегошеньки… Ну, читать, писать, ну, арифметика, и шабаш! Все. Мало… А мир-то – вон бо-о-ль-шой какой… Одних звезд ух сколько! И ведь где-то люди тоже, поди, живут, да? Ах и весело же! Во-о-он, видите, аккурат над кривой березой, Лебедь-созвездие, во-о-н, верхняя-то слева звездочка как блестит… Чего б там людям не жить, верно? А то вон еще Сириус… Ну, ярче этой и нету, что ж за красота!
– Послушай, – оторопел Денис Денисыч, – откуда ты все это знаешь?
– Откуда! – смущенно засмеялся Павлин. – Да все оттуда, с барского двора. Книжку подобрал – трепаная-растрепаная, про планеты разные, про звезды. Там черная-черная такая карта – звездное небо. Я все по ней искал и много нашел. Их, созвездия-то, ух и трудно искать! Название, допустим, Лира, а на лиру ничуть не похоже. Ну, я все-таки разыскал эту Лиру – во-он, видите, где колодезный журавль…
Рано утром, чуть только солнце из-за леса показалось, ввалился милиционер Тюфейкин.
– Давай сбирайся, товарищ Легеня! – крикнул с порога. – Скачу на станцию, дело есть… Так что в тарантасе, тентиль-вентиль, барином со мной поедешь!
Распрощался Денис Денисыч с Павлином и Егорьевной, как с родными. Оставил свой адрес городской, велел, чтоб обязательно да поскорей приезжал Павлюша, а уж он, Денис Денисыч, все устроит – и с ученьем, и с жильем.
– Да ведь как, сударь, поскорей-то, – сказала Егорьевна, кончиком платка утирая набежавшую слезинку, – как поскорей-то? Собрать ведь надо малого – сапожонки там, пальтишку какую-никакую… Не в лаптях же ему в губернию ехать, право… К покрову, сударь, не раньше, как к покрову…
– Ну, к покрову так к покрову, – согласился Денис Денисыч и отправился в обратный путь.
Доехал он хорошо, без приключений.
Как ни искал молодой чекист Еремин Денис Денисычев портфель, так и не нашел. Мало что все поле оглядел, где у них на рассвете баталия вышла с бандитами, он еще и с краю леса пошарил, в том месте примерно, куда нырнул Алешка Гундырь, сматываясь от бахолдинского отряда.
Возвращаясь ни с чем к скирде, где ожидали его товарищи, Еремин рассудил так: значит же действительно уволок Гундырь портфелик, раз нигде его не видать. У него, у Еремина, глаз вострый: пожалуйста, такую мелочь, очки разглядел в стерне, а чтоб портфель не разглядеть – тьфу, не может того быть! Уволок, значит, собака… Факт, уволок! Но с другой стороны, – продолжал рассуждать Еремин, – на кой ляд бандиту пустой портфель понадобился? Непонятная и даже таинственная петрушка… Надо б товарищу Бахолдину обрисовать, не кроется ли тут какая политическая хреновина и не пощупать ли этого очкастого интеллигента на предмет выяснения его действительной личности… Мало ль что в мандате значится «научный сотрудник», – нешто их фальшивых не бывает, мандатов-то?
Но портфель и в самом деле унес Алексей Иваныч. Откуда ему было знать, что в нем чернильница да тетрадка; он, как и милиционер Тюфейкин, полагал, что в портфеле «казенные суммы» имеются обязательно: господин солидный, очки золотые – не порожним же едет, в самом-то деле! А кроме того, Алексею Иванычу и времени не было, чтобы раздумывать да выбирать. Не чемоданы же… С ними не вот как разбежишься, а бежать, по всему судя, надлежало как только можно шустрей, жеребец рухнул, Пупок с кучером побиты, зевать не приходится. Ладно, что в деревне сапоги офицерские успел переобуть. Жмут маленько, ну да ничего… Выручай, мати-царица небесная, Миколай-угодник!..
Сунув за пазуху портфель, схватил винтовку и, петляя по полю, как травленый заяц, кинулся Алексей Иваныч к лесу. Раза три злодейка-пуля вжикнула над ухом, у самого леса картуз к чертовой матери сбило, на лету ухитрился поймать. Но, слава те господи, пронесло, целый и невредимый вскочил в лес, а тут – на, поймай поди…
Моховым болотом, по кочкам, хватаясь за ветки ольшин, что твой куличишко, проскакал версты две, до самого Жукова городища, и тут только сел у ручья передохнуть, запалился.
А солнце уже на полдуба взошло, ласково, радостно, сияющими пучками лучей просвечивало между частыми стволами деревьев. В тишине сидел Алексей Иваныч, дышал тяжело, слушал веселый щебет птиц и гулкие удары своего сердца. И не радовался ни птицам, ни солнышку, ни даже собственному спасению своему. Злоба его душила: так влопаться! Четвертые сутки гонялись за ним чекисты, висели, чисто гончие у волка на хвосте… И вроде бы предчувствие было – не ехать по этой дороге, дать крюка, сторонкой обогнуть окаянные скирды. Но в деревне, куда перед рассветом заскочили со станции, обнадежили, будто ушел Бахолдин на Татарку, что видели будто его там.
А он поверил… ах, шалопут!
Тихо. Солнце уже не сквозь стволы – в ветках запуталось, смеется. Чего ж то ему так чудно? Что прижук Алешка середь болота, как обложенный бирюк?.. Что двошит, как кобель запаленный, только что с языка не течет?.. Ух, взять бы да пальнуть по этому небесному фонарю, как давеча на станции… Чтоб во всем мире темнота сделалась, чтоб всё на свете перемешалось, перепуталось со страху, один он надо всеми, как царь и бог… «У-гу-гу! – кричал бы во тьме. – Спужались, ссукины дети! Он, Алешка Гундырь, ишшо вам, сволочам, покажет, почем сотня гребешков!»
Остыл малость, отдышался. Почуял – за пазухой что-то мешается, под груди давит. А-а, портфель! Ну-ка, ну-ка… Так и этак вертел, дергал блестящий замочек – не отмыкается. Опять злоба подкатила, осерчал, хотел было винтовочным прикладом трахнуть, сломать к чертовой матери, но одумался: вещь полезная, начальственная, еще, как знать, может, и сгодится…








