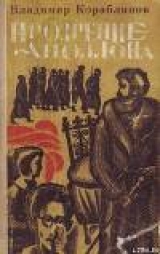
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Сто николаевскими… тысячу керенками… Сто николаевскими! Что ж это вы, ваше благородие… ай, как некрасиво! Тиф! Тиф, ваше благородие! Вы же заразитесь, ну…
Он как-то чудно выговаривал: што николаевшкими, жаражитесь. Часовой послушал-послушал и не то сказал, не то подумал:
– Вышибли из малого мозги-то. Спятил, стал быть.
Нет, Ляндрес не спятил. Он просто почувствовал, что еще не умер, что жив. Но та жизнь, в которой он сейчас жил, была темная жизнь сна, кошмарного бега, а настоящая, светлая, вон вдалеке сияла звездочкой, тонким лучиком, но где-то так далеко, что казалась недосягаемой. Ах, вот если б он сумел добежать до нее, тогда кончился бы сон и началась новая, блистательная жизнь… А пока он должен бежать… бежать… за ним гнались.
– Сто николаевскими! Тысячу керенками! – как заклинание выкликивал. Хрипел. Задыхался. Падал, но все-таки – бежал. И звездочка все ближе, ближе становилась… И вот, наконец… – Рита!!
Она, она! Курточка не стягивается на груди, из-под шапочки волосы выбились, прилипли ко лбу…
– Фимушка, милый… ах, дурачок!
Сознание возвращалось волнами – набежит и откатится, набежит и откатится.
Но, слава богу, все время она была тут, возле.
– Фимушка…
Поддерживала его своими сильными руками, не давала упасть. Шептала: «Прямее, прямее стой! Голову держи высоко… Еще выше! Вот так…»
Но это – потом. А сперва он был жалок и беспомощен, растерянно косноязычил:
– Вот… предложить зашел… как музейному работнику… Вещица – Будда называется. Прошу сто николаевскими, на тысячу керенками не согласен. Вот они тысячу дают. Нет, позвольте, что же это за цена?..
Черноватый, юркий, похожий на хорька офицер удивился:
– Сто николаевскими? За такую безделку?
И сунул Будду в карман необъятных галифе. Затем во время обыска, бессовестный, Денис Денисычевы золотые часики туда же спровадил. Тут-то Ефима и понесло:
– Что же это вы, ваше благородие… Ай как некрасиво!
– Что-с? – Офицер оскалил мелкие зубки (хорек, чистый хорек! У него и голосишко был хориный – писк). – А ну-ка, Замотайлов, подыми старуху!
– Господин штабс-капитан, будьте же человеком! – крикнул Денис Денисыч. И столько боли и слез было в этом крике, что даже равнодушный казенный человек, солдат, и тот вздрогнул, остановился.
– Ну? – злобно пискнул хорек. – Замотайлов!
Солдат дернулся, словно лошадь от кнута.
– Имейте в виду, – сказал Ляндрес звонко, как глухому, – имейте в виду, господин офицер, у нее тиф, можете заразиться!
Офицер засмеялся:
– За-газить-ся!
Решительно шагнул к кровати, потянул матрас. И с легким осенним шелестом посыпались желтенькие листочки…
Волна откатилась с замирающим шумом. Мрак. Чернота. Жизнь ли, смерть ли – кто знает. Где-то читал, что когда тело человека уже мертво, какое-то время мозг продолжает работать. Так, может быть, Ефим Ляндрес умер? То есть тело гражданина Ляндреса Ефима Абрамовича? А мозг еще жив, рассуждает: смерть, жизнь, Рита…
Рита!!
Слава богу! Раз она здесь, значит – жизнь!
С ликующим шумом накатывалась крутая волна.
– Ска-а-а-жешь! – базарно орал толсторожий, в расстегнутом английском френче. – Ты мне, жидовская морда, все скажешь!
Красным тугим кулаком, на котором белели косточки пальцев (январь, март, май, июль, а август – на другом кулаке); бил в лицо, стараясь попасть в глаза, в нос, в зубы. Каждый удар валил с ног. Лепной потолок, окно, стол, дощатый больничный топчан и широкие доски пола перемещались, прыгали вверх-вниз, вверх-вниз…
– Все-о-о скажешь!
Скинул френч, засучил рукава бязевой рубахи. Руки толстые, безволосые, белые, испещренные грязноватыми веснушками. На левой – золотой браслет с цепочкой.
Порылся в ящике стола, вынул бритву. Ох, что-то страшное будет… Холодеют ноги, все внутренности оборвались, упали в самый низ живота.
– Тебе, тварь пархатая, раввин обрезание делал, – голос истязателя становится добродушно-издевательским. – Так это ж базарная работа! А вот сейчас есаул Дробязко так тебе сделает… не как-нибудь – звездочкой… Эй!
Входят двое. В клеенчатых передниках почему-то, как мясники.
– Вали его, ребята!
Корявые неструганые доски топчана больно царапают обнаженное тело. Руки заломлены. Ноги давит пяти-пудовая туша. Есаул Дробязко играет бритвой.
– В последний раз спрашиваю: скажешь?
– Подождите! – отчаянно кричит Ляндрес.
– Ну?
Рита! Рита! Ты здесь, ты видишь… Мне стыдно, Рита! Не смотри… Скажи только – что, что делать?
– Плюнь этой скотине в рожу! – слышится голос, тихий, гневный, с неповторимой хрипотцой. – Плюнь…
– Ну-у? – Лицо есаула низко наклоняется над несчастным Ляндресом.
И тот, собрав остатки сил, плюет.
Тьма. Тьма. Тьма.
Страшная, режущая боль кровоточащей раны.
Но раз боль, значит, и тело не умерло.
Значит…
Спасибо тебе, любимая, что пришла и сказала. Если б не ты, я выдал бы Дегтерева. «Подождите!» – крикнул для того, чтобы выдать.
А теперь – хорошо.
И пусть я, жалкий, весь в крови, валяюсь здесь во тьме и завтра (а может, сегодня? Кто знает, день ли, ночь ли сейчас) меня казнят, – мне хорошо…
Отвернись, Ритка, не гляди… Я ужасен. Я понимаю.
– Ты красивый, – сказала Рита. – Ты самый красивый, Фимушка! Лучше тебя никого нет…
И растаяла, растворилась облачком, словно что-то ее спугнуло.
Ах, вот что…
Задвижка гремит. Тусклая полоска дневного света врывается в открытую дверь.
– Живой? – удивленно сказал солдат с пегой бородой. – И ходить могешь?
От солдата дивно пахло хлебом, табаком и свежестью осеннего утра.
– На…ерно… огу… – невнятно, сквозь разбитые, опухшие губы сказал Ляндрес.
– Ох? – сомневаясь, качнул головой солдат. – Навряд…
– За…исс трепа…сса не лю…ит…
Рывком поднялся, вскрикнул от боли, но, ухватившись за плечо солдата, устоял.
– Нет, ты гляди на него! – восхищенно сказал солдат. – Живуч! Ну, айда, господин комиссар…
Какое было утро!
Розовое, голубое, зеленоватое, с перламутровыми перышками легчайших облачков. С далеким заливистым ржанием лошади. Со звонким дребезгом прокатившей по улице пролётки.
Серебристо-белый иней сентябрьского заморозка украшал скучные крыши домов и сараев.
Шестеро всадников на грациозно пританцовывающих лошадях вот-вот, казалось, затопчут двух пеших, – так, окружая, теснили их крутыми лоснящимися лошадиными боками. Запряженная парой костлявых коняг, поодаль виднелась зеленая фурманка, в которой лежало что-то накрытое грязной рогожей.
Коротко поздоровались.
– Товарищ Ляндрес…
– Товарищ Абрамов!
– Денис Денисыч…
От утренней морозной свежести дрожь пробирала. Главным образом, конечно, от утренней свежести. Но ведь еще и близость смерти… Страшила, как не страшить. И тут, во дворе «Гранд-отеля», никто из троих этого не скрывал.
– Берегите силы, товарищи, – негромко сказал Абрамов. – Тут нас никто не видит, а там… вот там нам дрожать никак нельзя. Эх, жалко, что…
– Прекратить разговоры! – раздраженно крикнул рябой офицер в белой бурке, наезжая конем на обреченных. Ему, видно, нездоровилось, судя по синеватой бледности изуродованного лица и воспаленным белкам сумасшедших глаз.
– …жалко, что не увидим красоту будущего времени, – договорил Абрамов.
– Фразеры! – бешено, ненавистно выкатил рябой красноватые глаза. – Где четвертый?
Он круто обернулся к опрятному старичку в мешковато сидевшей на нем офицерской шинели, который неизвестно откуда появился на дворе и засовывал в синюю папку какие-то бумаги.
– Четвертый где?
Старичок что-то ответил, указав на фурманку. Рябой брезгливо поморщился, вполголоса пустил матерком.
– Господин сотник, – сказал пегий солдат, который привел Ляндреса. – Этого мальчонку тоже бы на повозку, нипочем не дойдет…
– Давай, – кивнул рябой.
Пегий легко, как ребенка, поднял Ляндреса и посадил на фурманку.
– Поехали! – скомандовал рябой.
Загремели железные гостиничные ворота. Вовсе сжав конскими боками Абрамова и Легеню, тронулись всадники, за ними – фурманка. Выезжая на улицу, ездовой озабоченно подоткнул рогожу, из-под которой мертво, деревянно высовывалась старческая рука со скрюченными, узловатыми пальцами.
– Ой! – слабо вскрикнул Ляндрес.
Пан Рышард вышел из дому еще затемно. Путь предстоял неблизкий: две версты до института да там еще четыре – шесть верст, дело не шуточное, когда тебе за семьдесят перевалило да когда что-то еще с вечера сжало в груди, перехватило дыхание.
Он, правда, ходьбы не боялся, пешеход был отличный; отмахать в Дремово – туда и обратно – пятнадцать верст ему ничего не стоило. Спросите – почему именно в Дремово? А потому, что дремовские бабы его кормили. Без них на жалкие, ничего не стоящие бумажные гроши институтского жалованья ему бы и дня не прожить.
Они с профессором варили картошку, пекли ржаные оладьи; на обед чаще всего приготавливался кулеш. Крупное, чистое пшено было разваристо, вкусно, аромат поджаренного, чуть ржавого сальца неописуем. Спросить бы у пана Стражецкого, откуда у него вся эта благодать – сало, картошка, пшено, мука. Профессор, легкомысленный человек, мимо всякой житейской мелочи шел, не останавливаясь, не любопытствуя, откуда, да что, да каким образом. А если б вдруг заметил и спросил? Тут пан Рышард ужасно растерялся бы, смутился, понес бы околесицу, мешая от волнения польские и русские слова. Он скорее умер бы, чем признался профессору, на какие средства живет и кормится, да и не только кормится, но еще иной раз и самогонку потягивает… Было дело, что уж тут скрывать!
Так на какие же, все-таки?
Смешно, конечно, – кто поверит? – но кормился пан Рышард гаданием на картах.
Старый, одинокий человек, он еще у себя, в далеком родном Сандомеже, любил коротать зимние вечера за раскладыванием необыкновенно сложных пасьянсов; его увлекала затейливая игра бесконечных карточных комбинаций, какие-то закономерности смутно угадывались в прихотливом и случайном чередовании фигур и мастей. Карты казались таинственным, фантастическим миром, в котором жили очаровательные недоступные дамы, надменные короли, лукавые царедворцы-валеты, безликие, как бы скрывающиеся под маской, тузы – загадочные, важные господа Инкогнито, повелевающие королями… И все они были преданнейшими друзьями, никогда не покидавшими чудаковатого учителя чистописания, терпеливо делившими с ним его холостяцкое одиночество. Даже убегая из разрушенного, полыхающего военным пожаром Сандомежа, пан Рышард не забыл о них и, наспех собирая дорожный сундучок, первым делом кинул на дно две колоды новеньких игральных карт. В толчее, в суматохе беженских скитаний было не до пасьянсов; бесприютная жизнь, шумная теснота бараков, вечная забота о куске хлеба (клеил на продажу конверты, какие-то бонбоньерки, торчал у вокзалов, чтобы за гривенник поднести до извозчика вещи богатых пассажиров, попрошайничал даже иногда), – какие уж тут пасьянсы! Но однажды на рынке целый день простоял возле старухи гадалки, как зачарованный глядел на ее смуглые, в серебряных кольцах, костлявые ловкие руки, изящно раскидывающие на грязном платке замусоленные карты… Механику гадания он понял враз, но никак не мог иного понять: откуда бралось столько доверчивых темных людей, – к цыганке ведь в очередь становились, деньги так и текли в ее бездонный ковровый ридикюль… С этого и пошло. Сперва, конечно, шутя, сам себе, на крестового короля, раскидывал карты, затем (в шутку же опять-таки) кое-кому из случайных сожителей и спутников (пан Рышард частенько переезжал с места на место, нигде подолгу не уживался); но вот как-то раз на каком-то вокзале, дожидаясь пересадки, одной скорбящей русской бабе погадал, карты легли счастливо, предвестили скорую встречу и приятное известие из казенного дома, – и обрадованная баба, как ни отнекивался пан Рышард, всучила ему шесть гривен бумажными марками (тогда, в войну, вместо серебряных монет ходили марки с портретами российских императоров). Между тем передвигаться по обширным пространствам нашего отечества становилось все труднее и опаснее: поезда застревали на станциях по суткам, на дорогах орудовали многочисленные банды. Пришлось бросить якорь на Аполлоновом строительстве, и здесь все отлично сложилось: тишина, привычное одиночество, неотбойная практика у дремовских бабенок и, таким образом, сытные харчи. Но тоска по родине вдруг стала жестоко одолевать, прилепилась неотвязно, спать не давала по ночам. Сроду не пивший, воздержанный во всем, он «зашибать» стал довольно часто, и если б не неожиданное появление профессора…
Да, так вот – профессор.
Третий день пошел, как увезли его – не как-нибудь, в автомобиле Такой почет не предвещал ничего хорошего. Стражецкий ломал голову над догадками: что за опасность представлял собою пан профессор для новых властей? Такой почтенный господин, интеллигентный человек, видный ученый… И вот – пожалуйста, прошен пане, засадили в вонючую тюрьму, и ему, может быть, даже и покушать нечего…
Да, то так.
Пан Рышард напек ржаных оладий и отправился в город искать пана профессора.
Он редко тут бывал, плохо знал расположение улиц, но найти в любом городе тюрьму дело самое простое.
Первая же встречная старушка указала дорогу. «Все прямо, все прямо, и вот тебе Красные ряды, а как ряды пройдешь, так опять прямо, с версту, да и версты не наберется…» И долго глядела вслед Стражецкому, крестясь и сочувственно бормоча.
Ряды вдруг неожиданно предстали. Это была круглая, словно по циркулю вычерченная площадь, ограниченная двумя подковами сводчатых старинных, давно заколоченных лабазов. Скучное, пыльное место, безлюдное, с вечным сквозняком; всегда тут ветерок гулял, по серому сбитому булыжнику гнал мусор, обрывки газет, палую листву. Поговаривали, что ночами в Рядах пошаливают, грабят. А нынче, несмотря на раннее утро, тут нарядные шляпки пестрели, зонтики, чистая публика прохаживалась по краям площади, по выщербленным каменным тротуарам, словно ожидалось гулянье, хоть день в численнике был обыкновенный, черный. «Наверно, какое-нибудь торжество, – подумал пан Рышард, – по случаю победы…» В глубине площади он разглядел два высоких столба с перекладиной. «Ну, конечно, вот и качели…» Еще раз спросив, как идти к тюрьме, пошел дальше (и действительно – все прямо) и вскоре увидел ее.
Она стояла на Московском выезде – старинное неуклюжее строение с обшарпанными стенами и подслеповатыми, похожими на крепостные бойницы, узкими щелями зарешеченных окон. В полосатой будке у запертых железных ворот стоял часовой. Он сказал пану Рышарду, что без разрешения господина начальника никакие передачи не принимаются.
– Пшепрашам, – сказал Стражецкий, – а как до пана начальника дойти?
Часовой только было открыл рот, чтобы ответить, но тут, мягко шурша резиновыми шинами, к воротам тюрьмы подкатила блестящая лаком, запряженная парой пролетка.
– Проходи, проходи! – сердито закричал на пана Рышарда часовой, вытягиваясь перед тучным седоусым военным, тяжело, по-стариковски, задом вылезавшим из щегольского экипажа.
– Что тут такое? – прохрипел военный.
– Да вот, ваше высокородие, поясняю им…
– Что вам угодно? – держась за поясницу, морщась, спросил военный.
Стражецкий сказал, что хотел бы, прошен пане, передать кое-что из еды… знакомый… достойный человек… профессор… но вот – арестован, прошен пане…
– Профессор? – удивился военный. – Так это вы не сюда, милейший. Это вам в контрразведку надо. А у нас тут мелочь, уголовщинка…
Пан Рышард понятия не имел, что такое контрразведка, и запечалился, что, пожалуй, не найдет. Тюрьму-то, конечно, в городе все знают, а вот контр-раз-вед-ку…
Но оказалось, что и контрразведка достаточно известна.
Он подошел к гостинице «Гранд-отель», когда солнце уже стояло над посеребренными крышами, но свет его сквозь россыпь мелких, легких облачков струился так рассеянно и мягко, что казалось, будто еще очень рано.
Двое часовых у нарядных железно-узорчатых ворот были не так разговорчивы, как возле тюрьмы. Стражец-кий, подойдя к ним, и слова сказать не успел, как его грубо обругали и велели «плетовать к такой-то матери». Он не знал слова «плетовать», но очень верно понял его смысл и перешел на другую сторону улицы, где толпились люди, с полсотни прилично одетых господ и дам, видимо ожидавших чего-то.
Страшная усталость вдруг охватила пана Рышарда, сжала у висков, мягким толчком подогнула колени. И тут сверху откуда-то посыпались частые-частые удары молотком о жесть: жестянщик чинил ведро, и наплевать ему было на всяческую людскую суету… Стражецкому на секунду даже немного жутко сделалось от сухого безразличия этих ударов; бесшумной змейкой скользнула мысль о смерти: «Восьмой десяток… Но не дай бог здесь, на чужбине, на этих пыльных камнях…» Устало опустился на холодную ступеньку подъезда, уронил сверток. Из промасленной тряпицы на заплеванный, зашарканный тротуар посыпались оладьи.
– Запасливый старичок! – хихикнул розовоухий гимназист. – С завтраком явился…
– Panem et circenses… – сказал аккуратный господин в пенсне, с клочком вандейковской бородки под презрительно выпяченной нижней губой. – Хлеба и зрелищ, – услужливо пояснил он недоуменно поглядевшей на него даме.
«Почему – panem et circenses? – полузакрыв глаза, медленно приходя в себя, думал Стражецкий. – Какие зрелища? На что они собираются смотреть?»
Ему полегчало, тиски, охватившие голову, разжались. Поглядел на оладьи под ногами – в пыли, есть не годятся. Что ж, все равно профессора, видно, не найти…
– Послушайте, – сказал господин в пенсне, – потрудитесь убрать эту гадость…
Концом тросточки указывал на оладьи. Дама прошепелявила возмущенно:
– И еще спрашивают, откуда холера берется, – да вот, пожалуйста! Второй год на улицах не.подметают.
– А кому подметать-то? – встрял старик с отечным скопческим лицом. – Дворники, сударыня, все комиссарами заделались. Они теперь…
Грохот железных ворот заглушил слова старика.
– Смотрите! Смотрите! – закричал гимназист. – Ведут!
Со двора «Гранд-отеля» выехали семеро всадников и пароконная фурманка. Рябой офицер в белой бурке картинно сдерживал танцующего жеребца. Четверо окружали Абрамова и Легеню, двое конвоировали повозку. Примостившегося на днище Ляндреса почти не было видно. Одной рукой он держался за шинель ездового, другой – за бортик фурманки. Ему было больно, и он старался принять такую позу, чтобы боль не так резала. Он страшно боялся коснуться того, что лежало под рогожей, старался не глядеть никуда, лишь под ноги, вниз, на грязное днище фурманки, на щель между досками, в которой мелькали серые пыльные булыжники, удивительно быстро, стремительно уплывающие из-под повозки назад… Через какой-то крохотный отрезочек времени ни этой щели, ни этих камней не будет. И его, Ефима Ляндреса, тоже не будет. И все остановится, и всe померкнет… Но сквозь грохот тяжелых, окованных железом колес, сквозь гулкий шум людей, бегущих по улице, сквозь топот копыт и галдеж потревоженного воронья на городских тополях, – сквозь все шумы мира, пронзая их и заглушая, могучими серебряными трубами грянуло:
Три слова
в единое
слиты,
И вечно
во мне им гореть…
Революция —
Родина —
Рита, —
За это
готов
умереть!
Останутся стихи. Как яркая память о человеке, которого звали Фимушка Ляндрес. Который сказал: «Готов умереть!» – и умер… За!
– Три слова… – едва шевеля губами, прошептал Ляндрес. – Три слова…
И в первый раз за всю дорогу смело, дерзко глянул вперед. Фурманка въезжала на Красные ряды.
Так вот зачем праздно толпились люди на улице против-ворот «Гранд-отеля»… Вот почему господин в пенсне, щегольнув перед дамой гимназической латынью, помянул о хлебе и зрелищах! Вся эта так называемая «чистая» нарядная публика, все эти пестрые шляпки и солидные благопристойные котелки собрались сюда для того лишь, чтобы поглядеть, как поведут обреченных… И с каким диким жадным любопытством, мгновенно позабыв заученные с детства «правила хорошего тона», позабыв, что они – люди, кинулись вслед за теми несчастными, которых в их последние минуты, словно зверей, охраняли семеро вооруженных всадников.
Стражецкого особенно поразил гимназист, розовое лопоухое дитя, с таким остервенением оравшее: «Смотрите, смотрите! Ведут!» Поразили глаза этого щенка, выкаченные в горячем азарте жестокой кровавой игры… Откуда взялось это у него, несмышленыша, познавшего из житейских невзгод пока лишь только двойку по арифметике да папашин ремень? Не так ли в далекие годы темного, глухого средневековья бежали люди на городскую площадь, где у стен ратуши дымились костры святейшей инквизиции?.. Не точно так ли, выкатив безумные глаза, орали: ведут! Ведут! И так же звонко чмокали по камням копыта лошадей, и так же галдело воронье и гремело железо тюремных ворот…
Кинулись люди вослед зловещему шествию, и пан Рышард – за ними. Он все пытался разглядеть тех, двух, которых тесно окружали всадники. Почему-то уверен был, что это профессора, обязательно профессора повели… Но нет, эти оказались мелковаты, их за лошадьми почти и видно-то не было, а тот бы на целую голову над всеми возвышался.
Но все равно они, те, которых сейчас вели, каким-то непостижимым образом связывались с профессором, их вывели оттуда, из этой контр-раз-вед-ки, где, наверное, и он был и, может быть, даже разговаривал с ними совсем недавно, шутил, подбадривал… Ведь он, бесстрашный, колоссальный человек, ничего не боялся!
И, кроме всего, один из них показался пану Рышарду знакомым. Совсем, совсем недавно видел он этот крутой, высокий, переходящий в лысину лоб, этот маленький острый, чуть выдающийся вперед, голый подбородок, венчик пушистых рыжеватых волос, падающих с затылка на воротник пиджака… Он мысленно даже перхоть увидел на плечах этого небольшого дробного человека – и вспомнил: он – тот, что дважды приходил к профессору, его друг Денис Денисыч… Фамилию пан Рышард не запомнил, она звучала как-то странно, необычно. У того, правда, очки в позолоченной оправе, помнится, поблескивали на тонком ястребином носу… Ну, что ж, немудрено, что у этого их нет: Стражецкий хорошо разглядел кровоподтеки на лице этого… Какие уж там очки!
Так очутился пан Рышард на пыльной круглой площади, именуемой Рядами. И вот тут-то опять застучал ужасный жестянщик… Привыкшему в лесной жизни к тишине, Стражецкому нестерпим был шум множества людей на улице, однако он притерпелся, научился жить в этом шуме. Но этот сухой, резкий стук молотка о жесть как бы гвоздем пробивал голову насквозь. На площади он сделался еще резче, еще ужасней… Последние два-три квартала пан Рышард песколько приотстал от всех: опять вдруг, подобная давешней, одолела слабость, ноги подкосились, и пришлось на минутку остановиться отдохнуть, собраться с силами. И снова скользнула змейка, но мысль о смерти уже не испугала, он легко отмахнулся от нее: э-э, смерть!
На площади толклось много публики, опять-таки «чистой», и все подходили и подходили новые и даже, видимо, подъезжали, потому что десятка два извозчичьих пролеток стояли вдоль тротуаров. Но те, кого сюда привели насильно, на чью смерть пришли поглазеть все эти «чистые» господа и дамы, были далеко, в самом центре Рядов, там, где чернели столбы, принятые давеча Стражецким за качели. И уже почему-то вместо двух человек там трое стало. Этот третий был Ляндрес, которого пан Рышард не разглядел в повозке. И там, под столбами, кроме конных конвоиров еще какие-то виднелись пешие военные и сверкала на ярком солнце золотая парча явно не нужной здесь поповской епитрахили. И уж совсем, казалось бы, ни к чему свежеоструганной доской белела длинная скамья, словно тут не лютая затевалась казнь, а и вправду гулянье с качелями и скамью принесли сюда для того, чтобы посидеть возле качелей, отдохнуть, покурить папиросочку…
Теперь-то пан Рышард увидел и то, чего не заметил утром: с перекладины свисали четыре веревки. «Но почему четыре? – подумал он. – Почему четыре?..»
Бывают такие тяжелые сны – прилипнет и тянется, тянется… Хочешь поскорей отделаться от него, проснуться – не тут-то было, ему и конца нету. Да так ведь измучает, проклятый, что когда наконец проснешься, то долго не можешь сообразить, что же это было: сонное видение или обыкновенная тягостная действительность.
Что-то похожее на такой сон происходило с паном Рышардом на Красных рядах часу в одиннадцатом утра 18 сентября 1919 года. Слишком уж дико, фантастично, без всякой связи между собой нагромождались события; слишком уж чудовищно, необъяснимо, невероятно было несоответствие того, зачем он пошел в город, с тем, во что оборотился этот поход. Где-то на грязном тротуаре валялись его оладушки, и бог знает где профессор и что с ним, а он, Рышард Стражецкий, между прочим кем-то свыше уже дважды грозно предупрежденный о собственной смерти, через силу, чуть ли не падая от слабости, стоит среди пестрых, праздных, чуждых ему господ и не уходит, не бежит от них, а вместе с ними ждет, когда начнут казнить людей, с которыми (подумалось опять) связан и профессор, ну хотя бы уж тем, что их вывели из тех же ужасных подвалов, где в эти минуты пребывает и он… Словечко «подвалы» мелькнуло в обрывке нечаянно подслушанного разговора возле «Гранд-отеля», и было оно каким-то господином употреблено с усмешкой в самом зловещем смысле. Не оттого ли и вглядывался Стражецкий с тревогой и страхом, ища Аполлона Алексеича среди обреченных.
А казнь почему-то все не начиналась, и под столбами продолжали, как бы бессмысленно, копошиться военные, пешие и верховые, и все нет-нет да поблескивала на ярком негорячем солнышке золотая парча епитрахили. И странная вдруг тишина образовалась: люди, которые, перед тем как ступить на площадь, громко шаркали ногами, кричали и переговаривались, здесь, словно опомнившись, присмирели, замолчали; один лишь неумолимый жестянщик продолжал свое дело.
Но вот сновавшие под столбами военные расступились, и все наконец увидели тех, но уже не троих, а четверых почему-то, и не на серых пыльных камнях, а на пол-аршина выше, словно парящих над мостовой; и трое из них странно, лениво перебирали ногами в пустоте, четвертый же висел недвижимо, низко опустив голову и плавно покачиваясь… Степаныч умирал второй раз, символически. Идея повешения мертвого «большевика» принадлежала изощренной фантазии кузена Ипполита.
После того как увели товарища Абрамова, прошли день и ночь, по земному счисленик) двадцать четыре часа.
Вторые сутки Аполлоновой жизни в угольном подвале зачинались скорбным напоминанием о смерти. Милиционер Капустин небрежно прикрыл Степаныча, и старик неотрывно глядел на профессора. Взгляд мертвого человека всегда неприятен, загадочен, полон какого-то скрытого значения, словно ушедший из жизни хочет напоследок сказать оставшимся в живых нечто важное, открыть какую-то роковую тайну, без знания которой им будет трудно и, может быть, даже невозможно существовать. Взгляд же Степаныча был особенно неприятен из-за того, что один глаз его спокойно смотрел сквозь щелку полуопущенного века, а другой таращился, и создавалось впечатление, что старик подмигивает, хочет намекнуть легкомысленным людям на их непрочность, что, дескать, живы-то вы, граждане, конечно, живы, а вот надолго ли?
Аполлон Алексеич всегда был самого лестного мнения о крепости и неуязвимости своих нервов (демоны вспыльчивости в счет не шли), он при случае любил похвастать слоновьей своей нечувствительностью ко всяким там раздражителям, говорил, будто ему все ништо, хоть стреляй за спиной, хоть ледяной водой окати – не вздрогнет. А вот тут как будто и ничего особенного – недвижный, стеклянный, чуть мутноватый взгляд, а коробило, уязвляло, беспокоило.
Впрочем, беспокоиться и в самом деле было из-за чего: его словно позабыли. Сунули в этот грязный каменный мешок и потеряли к нему всякий интерес. Это, конечно, было свинство, это ожесточало, развязывало демонам руки, но… помалкивали демоны, понимали, стало быть, что нет им тут разворота. Не биться же головой о кирпичную, полуторааршинной толщины стену…
А день помаленьку совершал свой круг. Пришли санитары в чумазых, испачканных кровью халатах, убрали Степаныча. Мертвый взгляд уже не докучал, но покоя все равно не было. То того, то другого уводили куда-то; одни возвращались со следами побоев, другие без видимых повреждений, третьи не возвращались вовсе. Поглядывал Аполлон на свежие кровоточащие ссадины, на изорванные палачами рубахи своих подвальных товарищей и мрачно думал, что ежели этак и с ним будут разговаривать там, наверху, то разговор этот окажется последним не только для него, но и для кое-кого из собеседников.
Но его не вызывали.
Что-то даже вроде обиды из-за такого пренебрежения к его особе подымалось внутри Аполлона: всех вызывают, а его нет! Шутить изволите, господа? Демоны настойчиво запросились наружу. Откуда было знать профессору Коринскому, что его фамилия находилась в списке тех лиц, «дела» которых должен был рассматривать некий не первой молодости полковник, однажды уже имевший неосторожность разбудить Аполлоновых демонов и едва из-за этого не поплатившийся жизнью. Проще говоря, кузен Ипполит не спешил встретиться со своим родственником
Часы бежали, бежали, вторые сутки переваливали за половину. Сумерки дымно сгущались, тусклым накалом затлелась грязная лампочка. Приближалась ночь – трудное, тяжкое тюремное время.
…Но ведь вызовут же, в конце концов!
И что будет?
Демоны демонами, – они, разумеется, черт знает что могут выкинуть, повернуть события непредвиденно, – но как-то все-таки надо внутренне подготовиться к тому моменту, когда в дверях подвала появится белогвардейский держиморда и, безбожно перевирая его редкостную фамилию (Корицкий, Корифин, Коринкин... как ее только не уродовали!), велит собираться и куда-то и к кому-то идти.
Да, да, надо обдумать все, начиная именно с появления держиморды.
Прежде всего, если это случится ночью, как час назад случилось с милиционером Капустиным (его увели без четверти двенадцать), то он, профессор Коринский никуда не пойдет. Он слышал или, кажется, читал где-то, в чьих-то мемуарах, что в царское время политические отказывались являться на ночные допросы. «Что ж, – говорили, – несите на руках, а сам не пойду!» Ах, да это же ему когда-то товарищ Лесных рассказывал... Да, вот именно, товарищ Лесных – про себя. «Ну и как же? – спросил тогда Аполлон.– Неужели понесли?» – «Определенно! – модным словцом ответил товарищ Лесных. – Как миленькие...»
Тут профессору немножко смешно сделалось, его шустрое, живое воображение нарисовало забавную картинку, как волокут, кряхтя и матерясь, его семипудовую тушу.
Это вам не товарищ Лесных, в котором и весу-то как в десятилетнем мальчонке!
Нуте, нуте... Итак, приволокли. Дальше?
А дальше предполагался разговор, в котором некий распросукин сын попытался бы уяснить отношение профессора к ряду вопросов характера, несомненно, политического. Как ни странно, но, судя по всему, профессора собираются обвинить в большевизме. Да-с! Ни больше, ни меньше.








