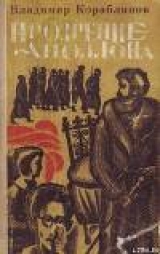
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
13
Рудольф Григорьич Лебрен, свободный художник, потрясатель классического искусства, длительное время находился в запое. Это началось у него аккурат в тот веселый, ликующий день, когда генеральские войска победоносно входили в город. Зная, какие опасные неприятности подстерегают еврея при встречах с белым, зачастую нетрезвым, офицерством, он спешно покинул свою большую и неуютную комнату в доме вдовы Кусихиной и с центральной, Венецианской улицы перебрался на окраинную, сонную Старо-Посадскую, в столярную мастерскую своего друга, делателя гробов Бимбалова. «Живи, Григорьич, сколько тебе влезет!» – радушно сказал гробовщик и поселил Лебрена в самом лучшем, разделанном под красное дерево гробу.
Предавшись хмельному пороку, они до того погрузились в веселые сумерки денно-нощного опьянения, что лишь недели две спустя после освобождения города, кряхтя и стеная, вылезли на свет божий. Ох, как мрачен, неприютен показался им этот свет… Холодный дождь перешел в снег; невылазная грязь Старо-Посадской улицы, хоть и припудрилась, принарядилась в белое, но все так же цепко хватала прохожих за ноги, пыталась стащить с них плохонькую, поистрепавшуюся обувку. И тощие взлохмаченные вороны орали, терзая сердце своими хриплыми воплями.
Стоя у калитки, друзья остекленело таращились на холодную, равнодушную природу и, медленно шевеля очумелыми мозгами, смутно соображали, чем же теперь им заняться.
– Слушай… а может, они еще тут? – трудно ворочая языком – так хотелось пить, – сказал Лебрен. – Может, еще не кончилось?
– Не, я у Аниски спрашивал, грит, еще двадцатого прогнали… прошлого, грит, месяца…
– А нынче какое число?
– Нынче-то? – задумался гробовщик. – Да шут его знает, надо быть – октября какое-то… Ишь, погодка.
Постояли, поежились, помолчали.
– Ну, видно, спать пойду, – сказал гробовщик. – Держи, Григорьич…
Он вяло пожал Лебренову руку и скрылся в калитке. Рудольф сказал: «бр-рр-р!» – и, тяжко вздохнув, пошел куда глаза глядели. Шлепая по старопосадской грязи, с трудом выпрастывая нарядные когда-то баретки из хляби земной, размышлял о пустоте и бесполезности своей жизни. Он, правду сказать, не любил эти мысли, внутренне протестовал, но неуютная природа располагала к ним, наталкивала на них. В эти неприятные минуты почти трезвых рассуждений понимал, отчетливо видел, что он никакой не артист, не художник, а лишь подделка, фальшивка, говорун, терпимый, а иногда, может быть, даже необходимо нужный в нынешнее суматошное время еще мало чему научившегося детства Республики… За эти неполные два года Советской власти он привык возглавлять Искусство и руководить им. Такая роль ему нравилась: помимо житейского приварка это тешило самолюбие. Но настанет время – и нынешняя действительность вырастет из детских штанишек, его юные воспитанники «вольные скоморохи» сделаются взрослыми, и что тогда? Что?..
Что!!!
С такими послезапойными безжалостными мыслями Рудольф Григорьич выходит на бульвар и останавливается, потрясенный: серебряная парча покрывает деревья, белый кисейный занавес колеблется, готовый вот-вот взлететь вверх, к колосникам сцены, и – вот он, первый акт или даже пролог великой, чуточку сентиментальный, поэтической драмы наших дней: на засыпанной мокрым снегом скамейке – тонкий, трогательный силуэт беспризорника…
Нет, что ни говорите, а жил все-таки в Лебрене художник!
– Что с тобой, мой маленький Тэдди? – с участием, но уже привычно актерничая, спросил Лебрен, наклоняясь над мальчиком.
Тот не шевельнулся. Снеговые лепешки лежали на плечах его одежонки, на котомке, на заячьем малахае. Казалось, тоненький ручеек жизни мальчика иссяк и бедный страдалец уже где-то там, за тяжелыми снежными облаками, высоко над грешной землей…
Рудольф Григорьич враз протрезвел.
– Слушай, ты… Слушай! – бормотал он, тормоша малого, сбивая снег с его ватного капота. – Ты слышишь меня? Ну, отвечай же! Ну… Слышишь?
– Слышу, – глухо сказал Павлин. – Вы, дяденька, не думайте, я не помер…
– Фу черт! – Лебрен устало плюхнулся на скамейку. – Ну, ты и напугал же меня, босявка… Откуда ты взялся, Джонни?
– Погромче говорите, – сказал Павлин, – а то я с приглушью.
– Откуда ты? – заорал Лебрен. – С неба свалился?
– Зачем с неба, – улыбнулся Павлин. – Я из Камлыка приехал.
– Кам… лык? Это что? На луне королевство такое? И ты – наследный принц Камлыцкий, не так ли?
Павлин понял игру, она ему понравилась. Тут, в городе, все были какие-то скучные, злые. А этот – нет. Веселый. У него и одежа смешная, клетчатая… И – глянь – глянь! – очки вынул на палочке, смотрит…
– Нет, серьезно, – сказал Лебрен, оглядев Павлина в лорнет. – Кто ты? Судя по всему, не беспризорник. Мешочник? За хлебом?
Павлин молчал, улыбался, мотал головой.
– Каррамба! Да это же ведь так просто! Учиться приехал? Да? И тебе негде переночевать?
– Да переночевать-то что, – печально сказал Павлин. – Переночевать я и на вокзале переночую… Тут вон ведь что…
И он поведал Лебрену о своей коротенькой жизни, о нечаянной встрече с Денисом Денисычем. Сейчас только заметил Лебрен на скамье полузасыпанную снегом самодельную папку и догадался: рисунки.
– Но адрес-то, – воскликнул, – оставил же ведь тебе Денис Денисыч свой адрес? Потерял, что ли?
– Помер Денис Денисыч… – сказал Павлин.
– Ка-а-ак помер? – Рудольф Григорьич даже привскочил со скамейки. – Так я ж его совсем недавно видел, разговаривал даже…
Он действительно видел Легеню дня за два до того, как поселился в бимбаловском гробу. Тогда Павлин и о Пыжове рассказал.
– Такой старичишка сердитый… «Помер, – говорит, – нету никакого Денис Денисыча… Его, – говорит, – давно черви едят… Хватился!»
– Странно, странно, – задумчиво сказал Рудольф. Григорьич. – Ну, вот что, Томми, пошли ко мне, переночуешь, а завтра отведу тебя в художественную школу. И начнешь ты учиться, и все будет превосходно…
– А почему вы меня как-то все чудно называете – Томми да Джонни? Меня Павлином зовут.
– Павлином?! Нет, ты серьезно? – Лебрен так и прыснул. – Пав-лин! Ведь это – подумать!..
«Что за шальной дядька, – удивленно поглядел на Рудольфа. – Все ему чудно́…»
Многому по дороге дивился Рудольф Григорьич. В гробовой тишине почти месячного своего добровольного заточения, за пьяными разговорами, а чаще – за тяжелыми хмельными снами ничего ведь не видел, ничего не слышал. Город как будто бы и на месте стоял – все те же дома, те же деревья, но что-то такое, как в человеке после тяжелой болезни, какая-то перемена чувствовалась. Много разбитых окон, осколки стекол противно хрустят под ногами; иные стены исковыряны пулями – как оспинами покрылись; и удивительно много бумажного хлама на мостовых: перекати-полем гонит ветер настырные бумажонки, сметает их в кучи к стенам домов, к заборам и снова расшвыривает, снова гонит бог знает куда…
И как-то не по себе вдруг сделалось Лебрену. Медленно наплывало то неотвратимое, что случалось после каждого запоя, – чувство отверженности. Трезвая жизнь не желала принимать блудного сына, презрительно отворачивалась от него, гнушалась, мучила угрызениями совести, томила жаждой похмелья. Рудольф Григорьич всегда с трудом переживал свое выздоровление. Но встреча с Павлином чудесно встряхнула, поворотила мысли по иному руслу, и радостная блеснула надежда, что, может быть, встряска-то на пользу пойдет и безболезненным окажется выздоровление.
Но этот голый, неуютный город… Эти змеями шипящие под ногами, мечущиеся по улицам бумажки… Ненастный день и рано нависшие сумерки…
Синие и красные стеклянные шары проплыли, загадочно, таинственно мерцая в окнах аптеки И. М. Марголиса. «А что, если зайти, попросить? – подумал Лебрен. – Исай Моисеич поймет, не откажет: горит ведь… А, ч-черт! – искоса глянул на Павлина. – Нет, – вздохнул, – нельзя…»
Дорога шла через Красные ряды. Скучнейшее это место Рудольф никогда не любил: пыль, заколоченные сводчатые лабазы, мертвечина. Скорее, скорее пройти через эту несказанную тоску, через этот, черт бы его побрал, губернский ампир первой четверти прошлого века! Очутиться дома, под крышей, в тепле… Пардон – а что дома? Сырость, холодище, полоумная вдова с дюжиной вонючих, мяукающих кошек… Куда спешить?
В самом центре всегда голой, пустой, как блюдце, площади темнел словно бы какой-то посторонний предмет. Но тут отродясь никогда ничего не бывало. Странно, странно…
– Подожди-ка, – сказал Павлину. – Я сейчас…
И, дважды провалившись по щиколотку, обеими баретками зачерпнув ледяного месива, достиг предмета и вот стоял перед намогильной увенчанной звездочкой пирамидкой и читал скорбные слова о зверски замученных четверых, среди которых был и Ефим Ляндрес – друг, единомышленник, газетный обозреватель его театральных затей…
Мокрый снег налипал на аккуратную пластинку, на железную страничку истории российской, где начертаны были памятные слова о погибших, налипал снег и таял, стекая, как слезы. И тут-то отчаянье, стыд, тоска безжалостно навалились на Лебрена, и понял он, что – нет, не сможет одолеть надвигающуюся ночь и не спас его синеглазый мальчик от жестокого похмелья, да и никто и ничто не спасет…
Но загадочно, как будто намекая на что-то, будто подсказывая, сквозь сумеречную мглу синие и красные шары мерцали в отдалении. И, еще раз велев Павлину обождать, Рудольф Григорьич кинулся в аптеку.
Что ж, И. М. Марголис действительно понял и не отказал.
Всю жизнь Павлин будет помнить эту лебреновскую ночь. Что-то сказочное, немного страшноватое чудесным образом навсегда отпечатается в его памяти – сквозь сонную дымку и, значит, частью в чем-то искаженное этой дымкой, а частью, может быть, даже увиденное во сне.
Начать надо с того, как переступили порог дома вдовы Кусихиной и Павлюша, предводимый Лебреном, попал в остро, неприятно пахнущий мрак большой захламленной передней. Именно так – навязчиво и остро, как спирт, пахнет в цирковых помещениях в дни, когда гастролирует труппа дрессированных тигров. Полоумная вдова, избавь бог, не держала, разумеется, кровожадных хищников, но их с успехом заменяли десятка полтора одичавших разномастных кошек, которые по силе непристойных запахов не только не уступали пятерке бенгальских страшилищ, но, пожалуй, еще и превосходили их.
Твердой рукой человека опытного и знакомого со здешними местами Лебрен протащил оробевшего Павлина по каким-то таинственным закоулкам, среди невообразимого нагромождения сундуков, корзин, громыхающих ведер, полурассохшихся бочек и прочей рухляди (даже хомут под ноги попался, зацепил гужом) и, пошарив впотьмах, поскрежетав ключом, распахнул дверь.
– Ну, вот, располагайся, пожалуйста!
Королевским жестом Рудольф очертил полукружие в холодном, затхлом воздухе нетопленной комнаты.
Затем началась возня со спичками (они шипели, чадили, но гореть отказывались решительно) и поиски свечи, сопровождаемые приборматыванием: «Проклятая ведьма, не может электричество провести!» И словно бы кошачье мяуканье за дверью, в темной вонючей передней.
Наконец свеча была найдена и зажжена. Она осветила довольно просторную, с низким потолком комнату, совершенно пустую, если не считать какую-то диковинную полосатую развалину, которую Рудольф Григорьич числил в диванах, узенькую, больничного вида железную кровать и большой фанерный ящик из-под знаменитых асмоловских папирос «Эклер», исполнявший, по всей видимости, роль стола, ибо именно на него-то и была водружена порожняя бутылка со свечой.
– Нет, нет, не раздевайся! – замахал руками Лебрен. – Тут холод собачий… Вот, – он указал на полосатое чудовище, – вот здесь ты будешь спать. А сейчас – показывай свои рисунки.
И, пока Павлин возился с папкой, озябшими пальцами развязывая бечеву, Рудольф, оборотясь лицом в угол, поколдовал над чем-то, позвенел стаканчиком, побулькал – и сразу запахло аптекой.
– Вам что, нездоровится? – участливо, спросил Павлюша.
– Сердце, сердце… – пробормотал Лебрен. – Сердце, мой маленький Эдди… Пардон, пардон! – спохватившись, весело засмеялся. – Проклятая привычка… Ну, показывай, показывай…
Он заметно повеселел после лекарства, шустро засновал по комнате, а когда Павлин открыл свою папку, так же шустро принялся перекидывать картинки, почти не задерживаясь ни на одной, и что-то напевал, насвистывал, приговаривал: «Так-так… очень мило… Недурно, недурно! Да ты талант, мейн либер… Талант! Прелестная старушка! И этот мостик… Браво, браво, мой мальчик!»
Время от времени отбегал в уголок и там колдовал снова, звенел стаканчиком, и снова оттуда тянуло аптекой, и новая волна веселости накатывала на него. Но все бессвязнее, все страннее становились его замечания, и вдруг, ни с того ни с сего, вспыхнул непонятным раздражением и стал визгливо кричать, что все это – нет, не искусство, а подделка, жалкая попытка скопировать жизнь. И уж, конечно, не в этих дотошно написанных старушках и прямо-таки левитановских мостиках настоящее, а в том неведомом, незнаемом, что таят в своей природе круг, угол, квадрат…
– Вот, мой маленький Джонни… Вот! Вот! – чуть ли не с пеной возле рта кричал Лебрен, извлекая из недр полосатого чуда какие-то листы картона и кидая их на пол. – Вот настоящее! Вот сегодня и завтра искусства!
При этом он не забывал поворачивать Павлину свое лицо так, как любил, – в три четверти, под Мефистофеля с папиросной коробки «И я курю».
Павлин не на шутку перепугался. Сперва он подумал со страхом, что этот чудной клетчатый человек – безумец («маленький Джонни», «маленький Эдди» – вон оно что!) и, пожалуй, самое лучшее – попытаться удрать из его ужасного логова… Но, увидев, что Лебрен, позабыв про пестрые, раскиданные по полу листы (эскизы декораций Берендеева к весенней «скоморошине», потрясение классического искусства), уже не бегает, не кричит, а, грохнувшись на кровать, бормочет, засыпая, – догадался, что просто-напросто пьян его шальной знакомец, собрал в папку свои картинки и тоже стал примащиваться на отведенном ему диване. Устал он страшно в целодневных скитаниях по городу, ничего не ел, но даже и мысли не было сейчас развязать котомку, достать оттуда бабушкины лепешки: так спать вдруг захотелось. И, как-то ухитрившись между горбами пружин отыскать нужное местечко, заснул мгновенно и так крепко, что все последующее было увидено как бы во сне.
…Мерцал жалкий красноватый язычок свечи.
Спящий Лебрен кричал придушенно: «Ефим! Ефим!.. Прости меня, Ефим!»
Огромные черные тени шевелились на розовой стене, страшные тени каких-то невиданных зверей… Отвратительными голосами орали, выгибая спину, задирали длинные хвосты.
И тошный запах лекарства мутил нестерпимо.
На мгновение исчезали черные призраки, проваливались во тьму, но лишь на мгновение – и снова метались кошки, лизали половицы, громоздились на ящик, карабкались на спящего клетчатого человека.
– Ефим… – стонал Лебрен. – Прости…
Затем вскакивал, похожий на черта, освещенный адским пламенем моргающей свечи, дико оглядывался, отбивался от безумных кошек, скидывал их на пол; они грузно шмякались, расползались по комнате, и черные дикие тени их вновь распластывались на стене, истошно орали…
Время от времени в красноватом полумраке появлялась старуха, закутанная в немыслимое тряпье, в нелепой соломенной шляпке с бумажными цветочками; хрипло хихикая, гонялась за кошками, звала прокуренным голосом. «Пушок! Пушок! Кисуля!» Хотела поймать, но они ловко увертывались, прыгали высоко и с мягким топотом носились по комнате.
Наконец какая-то из этих тварей свалила бутылку со свечой, и та грохнулась на пол. И все затихло.
Утром на улице черным-черно сделалось, снег растаял, в стекла окон стучал ровный холодный осенний дождь.
Рудольф лежал пластом, страдал. Умирающе простонал, чтоб шел Павлин сам, без него, все будет отлично. Проще простого найти художественную студию: спросить арутюновский дом – всякий покажет.
– Послушайте, – сказал Павлин, – да вам, может, и поесть нечего? Так вот, я оставлю… – Он достал пяток лепешок, положил на ящик. – Бабуля мне много напекла…
– Ах ты, мой маленький… – всхлипнул Лебрен, отворачиваясь к стене, стыдясь своих слез: его корчило с перепоя, спазмы плача сжимали глотку. – Ах ты… мой маленький… Ну, ничего, ничего… еще не раз увидимся…
В мрачной передней стояла старуха из сна – то же тряпье, та же смешная шляпка, седая трясущаяся голова. Вокруг нее сидели кошки, мяукали жалобно, подхалимно, просили опохмелки. Павлин уставился на нее, все еще не понимая: что это, во сне или наяву? Старуха хихикнула и погрозила ему тонким кривым пальчиком…
А дом Арутюнова ему действительно сразу показали. И вот он стоял перед безобразными полосатыми львами, с восторгом и страхом собираясь переступить порог этого пролеткультовского капища искусств, за которым начиналась его, Павлинова, долгая жизнь, жизнь большого, подлинного художника с ее бесконечными сомнениями и ошибками, радостями и печалями, взлетами и падениями, поисками и находками…
Но об этом спустя полвека напишет он сам в искренней и беспощадной книге «Люди и годы».
14
Фотей Иваныч издалека было начал – завел о шкатулке с миллионом, о нынешних людях, каким, «мать-перемать, человека убить – все равно что цыплока прирезать», о неосторожности самой Зинаиды Платоновны, покойницы: «Царство ей небесное, упреждал ведь: дюже, мол, нараспашку живешь, милка… Неровен час-де какой злодей наскочит…» Но Аполлон Алексеич, перебив старика, спросил прямо, когда и каким образом погибла Агния Константиновна.
Фотей смешался, страшная встала перед его глазами картина: утренний полумрак в комнате, все раскидано, переворочено… седая гривка Зизи из-под подушки… и Агния, на полу, срамно заголенная…
– Да числа-то, дай бог памяти, осьмого, что ли, в ночь. Я этта утресь, значит, дай, думаю, картоху осталец переберу, да… хвать, а ключа-то от погребицы – черт ма, ну, я в дом, этта, стучать, конечно, да…
«Восьмого… восьмого…»
Аполлон попытался прикинуть, вспомнить – а что с ним восьмого произошло? И как ни силился, не мог, слишком уж незначительным казалось сейчас все то, чем в те ясные, тихие дни занимались они с паном Рышардом. Напряженно-внимательно слушал рассказ Перепела, но оттого, что так неожиданна, так чудовищно-нелепа и безобразна была сама гибель Агнии и так ошеломило его известие об этой гибели, до него и пятой доли не дошло из Перепелиного бормотания. Ему сейчас одно было важно, единственное: подумать в тишине. А старичок сыпал, сыпал пустыми словечками, пристукивал, болбонил перепелиной колотушкой, без конца поминая какие-то сельсоветские бумаги с печатью, картошку, пышные похороны, устроенные белыми властями, сообразившими обернуть убийство бывшей помещицы не как-нибудь, а красным террором, о чем даже и в газетке пропечатано…
Фотей совал потрепанный номерок «Телеграфа», и Аполлон, плохо, трудно соображая, читал гнусную статейку «о злодейском убийстве красными комиссарами двух одиноких женщин, дворянок по происхождению…».
«Какие дворянки? – пытался уразуметь. – Какие комиссары?» Он был как в столбняке
Фотей Иваныч засуетился с самоваром, но Аполлон решительно отказался от чая. Попросил сводить на кладбище, показать могилку. Сняв глупый соломенный картузик, молча стоял Аполлон под грубо, кое-как отесанным крестом у рыжего холмика и думал, думал, думал. И тут, в тишине земли изначальной, великой, где лишь ветра посвист в ушах да грустная песнь улетающих журавлей, понял наконец все. Хотя всего и было-то: «Нету Агнии. Ушла. Навсегда».
Он долго так стоял, опустив голову, тупо глядя под ноги, на пожухлую осеннюю травку, цветом своим сливающуюся с глиной могильного бугорка. И тишину, наполнявшую природу и его самого, лишь время от времени, словно медленными ударами похоронного колокола, раскалывали три слова: нет… ушла… навсегда…
И не слышал ничего, кроме этих печальных слов, ни как покашливал озябший на холодном ветру Перепел, ни шороха шагов подошедшего монаха. Он вздрогнул, когда Фотей тронул его за рукав и сказал:
– Вот отец Милетий спрашивает – панихидку не желаете ль по усопшей?
– Что? – словно проснулся Аполлон.
– Простите, профессор, – поклонился монах, – но, мне кажется, что молитва сейчас была бы крайне необходима и для вас, и для покойницы…
– Так что? – спросил Аполлон,
– Отпоем панихидку с вашего позволения?
– А-а… Нет, благодарю, – Аполлон понемногу приходил в себя. – Ничего не надо. Лишнее.
– Ах, вот как, – несколько смешался монах. – Понимаю. Профессор атеист, не так ли?
Аполлон сердито гакнул, срыву нахлобучил картузик и, круто повернувшись на каблуках, решительно зашагал прочь. Перепел, запыхавшись, ковылял следом, приговаривал:
– Какой же это священник! Одна видимость, мать-перемать… Вантюрист! Да ведь куда ж денешься, сбежал поп-то, вот он и пользуется мать-перемать!
И, хотя дело уже к вечеру шло и разумнее было бы остаться, переночевать в Фотеевой каморке, но, как ни уговаривал старик Аполлона, тот наотрез отказался, настоял на своем и уже в глубоких сумерках отправился на станцию.
Велико было горе.
Поезд прибывал лишь на рассвете, и всю долгую осеннюю ночь метался Аполлон возле полустанка, временами без дороги углубляясь в глухо шумящую черноту леса, каким-то истинно звериным чутьем всякий раз угадывая, в какую сторону идти, и, всякий раз, сделав круг по темной лесной целине, выходя к тусклому фонарю полустанка.
Давешний железнодорожник его заприметил.
– В зало пожалуйте, – сказал, насмелясь подойти к чудно́му растрепанному человеку. – Погодка-то, сами видите…
– Ничего, не беспокойтесь, – буркнул Аполлон.
– Да и небезопасно, знаете, – продолжал тот. – Того, пошаливают, знаете… Обобрать могут.
Аполлон снова сказал:
– Не беспокойтесь, – и, прогромыхав по дощатому настилу платформы, провалился во тьму, бесчувственный к хлестким ударам колючих веток дикого терновника, обильно разросшегося возле полустанка, к порывам холодного ветра, к ледяным брызгам то начинающегося, то замирающего дождя.
Боль утихала понемногу, переходила в усталость. Обрывки мыслей из беспорядочной круговерти вырывались мало-помалу, выравнивались, обретали законченность, житейский смысл. В шуме ненастной ночи еще звучали далекие удары скорбного колокола: «ушла… навсегда…» – но все реже, все глуше. И вдруг во тьме ярко, радостно сверкнула в памяти Рита, веселая, хохочущая, в распахнутой кожаной курточке, с замызганной холщовой папкой… Это была жизнь, деятельность, счастье. Это был конец темной, ненастной ночи. Это было прозрение в будущее. Как бы озаренный фантастическим светом будущей жизни, стоял он на мокрой платформе, впитывая в себя этот животворный свет, пока в утренней мгле не показались два красноватых глаза приближающегося паровоза.
В вагоне, как и месяц назад, приглушенно рычала гармошка, хлопали двери, тянул свежий, мокрый сквозняк, но он ничего не видел, ничего не слышал: привалившись к спинке деревянной скамьи, крепко спал, приоткрыв рот, слегка всхрапывая. Растрепанный вид его у одних вызывал усмешку, у других жалость: исцарапанное в кровь лицо, свалявшаяся борода, полная мелкого лесного хлама – стеблей, листочков, хвоинок, паутины… Смешной картузик где-то потерялся в ночных блужданиях, космы на голове лохматились по-лешачьи… Соседи разно о нем судили: что тронулся, сердечный, что попросту выпимши мужик, иные (женщины) угадали в нем монаха из разоренного монастыря, приняв длинную черную крылатку и золотом поблескивающие бляхи застежек за признаки священства.
Но как ни судачили, как ни спорили возле него, ни одно слово не долетело до Аполлонова слуха. Он проснулся, когда поезд уже подходил к городу и паровоз разбойно ревел, требуя поднятия семафора.
Выйдя вместе со всеми на вокзальную площадь, профессор остановился, поискал глазами водопроводную колонку. Возле нее, как всегда, чернела очередь, и он смиренно пристроился к ней. На него и тут поглядывали с удивлением: ни ведра у человека, ни чайника, ни кружки. А он просто хотел умыться, и когда наконец очередь дошла до него, с удовольствием подставил горячую голову под тоненькую, но студеную струйку, и фыркал, растирал лицо, и даже за шиворот пустил воды. Легонько рыча и крякая от наслаждения, как бы воскресал из мертвых и радостно возвращался к жизни.
Шибко, размашисто прошагав через пустынные улицы города, через слободку, опытное поле и Ботанический сад, минуя профессорский корпус, вошел в главное здание института и поднялся на второй этаж. Он с удивлением услышал голоса. Несколько человек в грязных шинелях и потрепанных солдатских ватниках толклись возле двери в канцелярию. Кое в ком узнал он бывших своих студентов, и те узнали его.
– Аполлон Алексеич!
– Товарищ профессор!
– Ну, что, товарищи, отвоевались?
– Отвоевались, товарищ Коринский!
И жали руки, знакомые и незнакомые, и улыбались, понимая, что, хоть и не кончилась еще борьба, но уже завершилась победой на тех полях, откуда пришли они, израненные, усталые победители, что наступает счастливая, пусть трудная, пора учебы и строительства новой, правильной жизни, о которой знали пока что лишь из газет, плакатов да звонких митинговых речей…








