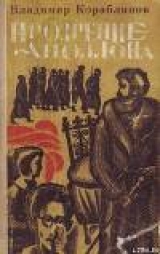
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Дамы расположились в комнатке, профессору постелили в сенях на садовом скрипучем диванчике. Диванчик был узок и шаток. Аполлон примерился, пофыркал и, разглядев под лавкой старое веретье, отлично устроился прямо на полу. Подслеповатый глазок воскового огарка скудно освещал довольно просторные сени – какой-то хлам, поломанное кресло, долбленая ступа, прялка, рассохшаяся, развалившаяся кадушка, ржавое ведро. Крохотное оконце, кошачий лаз, сияло переливчатой звездочкой. А прямо над головой резко чернела квадратная дыра чердачного люка.
Не из робких был Аполлон Алексеич, а поежился, жутковатой показалась ему чердачная черная пустота: еще с детства таилась в нем одна слабинка – боязнь чердачных потемок.
Он потушил огарок и подумал, засыпая, сказать завтра этой шальной Зизи, чтоб заколотили люк Через него легко пробраться в дом, а время сейчас тревожное, всякая сволочь скрывается по лесам – «зеленые» или как их там… На этой мысли профессор заснул, а утром Агния принялась вычитывать, как ему без нее надлежит устроить свой житейский обиход: чтоб дворничиху приговорил приходить хотя бы через день убирать в комнатах, чтоб с дочери глаз не спускал, «недоноска Ляндреса» чтоб не очень-то поваживал (он так и не удостоился расположения профессорши); чтоб сам допоздна не зачитывался, не портил бы зрение… И так заговорила Аполлона, что он, конечно, позабыл сказать насчет своих опасений, и вот теперь только, в вагоне, – пожалуйте! – вспомнил. И словно какая-то тень на малое время легла на веселую прелесть ясного утра…
Но кружили, кружили за окном перелески, дальние церквухи, мельницы, телеграфные столбы… Колеса постукивали на стыках рельсов. Ливенка рычала беззлобно где-то далеко, в конце вагона, грубовато выговаривала соленую «Матаню». И резвые, крепкие сквознячки шарахались взад-вперед по выгону. И на частых остановках среди поля, пока люди штурмовали поезд, были слышны бесконечные пересуды вертлявых ласточек, густо облепивших поющие телеграфные проволоки.
И было профессору Коринскому хорошо и радостно, и он очень хотел, чтобы подольше удержалось в нем такое легкое, благодушное настроение.
А дома подстерегала неожиданность…
Сперва он блаженствовал, отдыхал после дороги. Еще не заглохли, приятно, чисто звенели в ушах ласточки, поскрипывала «Матаня», веселый гудел вагонный шумок, вагонные тары-бары бренчали, сыпался словесный горох, и колеса постукивали – а-та-та! а-та-та! – но все тише, все глуше становились эти праздничные дорожные шумы… И первыми наконец ласточки заглохли, испарились; затем «Матаня» замолчала, и смех, и ругань – все померкло, растворилось в огромной и незыблемой тишине пустой просторной квартиры.
Тут после солдат было на совесть поскоблено, почищено, помыто, проветрено. И даже несколько дней Агния курила ароматными угольками, запах которых профессор терпеть не мог и говорил раздраженно, что «лучше уж откровенная человеческая вонь, чем этот мертвый, покойницкий аромат…».
Во всем был наведен порядок, обе кровати вернулись на прежние места, стояли чинно-благородно, со скромным достоинством, поблескивая никелем, делая вид, будто и не вытаскивали их отсюда никуда, будто не на них метались, стонали тяжелораненые люди, а на одной – вон на той, какая помассивней, с шарами, даже, было дело, умер один, по фамилии Гунькин, солдат второй роты сорок шестого пехотного полка…
Итак, порядок – довоенный, дореволюционный – снова установился в квартире. Половички, коврики, «брокгаузы», ширмочки, кресла и стулья – все заняло свои законные места, все обрело свою прежнюю благопристойную видимость. Но как ни скоблили, как ни проветривали, как ни курили, а тот плотный, могучий дух – махорки, портянок и пота, который принесли сюда солдаты, так и не улетучился до конца. И Аполлон Алексеич с удовлетворением заметил это.
Но вот ему и есть захотелось. Поглядел на часы – ого, шесть, начало седьмого, дело к вечеру… Пора, пора! Хотя бы червячка заморить, весь день ведь не евши… Стакан молока в шесть утра в деревне у Зизи, и все.
Он пошел в кухню, зажег керосинку. «Вот сейчас наварю полведра картошки, – подумал, сглотнув слюну, – а там, глядишь, и Ритка подойдет…» Она снова, как до болезни, по целым дням пропадала в городе, в редакции или где там… Профессор не осуждал ее, – вполне естественно: новое время, иная молодежь, свои, не понятные старикам, интересы.
Кушать, лопать, трескать, жрать
Вожделею ego,
Вещь картошка – наша мать,
Альфа и омега —
бубнил в бороду старинную бурсацкую песенку, засучивал рукава, приготовляясь заняться -стряпней… И вдруг увидел на кухонном столе вырванный из тетради листок в клеточку и на нем – размашистые, вкривь и вкось Риткины каракули (у нее был удивительно скверный, уродливый почерк), записка, адресованная ему: «Дорогой папочка…»
Дочь коротко сообщала, что она сегодня (стало быть, вчера, судя по дате на записке) в числе других четырехсот комсомольцев отправляется на фронт. Что понимает, как это болезненно воспримет мать, но что она, Рита, иначе поступить не может, хотя ей самой не легко огорчать милую мамочку… «А ты, фатер, меня поймешь, я знаю, и не только не осудишь, а еще, может быть, и похвалишь. Целую, ваша Рита».
Аполлон Алексеич повертел в толстых пальцах клочок бумаги, аккуратно свернул вчетверо и положил в карман. Затем сварил картошку, жадно поел ее без хлеба (в доме ни крошки не оказалось), напился морковного чаю. Походил, походил, побубнил что-то и вдруг решительно принялся собираться: скатал в тючок одеяло и подушку, накинул на плечи черную крылатку с бронзовой застежкой в виде двух львиных морд, смешной заграничный соломенный картузик «здравствуй-прощай», отыскал любимую свою палку с серебряным рубликом. Затем выключил подслеповатую лампочку, запер квартиру и, не глядя на ночь, зашагал в лес, к Стражецкому.
Крепкий, жилистый был человек профессор Коринский, ему по его силе все нипочем было.
Только не одиночество.
Началась у Агнии Константиновны тихая деревенская жизнь. Зизи с утра, подоив корову, уходила в комнаты, где помещался сельский Совет, принималась за бесконечные протоколы и списки, составляла ответы на запросы волостного исполкома, прилежной, грамотной своей работой укрепляла Советскую власть.
А профессорша отправлялась гулять.
В плоской соломенной шляпке, приколотой к прическе длинной булавкой, в черной, свистящей на ходу шелковой юбке, в роговом пенсне на тонком, чуть вздернутом, хрящеватом носике, она являла собой на деревенской дороге зрелище необычайное. Старики, бабы, ребятишки при встрече почтительно кланялись ей и провожали удивленными взглядами. Мужики, какие помоложе, с любопытством и некоторым подозрением оглядывали, хмурились – что это еще за барыня-сударыня объявилась в Баскакове? Откуда? Зачем?
Агния поеживалась под этими недружелюбными, колючими взглядами, невольно ощущая непроходимую пропасть между нею, дворянкой, белоручкой, и этими грубыми бородатыми людьми, которых сроду не видывала так близко, рядом, а знала только по Глебу Успенскому, по Чехову, Бунину и страшному рассказу Горького «Вывод».
Однако очень скоро всем в деревне стало известно, кто она, откуда и зачем, и враждебная недоверчивость на лицах мужиков сменилась добродушной усмешкой, беззлобной насмешкой над шляпкой, над свистящей юбкой, над пенсне. Неловкость, испытываемая профессоршей в первые дни ее прогулок, улетучилась, бродить сделалось легко и необыкновенно приятно.
Как ни противилась Зизи разговорам о прошлом, оно все-таки увлекло, захватило, и два-три вечера старые приятельницы жарко, празднично вспоминали ту петербургскую давность, в которой обе видели себя молодыми и счастливыми. Но вот иссякли воспоминания, и наступили житейские будни.
Зизи – та минуты покоя не знала: служебно скрипела пером в сельсовете, ходила за коровой, окашивала яблони в саду, или копалась на огороде. Тут ей, кряхтя, охая, шепча в желтоватые прокуренные усы вечную свою приговорку «мать-перемать», помогал ветхий Перепел, Фотей Иваныч, бывший ее приказчик, лет сорок прослуживший в приказчиках еще у стариков Малютиных и оставленный властями из милости (все ж таки бывший трудовой элемент) доживать век в чуланчике при старом господском доме.
В деревне людям скучать некогда было, каждого одолевали свои заботы. С далекой, где-то за горами, за долами, за синими морями гремящей войны возвращались раненые красноармейцы – кто на побывку, кто насовсем, по чистой. Оказывалось, что не так-то уж и далека война, что она где-то в южных уездах, что прут белые генералы дуро́м, как от них ни отбиваются, и, похоже, вот-вот и до Баскакова доберутся, ибо сильны, собаки, да и заграничные буржуи им подсобляют. Тревожные толки пошли – как еще, мол, обернется, ежели генералы верх возьмут…
Но жизнь потоком текла, ни на какие страхи не глядя: спешили убрать хлеб, с утра до вечера тарахтели телеги, ночами возы скрипели; по дворам, сухо, железно дребезжа, в вечерних сумерках стучали молотками, отбивая к завтрему косы; бабы, девки, наряженные в чистые расшитые рубахи, в красных шерстяных чулках, с песнями шли в поле вязать снопы, класть крестцы. Детям – и тем находилась работенка: кто телка стерег, кто за гусями доглядывал, чтобы, боже избавь, не забрели на капусту, кто младшеньких нянчил.
Стояла сушь, последняя летняя жара, благодатное время. И казалось, никаким силам не поколебать, не разрушить в природе эту великолепную предосеннюю благодать.
7
Верстах в пятнадцати от Баскакова, одним концом вклинясь в лес, кругом, как и Баскаково, загородясь холмами и лесочками, беспорядочно, абы как, кривыми своими улицами и проулками раскинулось большое село Верхний Камлык.
В конце августа на имя завгубнаробразом пришло оттуда письмо. Местный учитель Понамарев сообщал, что в избах верхнекамлыкских мужиков «великая масса картин, статуй и всевозможной роскоши», которые, как выражался автор письма, «были своевременно экспроприированы из имения «Камлык», некогда принадлежавшего помещику, махорочному фабриканту Филину С. М. Отношение новых владельцев к сим изъятым культурным ценностям весьма небрежное. Так, мною, Понамаревым И. С, наблюдался позорный факт разбивания деревенскими ребятишками некоей обнаженной статуи, изображавшей, по-видимому, богиню из греческой мифологии или тому подобное. Картины, написанные красками, зачастую служат в качестве дверей в катухах или в курниках, и многие есть повреждены, а какие находятся в избах, то и там не лучше по причине загаженья мухами и закопчения масляными каганцами, так как керосину в потребиловках нет и когда был – позабыли. Ввиду всего вышеизложенного, – заканчивалось письмо, – предлагаю срочно прислать из губернии полномочную ученую высокоавторитетную комиссию, каковой ответственная задача отобрать наилучшие из культурных памятников и принять надлежащие меры к их наивернейшему сохранению».
Такие письма из деревень в те поры были не в редкость. Они приходили то в наробраз, то в культпросвет, а оттуда их пересылали в музей, Легене. Таким образом письмо учителя Понамарева попало к Денису Денисычу, и он, вооруженный мандатом, подтверждающим его полномочия и авторитетность, собрался мигом и поехал в Верхний Камлык.
Ехать было недалеко, каких-нибудь восемьдесят верст, до станции Садаково, рукой, как говорится, подать, но от железной дороги предстояло еще порядочно пошагать, а сколько именно – сведения были разноречивы: одни, понаслышке, говорили – верст с двадцать, другие, понаслышке же, спорили: «Откуда! Десять, самое большое…»
Поезд пришел в Садаково вечером, в одиннадцатом часу. К зубчатому черному лесу прилепились станционные домишки, прижукли, темные, лишь в низеньком, приземистом деревянном вокзальчике красновато светились два окна. Поезд растревожил тишину, прогремел, гулко гукнул, ушел в темноту – и тишина снова сомкнулась, как стоячая вода в бучиле. Из-за леса, в розово-сизом тумане, вылупилась багровая луна и тотчас потонула в грязной туче. Зашлепали крупные капли дождя по листве, по железной крыше вокзала. «Вот так штука! – задумался Денис Денисыч. – Тьма, дождь, незнакомая дорога – двадцать верст… Уж не заночевать ли на станции?..»
А там – ни души, пустой зальчик с казенными черными лавками, с бочкой в углу. На дощатой стене – двухлетней давности плакат, где восходит алое солнце и негритянски-коричневая босоногая российская баба, застывшая в какой-то несуразной пляске, зовет подписаться на выпущенный Керенским «заем свободы». Стеариновый огарок сквозь мутные стекла фонаря скудно освещал эту грязную, заплеванную семечной шелухой станционную нежить.
Денис Денисыч сел, огляделся. Привыкли глаза к сумраку, прощупали затененные углы, и оказалось, что не так уж пусто здесь: грузный мужчина с ковровым мешком, в дорогой суконной поддевке, в хороших сапогах, сидел, привалясь к высокой спинке станционного дивана, дремал; за ним, совсем влипнув в потемки, – женщина в газовом шарфе, в клетчатом саке и сухонький старичок священник, старающийся, видимо, скрыть свое священство: длинные седоватые волосы собраны под поповской шляпой, торчат смешными косицами, партикулярное пальто, полосатые брюки навыпуск. Он, кажется, из местных был – поздоровался за руку с заглянувшим в зал железнодорожником в красной фуражке, назвал его по имени-отчеству. Денис Денисыч подумал: не попутчики ли? – и поговорил с толстяком, клетчатой дамой и священником. Оказалось, нет, не попутчики, ждут утреннего поезда на Крутогорск.
Дождь ровно шумел. За тонкой дощатой переборкой что-то скучно, сухо потрескивало; прокуренный хрипловатый бас, в котором легко было узнать того, кто заходил и здоровался с батюшкой, время от времени лениво покрикивал: «Курлак! Курлак!» – и замолкал надолго. Курлак – было название соседней станции.
Шум дождя, ленивая возня за стеной, полумрак, какая-то отчужденность от всего мира – словно вся вселенная сосредоточилась здесь, в этом грязном, заплеванном станционном зальце, словно, вот если распахнуть дверь на визжащем блоке и выглянуть наружу, то там – ничего нет: ни неба, ни звезд, ни людей, а лишь клубящийся мрак первозданного хаоса… И черт его знает, витает ли в нем творец, да и думает ли он отделять землю от воды и создавать зверей, птиц и видимое нами небо… Вон – за перегородкой – снова хриплый человеческий голос сонно кричит: «Курлак! Курлак!» А где он, этот Курлак? Да и есть ли он?
.Сон потихонечку сморил Дениса Денисыча, и, уже засыпая, подумал он, как чудны, как чужды русской речи названия сел в этом уголке России: Курлак, Садаково, Темрюково, Каган, Белибей… Какая дичь, какая азиатчина!
Затем мысли поплыли неразборчиво, медленно, как тающие хлопья предрассветного тумана, мысли-призраки, мысли-видения, и все в тартарары вдруг провалилось. Голова сама по себе склонилась на деревянный подлокотник вокзальной лавки, руки сами по себе подсунули под щеку обтрепанный брезентовый портфельчик – и Денис Денисыч заснул.
Он так, наверно, и проспал бы до утра, но его разбудили. Упираясь в потолок лохматой маньчжурской папахой (Легене именно так показалось – в потолок), над ним стоял великан, длинными руками щупал портфель, норовил вытянуть из-под головы.
– Что вам угодно? – растерянно спросил Денис Денисыч, без сопротивления, впрочем, отдавая великану портфель. И тут же, стряхнув остатки сонной одури, уразумел, что никакой не великан, а так, обыкновенный круглорожий мужичишко в солдатской шинели без хлястика, замухрышистый даже какой-то, мозглеватый. Таких много в то время болталось по железным дорогам, и трудно было разгадать, кто они: партизаны, дезертиры или попросту разбойнички, по ком тюрьма давно плачет.
– А вот сичас побачим, чего нам вгодно, – равнодушно, не глядя, сказал мужичонко. Он дергал замок портфеля, тщетно пытался открыть.
– Позвольте, я…
Денис Денисыч ключиком отомкнул замок. Мужик вырвал из рук портфель и вытряхнул на скамью все, что там было: пачку чистой бумаги, наполовину исписанную клеенчатую– тетрадку, карандаш, школьную вставочку с пером и плоскую, как лепешка, дорожную чернильницу-непроливашку.
– Гроши е? – хмуро спросил.
«Вон что! – догадался Денис Денисыч. – Понятно… Ну, брат, не по адресу попал, с меня чего возьмешь…»
Все это время, пока круглорожий возился с портфелем, Денис Денисыч, спросонья, что ли, словно оглох – только и слышал голос мужичонка, его сопение, простуженное шмыганье носом, но вдруг будто затычки вынули из ушей – враз хлынули звуки: дамочка в темном углу верещала: «Послушайте! Послушайте! Я умоляю вас…» Священник дрожащим голосом уговаривал кого-то: «Богом прошу, Алексей Иваныч, поимейте жалость… куда ж ей в долгий путь без средств… Истинно говорю, пропадет…» Гугнявый кто-то грубо оборвал: «Ну, цяво, цяво, батя? Ну, цяво? Не трогают тебя ж то! Сиди, не крици…» Дамочка, тоненько подвывая, плакала. А за стеной уже не стучало, не потрескивало и никто не вызывал Курлак.
– Гроши давай, – мирным голосом сказал мужичонко.
Вертел в корявых пальцах тощий старенький бумажник, мутными белесыми глазками недоверчиво поглядывал на Легеню: как же так – золотые очки, шляпа, вполне буржуйская бритая морда, а денег всего-навсего одна жеваная керенка-сороковка? Еще бумага с лиловой печатью – мандат.
– А чумайдан где? Ай вещи какие?
– Да нет у меня вещей, я же вам говорю…
– Чудно́. Без грошей, без чумайдана…
– Да зачем мне? Я еду по командировке искать хорошие картины, статуи… Прочтите мандат, там написано.
– «Предъ-яви-тель се-го… – с превеликим трудом, со школьным старанием читал мужичонко, – гражданин… Лы… Ле-ге-ня…»
Денис Денисыч искоса поглядел в темный угол, где, кажется, уже все кончилось: гугнявый верзила, что-то распихав по карманам, хозяйственно, не спеша связывал ремнем большой кожаный чемодан и ковровый мешок. В тишине было слышно, как скрипит ремень в руках гугнявого да нежно, сонно шелестит по железной крыше дождь.
– Греха-то, греха! – бормотал священник. – Эх, Алексей Иваныч, Алексей Иваныч…
– Без греха, батя, нипоцом не проживешь, – с усмешкой отвечал верзила. – Время, батя, нонче такая…
– Человека-то загубил за что? За сапоги…
– Да цо ты, батька, наладил – загубил, загубил! Оцухается. Кто же его знал, цо он хлипкий такой, чисто барышня, ей-бо… Я ж ему и дал-то однова, а он, гля, с копыт! Охвицер, ваша благородь… Он, батька, ишшо себе сапожишки раздобудет, а мне как разуткой? Вишь, развалились… То-то и есть, кабы я цо…
«Кого загубил? Какие сапоги? – удивился Денис Денисыч. – О ком это они? А-а, толстяк! Неужели…»
Человек в поддевке лежал на грязном полу лицом вниз, смешно раскорячив неправдоподобно белые босые ноги.
– «…на предмет… уста-но-вле-ни-я, – с трудом читал корявый мужичонко, – цен-нос-ти… ху-дож… худо-жест-вен-ных про-из-ве-де-ний… находя… нахо-дя-щих-ся у кресть-ян се-ла Верх-ний Камлык… как то кар-тин… порт-ре-тов… и прот-чих про-из-веде-ний жи-во-пи-си…» Ага! – сказал торжествующе. – Живописец, стал быть? Так бы сразу и говорил. А сороковку, браток, придется тово… изъять.
Под самым окном прогремела телега, конь заржал. С шумом распахнулась дверь – в ночь, в непогоду. Рыжий бородач, представший вдруг в черном дверном проеме, закричал с порога:
– Шабаш, мужики! Машина! – и, гулко бухнув дверным блоком, с треском смылся назад, в черноту.
Следом далекий послышался гудок и пыхтящий, нарастающий шум паровоза, вторгшиеся в сонный, тихий шепот дождя. Гугнявый Алексей Иваныч перекинул через плечо связанные ремнем чемодан и мешок; круглорожий кинул наземь Легенину бумажку с печатями, и оба резво кинулись к выходу. В дверях Алексей Иваныч остановился и, почти не целясь, щелкнул из офицерского пистолетика по тусклому, грязному фонарю. С дребезгом и звоном разбитого стекла наступила кромешная тьма. Тотчас на улице затарахтела телега, развеселый матерок со смехом донесся снаружи, и все смолкло, былая сонная тишина вернулась в захарканный зальчик.
Тогда зашевелился впотьмах лежащий на полу, приподнялся, сел, подобрав под себя босые ноги, и обхватив руками голову, застонал.
Длинный товарняк, разбойно свистя и рассыпая ядреные искры, прогремел мимо темной станции, не останавливаясь. Вошел давешний железнодорожник с ручным фонарем и, высоко над головой подняв его, пристально всех оглядел.
– Алешка Гундырь? – деловито спросил у батюшки.
Батюшка сказал:
– Да а то кто же… Вот, извольте видеть, дамочку обобрал, злодей. Вот их, – указал на толстяка, – даром что с пистолетом… Ведь и вас, кажется? – обернулся к Легене.
– Це-це-це! – сочувственно почмокала красная шапка, зажигая свечу в разбитом фонаре. – И когда уж их, чертей, переловят?.. Просто-таки житья не стало, фактически говорю… Ах, фулюган!
Батюшка вздохнул сокрушенно.
– Такой, знаете, до войны тихий мужик был, богобоязненный, знаете… в церковном, знаете, хоре пел, приятный такой тенорок. Но вот развратился, все можно… твое-мое, знаете… Он ведь наш, темрюковский, – пояснил батюшка. – Мой, знаете, в некотором смысле, прихожанин… О-хо-хо, грехи наши тяжкие… Я, говорит, анархист… а? Эка, скажите, какую чепуху придумал?
– Дезертиры – вся ихняя компания, – презрительно плюнула красная шапка. – Бандюги…
Вдоль дороги, по столбам, ровно гудели провода. Чуть-чуть сизела на востоке узкая дымчатая полоска. Дождь перестал, со степи тянул холодный ветер.
Еще в поселке, сразу же за дощатой платформой станции, Денис Денисыч набрал полные башмаки воды и грязи и теперь шел, тяжело шлепал по расползающемуся под ногами чернозему, не разбираясь, напролом.
Утрело быстро. Дождь перестал, со степи тянул холодный, мокрый ветер. Вдали, по левую руку, темной гривкой чернел лес; по правую – крутой бугор, на гребне которого, похожая не то на зверя, не то на человека, смутно виднелась полуразвалившаяся ветряная мельница. С той стороны веяло дымом, слышался собачий лай, петушиный крик. Где-то там, на полугоре, громко говорили невидимые в рассветных сумерках люди и что-то побрякивало, позванивало, все приближаясь к столбовому большаку.
Наконец отдельные голоса стали различимы, и, словно с непогожего неба свалившись, впереди, в полусотне шагов от Дениса Денисыча, на дорогу выкатилась телега и остановилась, видимо поджидая его. «Вот ночка! – подумал Денис Денисыч и вспомнил Матвевнушку-няню, как она частенько говаривала, провожая его в поездки: «Доездишься… Ох, доездишься, голубь!.» И как-то сразу вдруг нехорошо сделалось, тоскливо, будто бы дурное, темное предчувствие беды укололо душу.
Телега стояла, ждала. Металлическими колечками сбруи побрякивала, горячась, лошадь, а люди молчали. Ну что оставалось Денису Денисычу, как не продолжать идти вперед? Он и пошел.
Людей было трое. Дикими, чудовищными казались они в неясном свете непогожего седого утра: в халатах, в мешках, накинутых на головы от дождя, они вовсе и не людьми выглядели, а кулями-чувалами, поставленными «на попа». Что-то еще, накрытое веретьем, бесформенной кучей горбилось в телеге.
– Стой, цто за целовек? – негромко окликнул один, и по гундосому говору Легеня сразу признал в нем Алексея Иваныча.
– А-а! Живописец! – чуть ли не обрадованно захохотал другой. – В Камлык, стал быть, топаешь? Ну, давай, давай, залазь на телегу, подвезем верст пяток… Да залазь же, говорят тебе, не боись!
Опять-таки – что оставалось Денису Денисычу, как не принять приглашение? Ухватившись за грядушку, вскарабкался, примостился рядом с вокзальным своим ночным знакомцем. Крепким сивушным перегаром, луком, махрой дышали мужики. Видно, побывав в деревне, подкрепились, а теперь поспешали в лесные свои берлоги. Рыжебородый кучер гайкнул на лошадь, взмахнул кнутовищем, и телега шибко покатилась по большаку.
Молчали сперва. Во все стороны кидало людей, какие разговоры! Рыжебородый гнал остервенело, часта сбивая резвую лошадь с хорошей рыси на скок. Комья грязи летели, шмякали по лицу, и тут Денис Деписыч пожалел, что нет у него ни мешка, ни какой иной дерюги, чтоб схорониться с головой. Да к тому ж еще и похолодало, сделалось вдруг темно: полоску зари накрыла густая серая наволочь; ночь, как бы воротившись назад, отодвинула утро, велела рассвету погодить, остановиться за краем земли.
Темнота все-таки расположила к разговору, ну и трясти стало не так, – пошел песчаный грунт, дорога выровнялась, легла скатертью.
– Да-а, браток, – посмеиваясь, начал круглорожий. – Такая, браток, нынче жизня произошла, что не знай как об ней и рассудить… Вот сидишь ты, стал быть, сейчас и соображаешь насчет нашего брата: ах, мол, разбойники, распросукины дети, туды иху! И как только подобную сволочь господь терпит… Верно? А, живописец?
«Фу ты, черт! – поежился Денис Денисыч. – Вот ведь какое глупое положение… И что они затеяли? И куда меня везут? Верст пяток… гм… гм…»
– Ага, молчишь! – заржал круглорожий. – Опасаешься чисто, стал быть, зверей каких…
Какой-то железкой назойливо бренчала телега, мягко шипели ошинованные железом ободья колес, врезаясь в тугой песок. Смутно черневший лес приближался, словно живой, подползая навстречу. Две темные избы завиднелись в тумане у самой дороги – какие-то странные, не в меру длинные. Мелькнула догадка: не избы – прошлогодние скирды…
Алексей Иваныч зашевелился, привстал на колени, вглядываясь в дымчатую даль, что-то неслышно сказал кучеру.
– Не, – обернулся тот, выглянув из-под мешка рыжей бородой, – ништо! Ты ж, Ляксей, сам слыхал: Бахолдин на Татарку подался…
Алексей Иваныч опять что-то невнятно прогугнил по-своему и, покопавшись под веретьем, вытащил винтовку.
Первая скирда выросла вдруг рядом с телегой, от нее влажной соломенной прелью сладко потянуло. И когда телега подкатывала уже к ее концу, из-за угла выскочили люди, заматерились: «Стой! Стой!» Сверкнул выстрел. Алексей Иваныч злобно крикнул: «Вот тебе – Татарка!» – и, упав в телегу, хоронясь за Легеню, пальнул из винтовки раз, другой… Рыжебородый, пригнувшись, оглядываясь, кнутовищем молотил по лошадиному крупу. Телега, бренча и звеня, неслась, словно ополоумев, без дороги, прямо по жнитве, к лесу. Теперь все, даже кучер, стреляли. Ответные пули свистели от скирды. Раз металлически тявкнуло где-то внизу, у колеса, – попало в обод или железную чеку. Раз в грядушку угодило, с треском отворотило щепу… У Алексея Иваныча по бумажно-белой одутловатой щеке алой стрелкой стекала кровь…
Денис Денисыч лежал, уткнувшись лицом в мокрое, пахнущее лошадиным потом и навозом веретье. Бессвязные мысли прыгали чехардой: недописанная повесть – нянюшка – камера в Чека – подлинный Рембрандт – Ляндресова статья – верхнекамлыкские картины…
И вдруг сильно тряхнуло, что-то затрещало, телега завалилась набок, на ржаную стерню… Последнее, что слышал Денис Денисыч, было жалобное, как плач, ржание лошади. А затем он ударился головой о твердую, словно каменную, землю, и все замолчало, все померкло.
– Как не знать, другой год, тентиль-вентиль, в милиционерах хожу… Это наш, баскаковский, – говорил, словно пел, чей-то ласковый тенорок. – Кузьмичев Прошка… Их у нас по-улишному Пупками дражнят. Пупки да Пупки, а по фамилии даже мало кто и знает…
– Кулак, очевидно? – деловито спросил сухой, начальственный, городской голос.
– Да не-е, какой кулак! – пропел тенористый милиционер. – Так, посредственный мужичишко… Семеро ртов, изба-завалюшка. До войны, бывало, метлы вязал, лукошки плел, тем кормился. А как с фронту прибег, – ну, избаловался, тентиль-вентиль, на легкую, значит, жизнь потянуло… Вот с этим с Алешкой с Гундырем теперь гулял… Ай-яй-яй!
– Догулялся, – зло, как ножом пырнул, сказал городской.
Помолчали. Кто-то, кажется, закуривал, чиркал кресалом. Затянулся, закашлялся, хрипло пустил матерка.
– Аж до самой печенки… так его!
Это был третий голос – мальчишеский, ломкий. Матерная приговорка звучала робко, неумело, без смаку.
– Звание чекиста позоришь, Еремин, – строго, укоризненно сказал городской. – Комсомол компрометируешь.
– Виноват, товарищ Бахолдин, с языка сорвалось, дюже крепок, вражина!
– То-то, сорвалось…
Солома под скирдой была влажная, но теплая: солнце, видимо, вырвалось из наволочи, взошло, пригревало, парило.
– А рыжий тоже ваш? – спросил городской.
– Нет, этого чтой-то не знаю. Дальний, похоже.
– Провели операцию, называется! – раздраженно сплюнул городской. – Гонялись за Гундырем, а взяли какого-то культпросветчика! И за каким он чертом к ним затесался?
– Потеха! – засмеялся Еремин-комсомол.
– Хороша потеха! Уголовное дело, а не потеха. Ты, Еремин, между прочим, очки-то его подобрал?
– А как же, товарищ Бахолдин, вот они. Ни шута в них не вижу, все сливается…
– Не верти, поломаешь. Игрушку нашел. Ребенок ты еще, Еремин, ей-богу…
– Ну да, – обиделся комсомолец, – ребенок… А кто рыжего срезал?
– Бьешь ты метко, это действительно, но вообще-то… Слушай, товарищ Тюфейкин, что это Петелина с подводой до сих пор нету?
– Приедет, никуда не денется, – пропел милиционер. – Небось струмент собирает. Ему шкуру с жеребца снять – тоже не без выгоды.
– Завтра бы снял, – буркнул товарищ Бахолдин.
– Завтра нельзя, к завтрему волки ее так разделают, что ай-люли!
– Глядит! – крикнул Еремин. – Товарищ Бахолдин! Глядит…
Денис Денисыч давно очнулся, слышал разговор этих людей, хотел отозваться, но так болела голова и так хорошо было лежать на теплой влажной соломе и радостно сознавать, что жив, что даже не ранен серьезно и что впереди – жизнь, работа, тетради с русской повестью о древних днях, таинственных и трагичных…
Но вот он открыл глаза. На него смотрели, ждали, что скажет. И он, кряхтя, приподнялся, близоруко сощурясь, щупал руками солому, искал очки.
– Еремин! – скомандовал товарищ Бахолдин. – Очки!
– Вот спасибо, – сказал Денис Денисыч – И как это вы их заприметили, подобрали. Я, знаете ли, без очков совершенно беспомощный человек.
– Да вы и в очках, видно, не очень-то, – съязвил Бахолдин. – Как это вас занесло в такую компанию?
– Да вот, представьте… – Денис Денисыч протер платком очки, огляделся. – Простите, – сказал виновато, – а портфельчик мои вам не попадался? Плохенький такой, брезентовый…
– Портфельчик… – не то сочувственно, не то с усмешкой вздохнул товарищ Бахолдин – Вас под горячую руку очень просто ухлопать могли бы, а вы – «портфельчик»…
– А что, разве… – У Легени озноб прошел по спине. – Разве кто… кого-нибудь?..
– А то как же, тентиль-вентиль, двоих ссадили, – весело, довольно, словно хвалясь каким-то хорошо справленным делом, встрял милиционер Тюфейкин. – Вон они, под кусточком-то… Отпрыгались, головушки горькие! Жалко, Алешка ушел, самый ихний закоперщик…
Он махнул рукой на густо, непроходимо разросшиеся кусты дикого терна за скирдой. Там что-то, накрытое веретьем, виднелось, и трудно было бы понять – что, если б не нога в стоптанном, заляпанном грязью сапоге, торчащая из-под веретья, мертвая неподвижность этой ноги… Если б не пестрая хохлатая птичка удод, бесстрашно, будто на сухую кочку, примостившаяся на запыленный носок сапога. Еще дальше, на седоватой жнитвине, – опрокинутая телега и труп темно-гнедой лошади с уродливо вздувшимся животом и высоко, нелепо задранной задней ногой, закинутой на поломанную оглоблю. В двух-трех местах жнитву словно бы красноватой ржавчиной тронуло: это была засохшая кровь.








