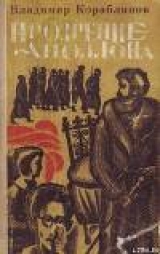
Текст книги "Прозрение Аполлона"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
«А в самом деле, – подумал профессор. – Чем тут киснуть да выслушивать бабьи стоны, проедусь-ка я действительно, погляжу, по крайней мере, что там и как… Да заодно, пожалуй, и к товарищу Абрамову загляну… Что ж такого, в конце концов!»
– Чудненько! – воскликнул Ляндрес. – Сейчас как раз бричка назад в город отправится. Я уже с ездовым договорился… Ауфвидерзейн, мадам!
Дорога была не приведи господи какая, ехали шагом. От захлюстанных разномастных коняг валил пар. Ездовой, молодой веснушчатый белобровый красноармеец, тонким бабьим голоском пел жалобную песню, которой конца-краю не было и слова которой сливались в одну какую-то тягучую звуковую массу, прерываемую (или, верней сказать, взрываемую) время от времени единственно отчетливыми словами «ох» и «ой».
Профессор и Ляндрес сидели на тюке прессованного сена. Кудахтающими от тряски голосами переговаривались. И оттого, что мотало их нещадно на рытвинах, на капризной колее мартовской дороги, что орали, надсаживаясь, чтобы получше расслышать друг друга, казалось, будто бранятся.
– Куда – – куда – – вы вчера – – увели – – Ритку-у? – рычал Аполлон.
– Кто вам – – сказал – – что я ее уводил?
– Но как – – как же?
– Она – – сама – – пошла!
– Позвольте, позвольте – – как это – – сама?
– Так – – очень просто… Шли-шли – – и уже город! Мы – – сти – и – – хи чи – – читали…
– Какие – – стихи? Что – – вы – – мелете?
– Чтоб я так жил! Я ей – – я ей свои – – стихи читал!
– Га-га-га!
Разинув рот, Аполлон смеялся, гоготал гусаком. Ляндрес обиделся.
– Чего это – – вас – – разбирает?
– Да как же! Сти – – хи! Сти – – хотво – рец! Га-га!
Ляндрес сердито молчал.
– Ну-ка, ну-ка, – веселился Аполлон, – Прочти… Сти – – хотво – – рец!
Ляндрес отвернулся презрительно. Скрипел кожаной курточкой. Поплевывал на обочину дороги. Поправлял очки.
– Ну? – гаркнул профессор. – Должен же я – – должен же я – – черт побери! – – знать – – какие стихи читают моей дочери!
Бричку тряхнуло так, что седоки вместе с тюком сена раскатились по днищу. Оборвав свои стоны, ездовой оглянулся с облучка, захохотал:
– Держись, интеллигенция!
И попридержал лошадей, пока профессор и Ляндрес примащивались.
Тут выехали на булыжную мостовую, начался город. Дорога пошла ровная.
Аполлон Алексеич уже и позабыл про Ляндресовы стихи, сидел, гордо задрав бороду, весь в сенной трухе, красовался своими енотами. Вдруг Ляндрес сказал хрипло:
– Топоры и клинки.
– Что-с? – обернулся профессор
– Топоры и клинки, – откашлялся Ляндрес – Баллада.
И быстро чачитал, забормотал, чуть подвывая:
Ляскает волком ружейный затвор, в черных ночах – костры. Каждая ночь – черный топор, ночей топоры остры… Но снова трубач зовет в поход, рассвет пылает в крови. И каждый день – это клинок, разящий песню любви…
Он замолчал. Бричка тарахтела по крупному булыжнику Ямской слободки. Дерзко ревел паровоз у семафора. Галки черным облаком реяли над голубыми куполами обшарпанной церкви, переругивались звонко противными голосами торговок на привокзальной толкучке.
– Остры топоры, – усмехнулся в бороду Аполлон. И, сбив на затылок боярскую шапку, сказал скороговоркой: – Петры́-тетеры́-получилы-сапогы… Тоже ничего себе, правда?
«И это известный ученый, – огорчился Ляндрес. – Ай-яй-яй!»
Студия помещалась в особняке купца первой гильдии А. Т. Арутюнова.
Этот дом, построенный незадолго до войны, обошелся Авессалому Тиграновичу – ходили такие слухи – в полмиллиончика. Но чего тут только не было нагорожено!
Был фронтон, украшенный мозаикой: четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух – в виде аллегорических женских фигур, довольно непристойных из-за почти полного отсутствия на них одежды. Были по фасаду между окнами второго этажа вылепленные преужасные оскаленные морды неизвестных, верней всего, мифологических чудовищ. У подъезда на каменных постаментах декадентские крылатые львы были, более, впрочем, похожие на самого Арутюнова, чем на львов. А также всевозможные ниши, в коих опять-таки различные изваяния – урны, вазы и даже какие-то геральдические щиты с орлами и медведями.
А внутри лепные и расписные потолки были, и снова – ниши, вазы и урны, размалеванные стены лестничных клеток – немыслимые фрукты из рога изобилия и летящая по синему кебу розовая ядреная девица, окруженная толстомясыми купидонами… И был зал с десятью мраморными колоннами, подпиравшими хоры. В простенках между высокими окнами – живопись ядовитейшей масляной краской: яблоки, груши, персики, апельсины, черный виноград.
Арутюнов содержал в городе с дюжину ренсковых погребков, и все они были размалеваны. Обожал Арутюнов искусство. Он говорил:
– Восток любит красок. В-ва!
Плакал, когда в восемнадцатом конфисковали особняк. На председателя губкомхоза кричал:
– Ти панымаишь, какие это картыны? Какие сытатуи? В-ва! Ти нычего нэ панымаишь!
Пришли студийцы, закрасили летучую девицу и поверх нее изобразили синие, желтые и красные квадраты, круги и треугольники. Арутюнов ужаснулся подобному святотатству. Ночью, прокравшись в бывший свой особняк, гвоздем нацарапал на треугольниках нехорошие заборные слова и – пропал. Уехал в Эривань, где в ту пору заправляли дашнаки, а Советской власти еще не было.
Нынче в арутюновском дворце владычествовал Рудольф Григорьич Лебрен.
В полутемном зале с колоннами сидел за дирижерским пультом. Черной лакированной палочкой стучал по крышке колченогого пюпитра, как бы управляя музыкантами. Оркестром была Пульхерия Кариатиди, маленькая, сухонькая седовласая женщина с безумными стеклянными глазами врубелевских видений. С дьявольской силой выколачивала она из рояля грохот поистине оркестрового звучания.
Лебрен ощерялся магнетизирующей улыбкой чародея, сумевшего вызвать из мрака небытия темные сонмы гремящих жесткими крыльями демонов.
Гордо запрокидывал голову, победно поглядывал на сцену. Его черные волосы, перехваченные бархатной ленточкой, блестели, отливали синевой, как крылья ворона. Алый бант на фиолетовой блузе пылал библейскою купиною, горел, не сгорая.
Шла репетиция спектакля «Золотой петушок». На деревянном ящике, изображавшем шатер шемаханской царицы, в кожаной потертой своей курточке, разводила руками, кружилась, виляла мощными бедрами Рита. Невзрачный курносый малый, чем-то напоминавший императора Николая Второго, неловко топтался перед нею, сиплым басом пел:
Буду я тебя любить,
Постараюсь не забыть…
Рита потешалась над неуклюжими движениями малого. И – никакой кисеи, никаких чашек, никаких непристойностей.
Бог знает чего только не выдумает Агнешка! Пожалуйста, вот он, сам «ужасный» Лебрен… Вполне порядочный, благопристойный.
Только этот уродливый бант разве
И эта дурацкая бабья бархотка…
Ляндрес представил их друг другу.
– Профессор Коринский. Рудольф Григорьич Лебрен.
– Весьма, весьма! – оскалил золотые зубы демонический Лебрен. И тотчас вытащил из кармана газету. – Читали?
– Простите?
Профессор в замешательстве оглушительно высморкался в огромный, как скатерть, платок с голубой линючей меткой «А. К.».
– Ну как же, как же! – воскликнул Лебрен, разворачивая «Известия». – Вот-с… Речь товарища Ленина на съезде. Гениально! Ге-ни-аль-но!
– Ты что, папа? – встревожилась Рита. Она подошла к краю сцены. Ляндрес уже вился около нее. Мордастый малый присел на ящик, достал коробочку из-под леденцов, принялся свертывать папироску.
– Да вот мама… – промямлил Аполлон. – Беспокоится.
– Господи! – Рита с досадой хлопнула руками по кожаным полам куртки. – Как будто я маленькая…
– Видишь ли… – начал было профессор…
– Обязательно! Обязательно прочтите! – наседал Лебрен, суя в руки Аполлона Алексеича газету. – Наконец-то поняли, умники, что не обойтись без специалистов, не-ет! Не-ет, синьоры! Не обойтись! И наша с вами деятельность, дорогой профессор, никоим образом не может быть поставлена в ряд с деятельностью какого-то чумазого мастерового… и должна быть по достоинству оценена… Да-с! Оценена!
Аполлон ошалело смотрел на Лебрена.
– Боюсь только, не узко ли понимают специалиста? Ученый? Инженер? Врач? Хха! Но позвольте, позвольте, профессор: а художник? Поэт? Не правда ли? Если не так, то это, согласитесь, крайне однобоко, я бы сказал… э-э… грубо-утилитарно, что ли… Да, да, вот именно так!
Странная манера говорить была у Лебрена: выстреливал по два-три слова, держась к собеседнику боком, показывая ему свой мефистофельский профиль, а в паузах оборачивался в три четверти, скосив глаза, поглядывал победоносно, с дьявольской улыбочкой.
Сверху вниз смотрел Аполлон, с высоты своего замечательного роста. Суетился внизу ничтожный человечек с тонкими кривоватыми ножками, обутыми в грязные солдатские башмаки, с синими обмотками на тощих икрах. Лакированная голова, украшенная бархоткой, смешно, по-птичьи, поворачивалась туда-сюда… И это – демон? Опасный соблазнитель?! От этого дергунчика спасать Ритку с ее мальчишескими драчливыми ухватками, с ее железными кулаками?!
Забывшись, профессор захохотал самым неприличным образом.
– Не так ли? Не так ли? – затрепетал, задергался Рудольф Григорьич.
– Что? Ах да, – спохватился Аполлон. – Простите.
Лебрен опасливо покосился на толстую палку с царским рубликом. Он, будьте уверены, тоже кое-что слышал о Ритином папеньке: опасный будто бы чудак… Чего ржет, спрашивается? Безусловно, типичный представитель буржуазной рутины в своих воззрениях на искусство. Поклонник пошлейших водевильчиков и сентиментальных мелодекламаций: «Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный…» И при всем при том, разумеется, яростный апологет классики. Чего доброго, еще обидится на профанацию (как же можно так уродовать Римского-Корсакова!) да и прибьет… Дубинка-то – ого! На всякий случай разумнее держаться подальше от этого мастодонта…
– Виноват, виноват! – Лебрен внезапно отскочил в сторону, ловко перемахнул через барьер оркестра. – Пульхерия Никосовна! Риточка! Передвигин! Алле! Продолжаем…
Застучал палочкой по пюпитру. Пульхерия трахнула по желтоватым клавишам. Рита взгромоздилась на ящик. Толстый Николай Второй – Передвигин затоптал валенком папироску.
– Ну, сами видите, все в порядке, – шепнул Ляндрес. – Я лично доставлю Риту после репетиции, не беспокойтесь. Так и скажите супруге: Ляндрес лично доставит…
Профессор задумчиво поглядел как бы сквозь Ляндреса. Медленно, аккуратно свернул Лебренову газету и засунул ее в карман.
Он шагал, не разбирая дороги.
Солдатские шинели, хмурое небо, грязный мартовский снег красили город в серое, и это серое – скучное, но и тревожное чем-то – подавляло, обезоруживало, лишало жизнь крепости, жаркой плоти. Превращало ее в нежить, в темь.
Его природа жаждала спора, а спорить было не с кем и не о чем. Все – мелочи житейские. Чепуха.
Лебрен? Пустяк, ничего серьезного. Обезьяна.
Солдатский постой? Уплотнение? Единственная кровать на троих? Ну и что? Подумаешь! Вспомни-ка детство, когда на печке, словно кутята, восьмеро дерущихся, царапающихся, ревущих… Это вот – да, а то тут… Да о чем говорить! И кровать, и морковный чай, и пешее хождение – все это такая чепуха, такая мелочишка, плюнуть, да и только.
Но вот – новые люди, такие, как Ляндрес, как собственная дочь и еще многие, которых не знал, но которые были всюду: в горсовете, в наробразе, в Чека, среди студенчества, до неприличия громко говорящие, странно одетые, в перешитых шинелях, в кожаных куртках, в ватных телогрейках, в красных ситцевых косынках, зачастую с револьверами, красноречиво выпирающими из-под одежи, – люди, вечно куда-то спешащие, что-то такое делающие во всех этих редакциях, студиях, в ячейках…
Может, с ними, с этими новыми-то, и поспорить? Но тут, пожалуй, ничего не выйдет: новое всегда непонятно, с ним не поспоришь, ему не поперечишь.
Была растерянность, потеря душевного равновесия. Шагал профессор, не разбирая дороги. И вдруг:
– Аполлон Алексеич! Аполлон Алексеич! Ах да остановитесь же, батюшка! Вот расшагался-то, не догнать…
Кругленький, румяный, как райское яблочко, коллега, приват-доцент кафедры сельскохозяйственных машин. Некто Благовещенский.
– Здравствуйте, дорогой! Читали?
Размахивает помятым газетным листом, захлебывается.
– Ну, батюшка, башка же, скажу я вам, этот Ленин… Ай хитрец! Ай дипломат великий! Исполать ему!
Профессор поморщился. Он недолюбливал этого пустозвона – «Ах! Ох! Батенька… Исполать!»
– Да, да, – сказал рассеянно, не останавливаясь, на ходу пожимая руку приват-доцента, мысленно посылая его ко всем чертям. – Спешу, простите…
Доцент резво бежал рядом, кудахтал, повизгивал. Что-то насчет приближающегося фронта, насчет того, что «солдатни понагнали»… Что-то насчет уплотнений… «Слышал, слышал и сочувствую, еще бы, целый взвод поставили, ужас!» А у него, у самого Благовещенского, то есть, представьте себе, поселился какой-то их командиришка, какой-то киргиз, представьте себе, слова по-русски не свяжет, всё «якши» да «жолдас» – ужас! Кошмар! А туда же, скотина, к дочке Лизочке подкатывается, нахал, пригласил пройтись и на прогулке давал ей стрелять из своего нагана…
– Да-а, батенька, понагнали войска, понагнали… А еще неизвестно – чья возьмет… Не от хорошей жизни товарищ Ленин пустился на этакие комплименты и посулы по адресу интеллигентов-специалистов… А не поздно ли? – мельтешил, подпрыгивал приват-доцент. – Не поздно ли взывать к интеллигенции-то? Ее, бедную, заплевали, захаркали – дальше некуда, а теперь, когда сами позапутались, когда со всех сторон генералы напирают, – ах, пожалуйте, господа, мы вас очень любим!..
Оглядываясь воровато, гримасничая, хихикал, петушился, пользуясь пустынностью улицы.
– Виноват, – сказал профессор, – мне сюда… Честь имею.
И круто завернул в подъезд с табличкой «Зубной врач И. М. Гительсон», скрылся, оставив озадаченного приват-доцента на улице. Минуту-другую постоял, прижукнув за дверью, затем выглянул, высунул кончик бороды: приват-доцент удалялся, походкой и даже спиной выражая недоумение и обиду.
Когда расстояние, разделявшее их, показалось достаточным, профессор выбрался из спасительного подъезда и, сердито, раздраженно стуча палкой по грязному тротуару, решительно зашагал назад, в центр: вспомнил данное Агнии обещание обязательно повидаться и поговорить с товарищем Абрамовым.
Где-то в глубине душевной шевелилась, беспокойно ворочалась мыслишка, что не надо бы идти в горсовет, просить, жаловаться… В самом деле, войска по всему городу расквартированы, все уплотнены дальше некуда; Коринские, собственно, в данном случае ничем от других не отличаются, но вот Агния…
«Да, Агния, ничего не поделаешь… Агния…»
С товарищем Абрамовым, председателем Крутогорского Совета, профессор встречался не раз, но это все были сугубо деловые встречи: строительство опытного завода, кирпич, тес, транспорт, рабочая сила. Еще – прокладка булыжной дороги от института к городу. Лично для себя Аполлон Алексеич никогда, ни самой малости у Абрамова не просил.
А вот теперь – извольте…
– Тьфу! – сердито плюнул профессор, с трудом протискиваясь в узенькую половинку двери горисполкома. Вторая створка вечно была на шпингалете, и это всякий раз раздражало, и всякий раз он хотел (не без ехидцы) намекнуть товарищу Абрамову, что не мешало бы вход в горисполком расширить, но всякий раз, увлеченный делами, забывал.
Всё было улажено в две минуты. Предгорисполкома повертел ручкой телефона, подул в трубку, покричал кому-то, несколько раз помянул Аполлонову фамилию, еще повертел, еще покричал что-то насчет «известного ученого, профессора», что-то насчет «специалистов, которым надо создавать условия». Аполлон сидел, сердито, смущенно сопя: он страсть не любил, когда его этак величали. Кроме того, ему жарко сделалось – от ходьбы, от неприятного просительного разговора, от чугунной раскаленной докрасна печки в тесном председательском кабинетике. И, как ни удивительно, но в этой тесноте и жаре, да еще в соседстве со щуплым, тщедушным Абрамовым, огромный профессор не только не подавлял своими размерами и быкоподобным ревом, но еще, казалось, и уменьшился вдруг как-то в объеме, а его трубный, площадной голос понизился до обыкновенного, комнатного, с некоторой даже конфузливой спотыкливостью.
– Удивительный же вы человек, Аполлон Алексеич! – не удержавшись, рассмеялся товарищ Абрамов.
Он с любопытством разглядывал профессора, весело поблескивал очками в железной старушечьей оправе, теребил клинышек чахлой бородки.
– У-ди-ви-тель-ный, чудной человек!
– Виноват-с, – насторожился, нахмурился Аполлон. – Не пойму, что же именно вы усмотрели во мне этакого… удивительного?
– Да как же! Почитайте, больше года мы с вами знакомы, сколько раз встречались, и что ни встреча – господи боже ты мой! – громы, молнии, стихии, одним словом… Прошлым летом, когда насчет кирпича приходили – помните? – даже палкой замахивались… Так ведь и думал: ну, прибьет! Струсил даже, ей-богу, струсил! А нынче…
– Нуте? – проворчал Аполлон. – Что – нынче? И к чему это вы про громы-то?
– Да так… Нравитесь вы мне, профессор! Чертовски нравитесь!
– Ну, я, знаете ли, не барышня, чтобы нравиться там или не нравиться, – довольно грубо отрубил Аполлон. – Честь имею-с.
И, злясь на себя за то, что пришел просить, и на Абрамова, что тот заметил его неловкость и даже смущение, шумно, неуклюже поднялся, задел полами шубы, опрокинул стул и, совершенно рассвирепев, тяжело топая глубокими калошами, вышел из кабинета предгорисполкома.
Дорогу развезло хуже вчерашнего. Между институтом и городом, туда и обратно, катились брички, скакали конные, шли пешие солдаты. Грязный кисель был, а не дорога.
Медленно пробирался Аполлон Алексеич по этой хляби. Месил слоновьими своими ногами оттаявшую, перекопыченную со снегом грязь. От профессора шел пар; вея растрепанной бородищей, в распахнутой шубе, в шапке, сдвинутой на затылок, он шел напролом – через грязь, через мокрое ледяное крошево, – живописная фигура!
Дороги, дороги…
Сколько про вас написано, сколько спето! Сколько на вас дум передумано…
Тянулись по серому небу низкие мокрые облака, ленивые тянулись мысли. Далекое детство. Вот так же, бывало, по черноземной грязи в школу тащился. Слобода длинная, из конца в конец – пять верст… О чем думал тогда? Как же, как же, помнит, очень даже помнит: ужасно хотелось поскорей вырасти и сделаться кучером… Плисовая безрукавка, шляпа с павлиньим пером, белые перчатки… Сердце замирало от восторга – ах, дурачок!
Да, дороги…
Вполне ведь реальная затея – проложить булыжное шоссе: институт – город. Подумаешь, четыре какие-нибудь версты. На сей счет даже принципиальная договоренность имеется с председателем горсовета товарищем Абрамовым. Он так сказал: «Вот подождите, дайте только белякам шею свернуть, на другой же день начнем дорогу делать. Сам пойду в камнебойцы, честное слово. Будет дорога!»
Когда белякам шею свернем… А, извиняюсь, скоро ли?
Не так это просто, дорогой пред. Вон они, наши чудо-богатыри-то: рваные шинелишки, на ногах – опорки, в котле – пустой кондер. Сидит герой на рояле, вшей давит. А у беляков – экипировочка: френчи английские из чистого сукнеца, сказывают, американская тушонка в банках, баня с мылом… Ну и вооружение, разумеется. Вплоть до новоизобретенных танков.
Тянулись бесконечные облака. Дорога тянулась. Мысли. Скакали двуколки и брички. Топали чумазые вояки, с присвистом, горласто орали песню:
Поздно вечером стояла д'ворот…
– Залазь, папаша, подвезу! – звонкий мальчишеский голос с дороги. Давешний ездовой парнишка скалил зубы, сдерживал разбежавшихся лошадей.
– Вот спасибо, дружок…
Вскарабкавшись, примостился на длинных зеленых ящиках. И враз оборвались дорожные думы. Вдали показался Ботанический сад, башенки института. Мысли пошли о домашнем: Агния, Рита, одна кровать на троих.
И, боже мой, как скучно сделалось! Житейские мелочи, пустяки. Чепуха. Чепухенция.
Профессор Коринский терпеть не мог житейскую мелочишку. Душа жаждала боя.
Словесного, идейного, разумеется.
А профессорша зудела, зудела…
Рита – – Ляндрес – – Лебрен – – одна кисея – – лишь чашки на грудях – – редакция – – Чека – – безнравственность – – ничего святого – – эти студии – – этот кошмарный солдатский запах…
– Какие еще там, к чертовой матери, чашки! – бешено гаркнул Аполлон. – Никаких чашек! Все вполне прилично! Я видел Лебрена, говорил с ним… Интеллигентный, порядочный человек!..
Агния вскрикнула.
– Грубый! Нечуткий! Крест моей жизни!
И, упав на козетку, принялась рыдать.
Профессор сидел у стола, не снимая шубы и шапки, потел, грозно посапывал мясистым носом. Досадовал на себя, что взорвался, помянул чертову мать.
Нехорошо.
Снизойти до таких пустяков? Ах, стыдно…
Немедленно взять себя в руки. А как? Как взять?
«Денисовой повестью займусь», – понемногу остывая, решил профессор.
Но вдруг вспомнил про газету, которую всучил ему Рудольф Григорьевич.
Газета была «Известия».
Серенькая бумага, серенький сбитый шрифт. Строгая, нахмуренная газета. Без единой виньеточки, без горластых, как бывало, объявлений. Сплошной поток набора однообразного, скучного газетного корпуса. И лишь, как солдатский строй, через всю полосу:
ДОКЛАД В. И. ЛЕНИНА О ПАРТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ.
М-м… Так что же тут такое? Нуте, нуте…
«Характер построения общей части программы. Тов. Бухарин, по-моему, не совсем верно изложил… Тов. Бухарин говорил… Тов. Бухарин…» Ого! От Бухарина прямо-таки клочья летят! Так-так… Самоопределение наций… Самоопределение пролетариата… Финляндия… Польша… О среднем крестьянстве… О кооперации… Прекрасно, прекрасно, но при чем же здесь специалисты? Ага, вот… «Вопрос о буржуазных специалистах вызывает немало трений и разногласий…» Трений и разногласий… Вон как! Нуте-с. «Можем построить коммунизм лишь тогда, когда средствами буржуазной науки и техники сделаем его более доступным массам…»
– Очень, очень правильная мысль!
«…Надо привлечь к работе всех этих специалистов…»
– Давно пора, милейший! Давным-давно пора…
«…Мы превосходно знаем, что значит культурная неразвитость России, что делает она с Советской властью… эта некультурность принижает Советскую власть и воссоздает бюрократию…»
– Именно! Именно, черт побери!
– Молодец Ленин!
– Так… спартаковцы. А эти что? Ага! Рассказали, что в Западной Германии «на очень многих… предприятиях инженеры и директора приходили к спартаковцам и говорили: «Мы пойдем с вами». У нас этого не было…»
– Не было?! Хо-хо, уважаемый! Мало сказать – не было! У нас специалисты недвусмысленно заявляли: идите к черту, нам с вами не по пути!
А вы говорите – не было…
Слишком, слишком деликатно изволите выражаться, милостивый государь. «Не было»! Х-ха!
У нас черт знает что было. Вспомнить лишь, какой эти полупочтенные наши специалисты подняли вой, когда я открыто пошел на сближение с новой властью… Руки не подавали, прохвосты! Телефонные звонки, анонимки: «Продался, сволочь краснопузая!»
А вы говорите…
Действительно, действительно, умный, интересный доклад. А-а!.. «Заставить работать из-под палки целый слой нельзя».
– Абсолютно правильно!
«…Они будут побеждены морально… Тогда они будут сами собой вовлечены в наш аппарат, сделаются его частью…»
– Что-что-что? Позвольте? Меня! Собираются! Вовлекать?! Делать частью чего-то?! Га-га-га-га!
Профессор заржал жеребцом. Агния, от огорчения задремавшая было (она всегда задремывала от огорчения), вздрогнула.
– Что ты? Что ты? – залепетала испуганно. – Что? Что?
– Я ничего, шерочка, – медовым голоском ответил Аполлон, – так, знаешь ли, спазм какой-то получился… К-га! Гм-м… Да, забыл сказать тебе: был у товарища Абрамова, он все устроил. Да ты спи, спи, пожалуйста… Спи!
Он боялся, что Агния проснется и опять примется зудеть. Хотелось сосредоточиться. Он чувствовал приближение спора. Его, видите ли, намеревались вовлечь и сделать частью! Словно он был несмышленыш какой-то.
– Не-ет, па-а-звольте, милостивый государь! Что это такое – сделать частью? Что-с?
Агния успокоилась, посапывала мирно.
Ратное поле простиралось перед Аполлоном. Боевые хоругви реяли в предгрозовой тишине. Трубач трубил поход.
Хотелось двигаться, топать, размахивать руками. В пылу спора издавать междометия: а! га! хо! эх! И даже рычать. Но было тесно, одна-единственная, забитая вещами комнатка. Где там ходить да размахивать. А уж рычать… Сон Агнии чуток, тут никуда не денешься. Сиди, помалкивай.
И вдруг вспомнил: а ванная! Ванная-то на что!
На цыпочках, с газетой в руке, крадучись – туда.
Через затоптанную, провонявшую сапогами и махоркой гостиную, где сиротливо, испуганно забился в угол беккеровский рояль, где вдоль стен в унылом ряду – солдатские вещевые мешки; через переднюю с дремлющим дневальным, тем самым, что вчера так насмешливо и ласково говорил о бабах, прошел осторожно, как вор. И лишь очутившись в полутемной ванной и плотно притворив за собою дверь, вздохнул облегченно: у-ф-ф!..
Включил тусклую лампочку, огляделся. Тут было холодно и так же тесно, как в спальне, даже теснее: сюда, видимо, в спешке стащили веши из других комнат, – цветочные жардиньерки, табурет-вертушка от рояля, сваленные в кучу растрепанные журналы и ноты, два самовара, огромная зеленая кадка с чахоточной, полузасохшей пальмой, тумбочка-подставка, на которой изящнейшая гипсовая статуэтка «Психея» – подарок Агнии Константиновны в день двадцатилетия их свадьбы…
Итак?
Кое-как устроился на рояльном табурете. Пошуршал газетой, поискал на серой ряднине газетной полосы абзац, на котором прервал чтение.
Ага, вот!
«…Будут сами собой вовлечены в наш аппарат…» Так-с, так-с… «Для этого… два миллиарда – пустяки… Мы должны дать им (специалистам) как можно более хорошие условия существования…»
– А-а, черт! – рявкнул профессор. – Стало быть, милостивые государи, не просто вовлечь, а – купить! Меня?! Купить?! То есть как шелудивого кобелишку голодного поманить обглоданным мослом! Тю-тю, дескать, кабыздошка! Иси!
Ярость душила Аполлона. Вытаращив налитые кровью глаза, хватал широко разинутым ртом воздух. Сжимались и разжимались толстые пальцы огромных, поросших рыжеватою шерстью рук, слепо шарили вокруг, как бы ища чего-то… Натыкались на колючие листья пальмы, на самоварную конфорку Наконец нашарили, схватили и с бычьей силой шваркнули об пол. Белые брызги гипса затейливо испестрили плиточный пол.
Профессор близоруко поглядел на ладонь, брезгливо вытер ее о штаны. Бормотнул: «Так-то-с!» и устало обмяк
Так вот, значит, чему обрадовались Лебрен и розовый Благовещенский!
Мосольчиком поманили…
Ну и черт с вами. Гложите.
А он, профессор А. А. Коринский, мерси, не будет. Не привык, знаете ли, к обглодкам.
И не за господскую подачку работал всю жизнь. Не за чечевичную, знаете ли, похлебку. Нет!
Вот так-с.
И ежели всякие там Лебрены и розовые доценты приходят в телячий восторг от того, что кинули им кость и почесали за ухом, то он, профессор А. А. Коринский, – извините-с.
Он… он…
Удивленно, с полуоткрытым ртом, уставился на белые черепки, разбрызганные по полу. Что это он трахнул?
М-м… Психею, кажется. Нехорошо. Зуды не оберешься: грубый, нечуткий, ничего святого.
Впрочем, все можно свалить на солдат.
Ах, да подите вы к черту с этими пустяками! Психея…
Тьфу на Психею!
Тут, милостивые государи, дела посерьезней всяких там пошлых Психей. Меня купить собираются! Два миллиарда ассигновано, не как-нибудь!
Сперва, разумеется, будут воспитывать. Организовывать! Как это там сказано? Профессор заглянул в газету. «…Необходима масса работы воспитательной, организационной, культурной»… Га!
В связи с чем – пардон, пардон! – разрешите задать вопросик: кому же именно изволите поручить меня воспитывать и организовывать? Нуте? Ах, вот: «…товарищам, которые на каждом шагу сталкиваются с этим вопросом…»
Новоявленным коммунистам, разумеется.
Представителям власти на местах.
Темным людишкам из бывших урядников, лавочников и мелких чиновников, прикрывающих свой обывательский срам партийной карточкой.
Вроде распрекрасного институтского коменданта гражданина Полуехтова, папенька коего не только содержал магазин на Малой Мясницкой и прославился полуехтовскими колбасами, но и по сей день, слышно, приторговывает у вокзала сомнительными пирожками.
Вроде распрекрасного институтского коменданта Калиша, недавно изобличенного как главаря шайки убийц и грабителей.
Вроде Вальки Рыжова, известного всему городу вышибалы в одном из веселых домов под красным фонариком на Миллионной, а ныне, черт его знает, какого-то начальника, поскольку ходит в кожаной амуниции и с пистолетом на боку…
Ничего себе компанийка!
И вот ее-то вы и натравливаете на интеллигенцию, чтобы «вовлекать, воспитывать и организовывать»!
Га?
Неделю назад – звонок среди ночи. Упомянутый Валька Рыжов, всеми презренный вышибала, – во главе трех весьма подозрительных субъектов. Обыск. Оскорбительнейшая возня в ящиках с бельем, с личными письмами, фотографиями. Ничего не найдено, конечно, но как избавиться от такого ощущения, будто тебе плюнули в физиономию?
Как? Я вас спрашиваю, милостивый государь! Вас!
Вчера неведомый мне начальник воинского отряда расквартировывает в моей квартире два десятка солдат. Отнимает у меня кровать, и я вынужден единственную оставшуюся делить на троих!
Что это, как не издевательство?
Га?
И после этого у вас хватает такта сулить мне златые горы, лишь бы я сотрудничал с вами!
Оклады! Два миллиарда рублей! Пайки!
А мне, сударь, не мильярды ваши нужны, не пайки. Мне доверие нужно. Доверие. Товарищеское расположение.
И ежели вы подойдете к нам не с вашими мильярдами, а с доверием, да еще ежели очистите партию вашу от всяческих прихвостней, – вот тогда я ваш!
Весь ваш, заметьте.
И не как инвентарь, купленный за деньги, а как родной человек, как честный ученый, готовый насмерть драться под вашим, милостивый государь, идейным знаменем!
Вот так-то-с!
Все эти мысли как бы взревели в тишине и полумраке ванной. Пронеслись ураганом – с грозою, с ливнем, с градом, с пенистыми мутными потоками, сорванными крышами и вывороченными деревьями. И, как это бывает в природе после бури, сразу обессилев, поникли, смирились ветры, потухли молнии, умолкли громовые раскаты. Лишь мерный, ровный лепет моросящего дождя да плеск бегущих с гор ручьев, оттеняющих мирную тишину.
Белыми брызгами гипса пестрели шахматные плиточки пола.
И голос Агнии откуда-то издалека звал:
– По-о-оль!
Она проснулась тихая, посвежевшая, чем-то вдруг успокоенная. Встретила мужа словами:
– Ах, Поль, какой дивный сон мне привиделся…
Будто бы девочкой бежала по зеленому лугу, и вдруг – домик. Вошла и видит: бревенчатые стены, на чисто выскобленном полу – трава, цветы, как в троицын день, свежескошенные, сладко, тонко пахнут… И солнце в чисто-начисто вымытых окнах. И стол под серой холщовой скатертью. И стакан воды на столе, прозрачной как слезка…








