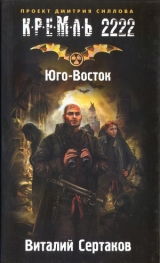
Текст книги "Юго-Восток"
Автор книги: Виталий Сертаков
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
22
ПЧЕЛЫ И ОГОРОД
– А я грю – засолить!
– Невкусно будет, нет в нем жиру!
– Засолить, и все! В бочке с чесноком…
– Нет в нем жиру, глупый!
– А тогда закоптить!
– Не-е, тогда уж засолить!
Я открыл левый глаз. Правый почему-то не открывался. Все качалось – корявые стенки, очаг с огнем и котелком, тени, веревка с сушеными щуками. Щуки были неприятные, с лапами. Все качалось кверх ногами. В тулове моем все болело. Ну не было такого места, чтоб не болело.
– Вы чего орете? Рыбу распугали! Щас я вас обоих засолю! – В избу ворвался свежий ветер. Вместе с ветром вошел кто-то главный, потому что остальные забегали. А я понял наконец, что сам вишу кверх ногами, потому и вижу все неправильно. Руки примотали к тулову, ага, примотали неверно. Не за спину, а вдоль боков. Зато ноги скрутили так, что пальцев я уже не чувствовал. Видать, подвесили невысоко, до лица то и дело долетали искры с костра.
– Папа-аа, а чего Тырр тут орет? – плаксиво забасил кто-то очень большой.
– Па-паа, а чего Рырк не дает мне хомо засоли-ить? Он соль спрятал, па-апаа! Скажи ему, чтоб отдааал!
Дважды сильно треснуло. Похоже, папа раздал сынкам по затрещине. Оба басом захныкали. Передо мной на корточки присел громадный облезлый нео. От него так разило тухлой рыбой, что я чуть ему в морду не блеванул. Но все же сдержался, хомо я или обезьян некультурный? Одет нео был красиво. Вокруг шеи на толстом шнуре висела толстая попона вроде плаща. Висела до самой земли, даже за ним маленько волоклась. Попона вся выцвела, но звезды на ней блестели, ага, вроде как серебряные. Еще там были буквы, я разглядел и запомнил. «Ку-коль… те-атр сень-ора Кара…», дальше стерлось. Мне потом Любаха рассказала – раньше места такие были, где мальцов собирали и куклами забавляли. Короче, обезьян занавес с такого театра где-то отодрал.
Нео облизнул клыки, выудил из волосатого уха пару насекомых, внимательно разглядел и сунул в пасть.
– Тырр, отвяжи его.
Я хотел сказать «спасибо», но опять не успел. Чо-то я сегодня ничего толком не успевал, видать, день такой неудачный. Веревку с ног отрезали, но снизу-то никто не подхватил. Башкой шмякнулся, ешкин медь, хорошо, что полы у них земляные! Руки мне развязывать не стали, лежал я и глазьями шевелил. Врезали мне здорово, правый глаз почти закрылся, и нос маленько болел. Потом стал я шеей шевелить, проверял, не сломалась ли. Вроде целая, ага. Изба ихняя построена была криво. Странно, что до сих пор не завалилась, все углы разные. В потолке дыра для дыма, дверь – вперекосяк, по углам – тюфяки.
– Зачем пришел в наш лес? – спросил главный. Незлобно так спросил, только ногой мне в живот стукнул. Ну чо, дышать я долго не мог после его тычка. Это ж нео, в нем кило двести веса и кулак с мою голову. Я, к примеру, с нео не дерусь ни на базаре, ни в лесу. Такое у меня правило. И не от страха, а просто жить охота.
– Не будешь говорить? – Папа опять замахнулся ногой. – Тырр, сунь ему огня под хвост.
Тырр обрадовался, полез в костер за головней. В отличие от отца, Тырр был почти голый и не слишком красивый. Весь в шрамах, укусах и гнойниках. Шерсть на нем росла кусками. Брат его был старше, наполовину седой, толстый, но такой же глупый. Зато носил на поясе жутко антиресную штуку, я аж загляделся. Носил он вместо ремня пулеметную ленту, только дыры под патроны были аграмадные.
– Ты, дурень… не бей… – Я выплюнул с кровью что-то твердое. – Как я могу говорить, когда ты в живот бьешь?
– Зачем пришел в наш лес?
– Меня ждет лесник Архип, слыхал о таком? – соврал я.
– Па-апа, можно я его засолю? – встрял сынок. Сынок был выше папы на полголовы, но тут же получил удар в ухо. От удара он отлетел и плечом выбил окошко. Окошко было хлипкое, вместо стекла залепленное пузырем какого-то зверя. Мне это даже понравилось, потому что дышать в закрытой избе было трудно, аж глазья слезились.
– Здесь наши земли, лесников тут нет, – сказал папа. – Хомо, ты зачем спортил огород?
– Репу подави-ил, картоху, чесночок мо-ой! – жалобно заголосил толстый Рырк.
Тут до меня дошло, почему я бежал по такой странной поляне – то яма, то кочка. Ясное дело, это был вспаханный огород! Я отбивался от рукокрылов, а сам влез на чужие грядки. Тут я старого нео даже зауважал маленько. Если он меня убьет, то будет прав. Ведь я на самое святое, ешкин медь, посягнул. Если б к нам на Факел кто вломился да ферму бы потоптал, разбираться бы долго не стали. Самое гадкое и подлое дело – весь клан без урожая оставить…
– Чесно-ок подавил… – завывал лохматый детинушка.
– Заткнись, – папа без замаха врезал старшему сынку в челюсть. Тот плюхнулся на задницу, похоже, не обиделся.
Старший почесал спину, толкнул кривую дверь. Я испужался маленько, вдруг уйдет сейчас, тогда детишки его меня мигом засолят. Руки я изо всех сил напрягал и ослаблял, чтобы путы раздвинуть, но драться с такими медведями все равно бесполезно.
Однако отец далеко не ушел. Прямо в дверях нужду справил, оторвал с веревки сушеную рыбину, стал грызть вместе с костями.
– Я не хотел, правда. У меня друг умирает. Пасечники спасти могут. Слушай, нео, я заплачу, отработаю тебе…
– Ты откудова такой говорун? С Асфальта? – нехорошо так прищурился папа.
– С Факела я.
Я решил пока не докладать, кто мой батя. Успею сказать. А чо, как бы хуже не вышло или выкуп какой заломят.
– Паа-па, можно я его засушу?
Толстый с глупым вопросом вылез. Мне стало маленько жалко главного нео. Вот ведь непруха, серьезный такой мужчина, для нео очень даже телигентовый, и такие дурни у него народились. Небось в мамашу умом пошли. Если папа ихнюю мамашу так же оплеухами с юности угощал, как тут не поглупеть?
– Ты мне врешь, – сказал папа. – Ночью хомо на Пасеку не ходят. Ночью даже новые люди в огород не ходят. Ты пришел, чтоб украсть наш чеснок?
– Не надо мне чеснока! Вы же видели – рукокрылы на меня напали!
– Ты мне врешь. Платить тебе нечем. Нет у тебя ничего, только тряпка худая. А у нас хороший огород был. Ты сломал.
– Сколько ты хочешь за свой огород?
– А кто за тебя заплатит? Назови.
Тут я прикусил язык. Представил, что на Химиках творится. Пожалуй, батя за меня теперь и гайки бронзовой не даст. Побег из карантина, избил маленько лаборанта. Да ко всему, теперь уж точно ясно, притащили мы с Кладбища болезнь.
– Па-апа, можно я его засолю?
Папа дожевал рыбу и зевнул. Ему стало со мной неинтересно. С нижней губы его сыпалась чешуя.
– Рырк, отрежешь ему ноги. Огнем остановишь кровь. Одну ногу засоли, другую сейчас зажарим, съедим. Смотри не убивай его! На огороде работать будет, рыбу чистить будет.
От таких добрых слов я едва не заплакал.
Старый обезьян громыхнул дверью и ушел. В разбитом оконце я видел огоньки других домишек. Похоже, никто за меня не вступится…
С улицы приперся Тырр, потирая разбитую харю. Без отца два здоровяка мигом запутались и едва не перерезали друг дружку.
– Левую ногу на засолку, я тебе говорю!
– Погоди резать, глупый же ты! Сперва же кровь надо выпустить!
Меня снова дернули вверх. Земляной пол повис перед носом.
– А чего только ногу солить-то?
– Папа так сказал.
– А я хочу сейчас сушеного мяска.
– А тебе вечно лишь бы жрать. Ты хоть одну умную мысль помнишь?
– А зачем он нам в огороде? Он же все сожрет. И репу сожрет, и чеснок, и картоху…
– Не сожрет, мы ему щас зубы выбьем. Эй, хомо, пасть открой, а то бить неудобно!
– Стойте, стойте, – закричал я, когда кто-то схватил за голову. – Меня нельзя есть!
– Это почему? – С губ Тырра потекла слюна. В лапе он держал обломок молотка.
– Не слу-ушай его, – заныл Рырк. – Папа что говорил? Хомо хитрые очень. Не слушай его…
– Не хитрее меня, – надулся старший. – Хомо, ты глупый. Нет такого мяса, которое мы не можем есть. Новые люди могут есть все. Поэтому мы лучше всех!
– Мы лучше всех! – подтвердил младший и начал пилить мне ногу ржавой пилой. Пила тут же сломалась. Я изо всех сил качнулся, вырвал башку из лапы Тырра и заехал лбом ему в нос. Получилось красиво, хрустнуло громко. Нео плюхнулся на задницу, схватился за нос, стал выть и растирать кровь.
– Он меня-аа уда-арил!
– Ща я его, ща! – Старший брат не стал искать пилу. Вытащил из-под тюфяка здоровый кривой нож и нацелился мне в бок. Видно, ногу решил отхватить мне прямо по пояс.
– Эй, глупые, снова орете? – Дунуло холодом, в избу ворвался злобный папа. – Тырр, чего воешь?
– Он мне нос… нос мне-ее…
– Рырк, оторви ему ноги, зачем тебе нож? Как лосю жареному ноги скручиваешь, так и этому скрути! Чего трудного? Ох, давай я сам!
Папа шагнул ко мне, схватил за коленку… и упал. Ешкин медь, я даже забыл, что собрался помирать. Много раз нео видал, но, чтоб здоровый медведь, как щенок, катался и визжал, – такого не припомню. Папа прокатился подо мной, повалил стол, разбил в щепу лавку кривую и все визжал. Обе руки засунул себе под занавес, зажал между ног, будто не мог никак до ветру сходить. Тырр тоже выпучился на отца, и вдруг подскочил до потолка. И так же сильно завизжал, ага. И свалился на меня. Меня стало сильно раскачивать. Дык качаюсь, а ничо сделать-то не могу, руки-то прижаты. Эти двое орут, шерсть на себе рвут, по бокам хлопают. Старший сынок не меньше моего испужался, спиной к двери попятился да еще обделался со страху.
– Па-апа, па-апа! – басом стал орать. Я подумал, что после его криков у всех рыб в ихнем озере ноги повырастут. Уйдет рыба куда глаза глядят, лишь бы таких некультурных нео не слушать.
И вдруг светло стало. До того очаг маленько светил да пара лучинок по стенкам тлели, а тут мне прямо по глазьям резануло.
Пасечники.
Кто-то в один мах рубанул веревку. Ну чо, такой уж день нынче неудачный, все время башкой об землю бьюсь. Не успел я им крикнуть, чтоб, мол, вперед руки развязали. Грохнулся в земляной пол, лежу, глазьями вращаю. Одним глазом, правый совсем заплыл.
Лесник Архип присел на корточки, ухмыльнулся так невесело. Взади него с фонарями топтались двое пасечников со здоровыми ульями на загривках… и еще там была Иголка.
– Славка, больно тебе? – смешно спросила она. – Они тебя порезали?
– Это все фигня… – Я выплюнул землю.
– Кроме пчел, однако, – заржали пасечники.
– Это вот, ты чего тут бродишь? – спросил Архип и вытянул руку ладошкой вверх.
Я поглядел на Иголку и малость застыдился. Хорош жених, ешкин медь! Валяюсь босиком, в защитке рваной, связанный как порося перед забоем, харя разбитая, и вообще некультурный. Но Иголка не смеялась, глазьями огромными смотрела, ручки к груди прижала и вроде как заплакать собиралась. Но не заплакала, вот так девка!
– Я к вам шел, – сказал я.
– Больно криво ты шел, факельщик.
На руку к Архипу стали возвращаться серые пчелы. Я даже забыл маленько, что лежу кверх ногами и ступни не чувствую. Дык жутко антиресно было, я такое лишь раз видал, когда мелким с батей на Пасеку ходил. Тогда пасечники на медведя-жука охотились, пчел в него пускали. Медведя я уже после видал, когда его волоком на бревнах тащили. Пчелы закусали так, что он вокруг себя штук сорок елок повалил, дык здоровый же! Потом упал, задрыгался, добить осталось. Батя говорит – вкусная медвежатина, а я мальцом был, не помню…
– Он чо, помрет теперь? – Я вывернул башку, поглядел на старого нео. Тот скулил, все промеж ног держался. Сынок его зубьями страшно скрипел, ну прямо как колесо несмазанное, в дугу выгибался.
– Не помрет, – сказал Архип. – У нас с нео эта вот, мир. Придется за тебя выкуп платить.
Серые пчелы были размером с полпальца, а иные – с палец. Мохнатые, прямо как зайцы в шубках. Не хотел бы я, чтоб такая пакость куснула. Но меня они кусать не стали, тихонько в улей свой полезли. Две штуки у Архипа по шее сперва поползали, прежде чем в гнездо убраться.
Есть ведь пчелы обычные, полосатые, медоносы, ага. Таких в лесу тоже полно, в домиках живут, на лужках, от чужих запрятанные. Говорят, что медовых пчелок прежде в капотнинских лесах не было, они через Внешний рубеж к нам прилетели, вроде как недавно их приручили. Еще говорят, что серые пчелы на Пасеке еще до пасечников завелись. И только потом пасечники с ними в дружбу вошли. Потому что серых пчелок никто толком приручить не может. Умные они, ешкин медь, умнее муравьев, даже умнее собак. Ясное дело, никто это проверить не может, такие уж у пасечников сказки.
– Что тебе надо, факельщик? – спросил Архип.
– Спасибо… выручили.
– Это все фигня. Зачем шел? С ней хотел посвидаться? – Отец махнул головой в сторону Иголки. Та все стояла, губу закусив. Видать, крепко ей от бати за меня досталось.
– С ней завсегда хочу повидаться, – признался я. – Но шел к вам, чтоб друга спасти.
– Чего ж дьякон гонца не зашлет? – удивился другой пасечник. – Или на Факеле такая теперь забава – кто дольше в лесу голый проживет?
– Дьякон гонца не пришлет…
Ну чо, пришлось им все рассказать. Чем дольше говорил, тем кривее рожи у них становились. Ясное дело, никому неохота холеру с Кладбища изводить. Но оказалось, они не с того набычились.
– Чего ж ты хочешь? Эта вот, Химики о помощи не просили. Факел – тоже. И не попросят. После Большого мора подписан договор, ты слыхал небось? Тогда лечить кинулись, еще больше людей заразилось. Нынче каждый за себя. Что я лаборантам скажу?
– Скажи, что заберешь Голову сюда, здесь лечить будешь. Им же лучше. Если помрет, так пусть на Пасеке помрет.
Тут в углу завозился младший нео. Один из пасечников поманил его клюкой. Сам мелкий такой, плешивый старикашка, со здоровым гнездом пчелиным на горбу. Против обезьяна – ну вроде комара, а ни капли не забоялся.
– Кто из старых есть в деревне? – проскрипел пасечник. – Давай зови.
Нео убежал, даже на бегу стучал зубами. Меня наконец развязали. Я стал ноги тереть, руки тоже. Иголка присела рядом. Носом поморщила, уж больно крепкий дух в избе стоял. Оба нео валялись, точно мертвяки, но дышали. Тырр еще ничего, зато папаша евонный аж синий стал, и щеки раздулись.
– Лесник, если мы должны жизнь этому факельщику, мы ему уже заплатили, – заговорил третий пасечник. – Проводим его до промзоны, и пусть себе топает.
– Мне топать некуда, – разозлился я. – Говоришь ты верно, мне вы уже заплатили. Но за Голову я сам заплачу.
Никто за него, кроме меня, не вступится. Карантин – он один на всех.
– Чем же ты заплатишь? – прошамкал старичок с клюкой.
– Мне Хасан должен гранатомет и четыре гранаты. Это большое богатство.
– Оружие твое нам ни к чему, – второй пасечник покусал бороду. – Но обменять можно. Только как твои гранаты получить?
– Залог у Чича-отшельника.
– Вот оно как? – Пасечники переглянулись, быстро зашептались.
– Это все фигня, – перебил их лесник Архип.
– Кроме пчел, – вставил плешивый.
– Так ты, Твердислав, поверил маркитанту про желчь? Слышала, дочь, кого ты себе выбрала? Лезет человек на верную смерть ради чужой выгоды. Эта вот, разве так себя умный взрослый мужчина ведет?
Иголка красная стала, хорошо, что фонари светили слабо. А я чо-то обрадовался.
«Выбрала». Раз батя ее сказал – выбрала, стало быть, так и есть! Но поговорить нам не дали. Наружи зашумели, затопали. В дверь втиснулись сразу четыре нео с факелами и дубинами. Потом троих выпихнули взад. Остался старый, весь в шнурках с зубами и сушеными ушами, в красивой такой кожаной рубахе, утыканной гвоздями. На спине у старого было написано непонятное: «Панки, Хой!» Буквы, правда, почти стерлись. Голова у старого нео маленько тряслась на левый бок, кто-то откусил ему пол-уха, но в деревне он, видать, был за главного. Потому что у него было ружье. Хорошее, маслом густо смазанное, жутко дорогое. Я даже стал гадать, чо такое нео могли маркитантам в обмен на ружье продать. Уж вряд ли карасей с ногами да и картоху мягкую, с кочан размером, маркитанты явно не жрут.
– Огород попортил, нос сломал, рыбу разогнал… – Староста начал загибать пальцы. Потом поглядел на синего хозяина избы и сплюнул. – Как я без него судить буду? Ему урон, не мне.
– Придется без него, – лесничий Архип мигнул своим.
Те живо поставили перед стариканом ведерко с медом. Мед стоил на базаре дорого, очень дорого. Рядом с ведерком Иголка развязала мешок с орехами, в другом мешке лежали меха, красивые, рыжие.
– Три лисицы тебе в подарок, староста, – сказал Архип.
– Мне? Мне в подарок? – Седые лапы у старого маленько затряслись.
– Эта вот, конечно тебе, – заулыбался ласково Архип и полез в карман. Я и не ожидал, что он так сладко умеет улыбаться, ну прямо слаще евонного меда. – Вот тебе еще грузила и крючки в подарок. Давно я занести хотел, да все никак случая не было… Или лучше подождать, пока эти очнутся? Сам знаешь, к утру очнутся. Эта вот, лихорадить их еще дня три будет, не без того, но это фигня. Может, лучше им лисиц да грузила отдать?
– Не, им не надо! – мигом всполошился старый нео. – Хорошо, пасечник. Мы не в обиде. Огород цел, там почти и не помято. Идите себе, мир.
– Своим скажи, что мир, – указал на дверь Архип.
Старый сунул лисиц за пазуху, прибрал прочие подарки и выглянул наружу. Обезьяны заворчали, замахали кулаками, но увидали мед и унялись. Тут же гурьбой пошли его делить.
Ну чо, поднялся я кое-как, за лесником поковылял. Хотел еще с Иголкой полялякать, да ее живо услали. Слыхать было только, как копыта затукали неподкованные и вовсе не конские. Так и не увидал я, на ком они тут в лесу ездят. Водили меня долго, устал даже. Привели меня куда-то, ага, дом трухлявый в чаще, в жизни бы сам не нашел.
Пахло вокруг странно, в носу щекоталось.
– Эта вот, тут заночуешь, за порог – ни ногой, – сказал Архип. – Тут тебе будет карантин.
– Спасибо…
– Это все фигня, – перебил лесничий. Его синие глазья опять стали острые, как гвозди. – Не за что спасибкать, факельщик. За дружком твоим еще никто не поехал…
– Я за Голову заплачу, как обещал.
Пасечник замахал рукой, глянул злобно вдруг:
– Тут такое дело, мы с тобой квиты. А за дружка твоего нам гранат не надо, знакомый он мне человек. Эта вот, мне за него кой-чего другое надо.
– Так чо? – У меня маленько уши вспотели. Понял я, куда хитрец клонит.
– По первости скажи, не видал ли там у Кладбища кого из наших?
– Из ваших?! – Тут я совсем обалдел. Всем известно, что пасечники из лесов своих далеко не вылазят, разве что на Пепел или на Базар. Но кое-чо я вспомнил.
– Нашлись два дурака, купились на торгашеские посулы, – плешивый пасечник злобно сплюнул, постучал клюкой. – Дурные, вроде тебя, не жилось им при отцовской пасеке. Вот и поперлись за легкой добычей…
– Не, не видал, – сказал я. А сам вспомнил дохлых крысопсов на тропинке и лапти рваные. Неужто Хасан и пасечников молодых подбил за желчью идти? Вот так землица, сколько же она, ешкин медь, стоит, коли столько людей за нее полегло?
– К дочери моей тропу забудешь, – отрубил Архип. – Эта вот, чтоб я тебя на Пасеке близко не видал. Ну как, согласный? Посылать травников за твоим дружком?
– Ты чо, лесничий, с меня честное слово просишь? А ежели обману?
– Это фигня. При братках моих обманешь. Они такого не простят.
Поглядел я на других пасечников. Иголку они услали, а сами хмуро так глядели. И глазья у них маленько в темноте светились, что ли. Не смеялись, ага, вовсе не шутили. Эти точно обман не простят. Силой бить не будут, ешкин медь, хитростью издалека заморят. Или кривоту нашлют, стану вон, как Варварка, одним глазом в землю глядеть. Чо-то худо мне стало, аж затрясло всего. Лучше бы я тому рукокрылу достался, спаси Факел от таких мыслей!
– Думай живей, факельщик, плохое время для гулянки, – Архип коротко зыркнул вверх. Он вообще все время глазьями водил. Мне даже показалось – ухи у него маленько шевелятся и так вот, из стороны в сторону, как у кошки, когда спит. – Ну как, по рукам?
– По рукам, – сказал я. Ясное дело, рыжего-то выручать надо.
– Вот и славно, – лесничий протянул мне деревяшку, бутыль долбленую. – Да не трясись так. Бабы – это фигня… вообще все на свете – фигня.
– Кроме пчел, однако, – поправил плешивый.
– Половину настоя сейчас выпьешь, половину со сна. Горькая она, прослабит, но ты пей. Утром травника пришлем.
– Эй, лесник, а как вы меня нашли? Как узнали, что я у нео?
Архип поглядел странно, губами пожевал:
– Доче моей, эта вот, сон дурной приснился.
23
ИГОЛКА
Иголка пришла ко мне на четвертый день. Рано утром, но я уж не спал. Я и на Факеле привык рано вставать, вместе с батей, ага. А когда десятником назначили, так и совсем после восхода спать разучился. Ясное дело, надо ж первым и коняшек, и оружие, и бойцов проверить, иначе какой ты десятник?
– Иголка, – сказал я, едва она снаружи в дверь поскреблась. И такая радость из меня полезла, ну прям рот до ушей, ржу и остановиться не могу. Штаны подхватил, которые травники мне подарили, и – к дверям бегом!
Стоит, улыбается, сарафан на ней пузырем, под сарафаном – ноги голые, в золотых волосках. Ну прям лисичка, как в сказке мамкиной, та тоже в девку оборачиваться могла. Разволновался я маленько, ешкин медь. Сказать по правде, не маленько я разволновался, а как следует. Сердце вдруг в горло запрыгнуло, а потом в штаны провалилось.
– Ой, как узнал, что это я?
– Дык чо, не только вы ушами шевелить умеете! Я же с детства охотник!
Внутрь ее втащил, дверь накрепко захлопнул, как травники велели. Только глянул разок – вроде на тропке никого, роса на цветах цела, трава вокруг избы не притоптана, птицы не порхают. Ой, смелая же девка, одна пришла!
Ну чо, не выдержал, к стенке ее прижал, губы отыскал. Губы теплые, медовые, мягкие, у меня аж в башке захрустело! Она напряглась сперва, напужалась, что ли. Я тоже тогда заробел, а ну как промеж ног врежет? Такая может и врезать, и пчел обещалась насовать, ага!
– Ой, видала я, какой ты охотник! Едва мышам на ужин не попал.
– А ты рукокрылов не боишься? Как одна тут ходишь?
Снова стали целоваться. Сама полезла, ух, ешкин медь, с такой и в малинник ходить не надо. Тут у меня совсем в глазьях закружилось, потому что руку в штаны ко мне сунула. Антиресное такое ощущение. Помню, раз с асфальтовыми дралися, мне кто-то из ихних дурней оглоблей промеж ушей заехал, вот тогда похоже звезды в башке кружились…
– Рукокрылы – они вообще не страшные, вот так, – Иголка сурьезно так говорила, но руку свою хитрую не убрала. – Когда зверь большой… оох ты какой… его бояться незачем. Большого… ммм… и убить легче легкого. Большого… вот такого большого зверя… ммм. А ты… ты… стой тихонько… спробуй змейку малую словить. Ее в травке и не видать… стой, я сказала… А змейка, он кусит разок – и готово, закапывай… не тро-ожь меня, чумазый!
Схватил я ее в охапку, легенькая, шустрая, ну точно лисичка. Пока до полатей на печи нес, она сама из сарафана как-то выскочила. Голую уже принес, ага.
– Как же ты… одна хо… ходишь? Не… неужто мышей летучих… не боишься?
– Так большой-то… оохх… да, да, вот так… большой-то при солнышке взлетать… ух, ой-ой… боится взлетать-то… понимает, что пристрелят… да, да, сильнее, вот так… ой ты твердый какой…
Вот так девка, на что умная, подумал я. Верно все говорит, и нас так же ротный Федор Большой учил – большого зверя бояться смешно, он сам есть первая добыча. То есть это я после подумал, гораздо позже, ага. А тогда я ничего вообще не думал, уж и не помню, сколько времени прошло. Даже напужался маленько, редко со мной такое, чтоб совсем не думать. Обычно хоть что-нибудь, да думаю, про жратву к примеру. Ясное дело, про жратву я всегда думаю, а как иначе?
Когда очухался, стал вспоминать, запер дверь на засов или нет. Дык травнику еще рано, он позже приходил, но все равно как-то некультурно. Тут я подумал, что, ежели травник сейчас припрется, придется ему башку в плечи забить. Не шибко телигентово получается, травника-то убивать. После такого мне, пожалуй, только на Пепле место или в банду к Шепелявому кашеваром, ага. Дык другого выхода-то нету, женщину мою нельзя выдавать…
Моя женщина. Она сама так сказала, в ухо прямо. «Я теперь твоя женщина». И языком в ухо влезла, у меня аж пальцы на ногах в разные стороны растопырились. У нас на Факеле привычно девками да бабами их называть, а женщины – слово смешное, из древних Любахиных журналов.
– Как ты отца не забоялась?
– Коз доить пошла. Сама с женой Фомы заменилась. Не могла дальше ждать.
На меня сверху влезла. Голова про такое сказывал, но я не шибко верил. А чо, Голова – умный, много девок в малинник водил, он по-всякому малину показывать умеет. От Иголки я маленько не ожидал такой ловкости, что ли. Не то чтоб напужался, а все ж боязно маленько стало. Особенно когда в четвертый раз рот ей зажимал.
– А как кто тебя заметит?
– Ой, заметил один такой. Да и пусть. Я сама пришла.
– Умная ты, – похвалил я. – А верно наши бабы говорят, что вы колдовки все?
– И я – самая злющая, – Иголка снова схватила меня промеж ног, я мигом позабыл, об чем спрашивал.
Стали мы по печи кататься, тюфяк изорвали, горшки побили, заслонку с печи сорвали, едва избу не подожгли. Когда очухались – лежим уже внизу, на шкуре, оба в соломе, потные, будто день в поле бегали. И никак нам, ешкин медь, не разъединиться. Антиресное такое ощущение, словно не первый раз голышом встретились, а вроде как просто давным-давно не виделись и соскучились жутко. Я еще подумал – надо будет у рыжего спросить, было с ним такое или нет, а то вдруг заколдовали меня?
– А что там с Головой? – вдруг вспомнил я. – Травник, что меня гадостью вашей поит, ничего не говорит.
– И вовсе не гадостью, – обиделась Иголка. – Это он тебе, глупому, кровь от заразы чистит. До ветру часто бегаешь?
– Дык… почти три дня там и просидел, – застеснялся я.
– Вот-вот. Печенку тебе, глупому, чистит. Я потому три дня и не шла к тебе, – хихикнула она. – А рыжего вылечат, наверное, Фома сказал. Крови из него дурной много вытянули, к пиявкам в корыто положили да медом серым кормили.
– Ух ты… А что же с нами будет?
Я как про рыжего хорошее услыхал, так затих маленько. Снова стал грустное про нас думать.
– Парни ваши вчера за водой к нашим Колодцам ходили, – Иголка на спину откинулась, глазья закрыла, травинку стала грызть. – Ой, не трогай, щекотно же… Я братца попросила, он там с вашими полялакал… не сердится дьякон на тебя. Уже дважды в лес гонцов засылал, с гостинцами, с железом даже, и труб железных за тебя телегу прислал, вот так.
– Батя мой? – Я вскочил, едва башкой о полку не вдарился. – Дык… быть того не может. Я же с карантина сбежал, он меня теперь точно проклянет, мне лаборант отлучение обещал!
– Ну до чего ты глупый, – Иголка тоже села, взади меня обняла, грудками потерлась. – Какой же он отец, коли дитя родное отлучит? А ежели отлучит, какой же он дьякон для всех прочих факельщиков? Ведь Спаситель ваш жалеть всех да прощать завещал, разве не так?
– Вроде… так… охх.
Взад меня на шкуру опрокинула. Я хотел честно сказать, что силов моих больше нету, и вообще, как бы кто, спаси Факел, не заявился. Но не сказал ничего. Рот-то открыл, чтобы сказать, нахмурился сурьезно, да только она мне в рот губы вставила и язык еще… ох, ешкин медь.
– Твердый ты мой… чумазый… твердый мой факельщик…
– И вовсе не чумазый… я у вас тут каждый день в бане потею.
– Это тебе надо… охх… да, да, еще, еще, крепче, крепче за бедра меня возьми, как хозяин возьми… в бане из тебя заразу с потом изгоняют, ты терпи… оххх…
Солнышко лавки в избе позолотило, когда мы маленько разлепились и толком говорить смогли. Иголка впервые рассказала, что это за место. От деревни северных пасечников неблизко, полчаса бегом бежать. Место тут целебное, травы особые посажены, их хищные твари на дух не выносят. Но из дому выходить далеко нельзя, от трав такой дурман идет – уснешь и не проснешься. Прежде нео в гости наведывались, скот и пчел воровали, теперь боятся, сквозь дурманные травы не ходят.
– Иголка, отец меня не простит.
– Он просто не успел, ты слишком быстро на Пасеку убежал. Дьякон всех инженеров на Совете убедил, что вас обоих простить надо. А если моего сына не простят, тогда ищите себе другого дьякона. Вот как сказал.
– Да ты чо? Так прямо и сказал? – У меня аж в носу защипало. – Не мог мой батя против всех законов такое сказать. Он же это… как железный гвоздь.
– Сам ты гвоздь. Деревянный и тупой. Да на Базаре все про вас только и толкуют.
– Чо толкуют-то?
– То самое. Про могильники. Про воду. Про то, как вы всю промзону от заразы спасали. Химики воду с Луж проверяли. Чище вода стала. Пить нельзя пока, но уже чище. Совет ваших инженеров порешил теперь большое войско на Кладбище послать. Но не сейчас, а как Лужи замерзнут. К шамам даже гонцов заслали, мира запросили. Вдоль берега дамбу строить будут, воду речную отводить, могилы сушить будут. Пасечники тоже помогать пойдут, вот так.
– Раньше ведь никто не соглашался помогать.
– Ой, раньше железяк больших боялись. А нынче оба померли, не так страшно.
– А про рыжего что слыхать?
– Ой, про рыжего твоего совсем смехота. Болтают, что на Факеле ручной паук железный завелся, что его один шибко умный механик приручил да работать на людей заставил. И теперь этот паук потащит на себе все тяжелое, что людям на Кладбище не дотащить. Коняшек-то жалко, ноги им по ямам ломать, а паук живо добежит, он там каждую могилку знает. И в плуг его запрячь можно, и реку осушать, и деревья корчевать, вот так. А еще паук все спрашивает, где его капрал Голова.
– Кто? Какой еще кап-рал?
– Ой, откуда мне знать, что твой рыжий выдумал?
Тут я крепко задумался. Выходило так, что вроде все наоборот перевернулось.
– А как же мы с тобой?
– Это ты про что? – Сама спросила, а сама опять грудью трется. Вот что странно, ешкин медь, у меня кожа ведь твердая. Обычно ни хрена не чувствую, ага. Мальцом еще бегал, пацаны подловили, вилами стали колоть. Ну чо, они колют, а я ржу, не больно ни фига, щекотно только. Они озлились, дурные еще были, мелкие, и давай со всей силы колоть. Я тогда первый раз сильно рассердился, дык ясное дело, телигентовые люди разве станут друг дружку вилами в жопу тыкать? Ну чо, отнял вилы, показал троим дурням, как тыкать правильно, они после того неделю стоя жрали, вот смехота…
А с Иголкой совсем не так. И не так, как с другими девками, которым малинники показывал. Пошуршим там маленько и разбегаемся. А эта… сосочки твердые, горошками, в рот так и просятся. Едва до меня грудкой или пальцем коснется… ну прям дергает всего, от пяток до ушей.
– Ты чего, Славушка? – А сама ржет. И ногами так перебирает… короче, чтобы мне все видать было. А я на нее и на одетую-то прямо глядеть не шибко могу, уж такие глазья синие. А когда без одежки, так, ешкин медь, воздух во мне застревает – ни туды ни сюды!
Повалил ее снова, придавил, мигом притихла лисичка моя.
– Это я про нас с тобой, – говорю. – Про то, что жениться на тебе хочу.








