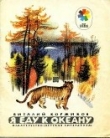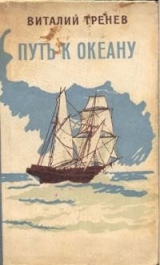
Текст книги "Путь к океану (сборник)"
Автор книги: Виталий Тренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
В течение нескольких часов удалось переправить всю команду, за исключением Ермакова и шести добровольцев, которые согласились остаться на бригантине до последней возможности, чтобы спасти хоть какую-нибудь часть груза и имущества.
Между тем непрерывные удары волн почти совершенно разрушили всю кормовую часть, а все остальное едва держалось. Можно было полагать, что если волнение и ветер не утихнут, то к ночи бригантины не станет, лишь на берегу бухты Люзе будут валяться изломанные ее части.
Около пяти часов дня корпус судна получил такие повреждения, что обломок фок-мачты, к которому была пристроена канатная дорога, стал шататься.
Оставаться было рискованно, да и бесполезно. Все имущество матросов и офицеров, провизия, личное оружие и та часть судовых принадлежностей – запасных парусов, канатов, инструментов и прочего, что могло быть спасено, – уже находились на берегу. Спасти тридцать фрегатских пушек, лежавших в трюме, и собственные пушки бригантины нечего было и думать.
В два рейса Гвоздев отправил матросов («беседка» брала 4–5 человек) и стал готовиться с Ермаковым и князем покинуть разбитый корабль.
Князь, дрожа, сидел на палубе у борта. Подняв колени и опустив в них лицо, он напоминал большую сгорбившуюся крысу. Шпага, как вытянутый голый хвост, торчала из-под плаща. Он, видимо, действительно был очень болен. Ермаков и Гвоздев в последний раз обошли судно, перелезая через обломки, по грудь в воде пробираясь под палубою.
Грустно было видеть жалкое состояние щеголеватой «Принцессы Анны». Особенно тяжело было мичману. Бригантина стала его родным домом. За три года он свыкся с ней, стал гордиться ею. На бригантине, учась у Пазухина, он научился искренне любить морское дело и стал настоящим моряком... И вот Пазухин умер, а «Принцесса Анна» изувечена вдребезги и скоро совсем перестанет существовать.
– Ну что же, пошли, Ермаков, – сказал Гвоздев сопровождавшему его матросу. – Прощай, «Принцесса Анна».
Мичман и матрос усадили в «беседку» и привязали дрожащего и стонущего капитана, сели рядом, и хрупкое сооружение, раскачиваясь на ветру и порой окуная своих пассажиров в клокочущие волны, двинулось к берегу. Мичман не отрываясь смотрел назад, на заливаемый волнами остов бригантины с торчащим обломком мачты. На душе его было так тяжело, будто бы он оставлял погибать в волнах своего беспомощного друга.
Но вот волны в последний раз окатили пассажиров «беседки». Гвоздев и Ермаков спрыгнули на песок и освободили князя, который тут же и улегся, продолжая стонать и охать.
Береговые жители и матросы бригантины окружили прибывших. Те улыбались устало и неуверенно, как бы сомневаясь, что всякая опасность уже миновала.
Вокруг «беседки» толпилось вместе с моряками человек тридцать – сорок местных жителей. Все это были мужчины, крепкие, рослые и медлительные. Они были в толстых куртках и высоких, по бедра, рыбачьих сапогах.
Женщины и дети разноцветными пятнами маячили на кромке невысокого обрыва над пляжем.
За обрывом виднелись дюны, поросшие зеленым дроком и чахлыми соснами.
Высокий голубоглазый человек, без шапки, босой и весь мокрый, выделялся среди жителей и был среди них как бы главным. Он сказал Гвоздеву, улыбаясь дружелюбно, но очень солидно:
– Ну, слафа поку. Все на переку. Мокло пыть куже!..
Это означало: «Ну, слава богу. Все на берегу. Могло быть хуже.»
– Это он и помог мне из бурунов выбраться, – сказал Ермаков. – Он тут вроде старосты у них, что ли. Его Густ зовут.
– Нет, нет... не есть староста, староста там. – И высокий человек махнул рукою в сторону дюн, за которыми, вероятно, находилась деревня.
Удивительно ясные голубые глаза и энергичное лицо Густа, красное от холода, очень понравились Гвоздеву.
Ветер трепал длинные мокрые волосы Густа, и он, отводя их от лица рукою, сказал:
– Шапка потерял море. О! Море шутки плоки.
– Молодец, Густ, спасибо тебе, – хрипло сказал мичман.
Он только сейчас почувствовал, как страшно устал – и душевно и физически. Плечи его ныли, будто на них лежала бог знает какая тяжесть. Глаза слезились, лицо и руки, исхлестанные и разъеденные соленой морской водой, распухли и болели.
Но до отдыха было еще далеко. Надо было прежде всего поудобнее устроить раненых, из которых трое не могли двигаться сами. Надо было найти приют больному капиталу. Надо было до темноты собрать и сложить все, что можно было спасти из имущества бригантины, и назначить надежных часовых. Надо было просушить и привести в порядок судовые документы, надо было устроить ночлег и найти пищу для матросов...
Матросы с «Принцессы Анны» в мокрой и изорванной одежде, озябшие на ветру, толпились вокруг Гвоздева.
Он снова, как тогда на полуюте, всмотрелся в их лица и вдруг понял, что теперь на них не было того недоверчивого ожидания, которое он заметил тогда, перед последним рейсом бригантины. Сейчас люди смотрели на него с ласковым уважением. Мичман понял, что он оправдал их доверие и что теперь они признают его своим командиром не только по чину, но и по заслугам и по праву.
«Какие ребята! Какие отличные ребята!» – подумал мичман, глядя в знакомые, но как бы по-новому озаренные лица матросов и чувствуя, что горячая волна любви и воодушевления уносит его усталость. Он легко расправил поникшие было плечи, потуже связал в пучок на затылке свои длинные волосы и сказал:
– Братцы! Вы устали, голодны и озябли. Вы заслужили отдых. Только дело наше еще не кончено. Надо спасать все, что можно еще спасти, с нашей бригантины.
– Что же, Аникита Тимофеевич, дело такое, – за всех отвечал пожилой, сутулый матрос в рубахе с оторванным рукавом. – Дело такое: правильно, отдыхать рано. Приказывай!
– Вот что, братцы, – сказал мичман. – Судно наше погибло, но флаг и гюйс спасены. Служба наша не кончилась, и присягу с нас никто не снимал. Говорить мне много нечего. За честь российского флага я готов отдать свою жизнь и от вас того же требую. Ермаков и Маметиул, ставьте вот здесь флагшток. Тут будет поднят наш судовой флаг – и отныне на этом берегу наше судно и, пока болен капитан, я ваш командир. Ермакова и Маметкула назначаю боцманами. Трубач, где твоя труба?
– Здесь, господин мичман! – звонко отвечал трубач.
– Действуйте, ребята, – сказал мичман Ермакову и его товарищу, передавая им судовой флаг.
Флагшток тотчас был установлен. Мичман отдал команду, громкие звуки трубы перекрыли шум бури, и андреевский флаг развернулся в воздухе над головами матросов.
– Вольно! – по окончании церемонии скомандовал мичман. – Ну вот, братцы, а теперь за мной, на работу!
Узнав от Густа, что всех моряков можно будет разместить в деревне, до которой было немного более версты, Гвоздев отправил квартирьерами расторопных Маметкула, Петрова и трубача. Они же должны были прислать лошадей, чтобы перевезти князя и раненых. Для Борода-Капустина быстро была устроена палатка из паруса. Островитяне, помогавшие матросам, предложили свои толстые суконные куртки, чтобы устроить из них постель и переодеть князя.
Первое было исполнено, но когда Гвоздев хотел снять с князя его тяжелый и напитанный водою, как губка, кафтан, Борода-Капустин, находившийся до того в забытьи, очнулся и оказал яростное сопротивление.
– Прочь от меня! – бушевал князь. – Невежи! Чтобы я, российского флота офицер, вместо государева мундира чухонскую робу на себя надел?! Лучше мне помереть... Прочь от меня!
Гвоздев подчинился капитану, приказав лишь развести для князя костер, чтобы он мог сушиться отдельно от матросов. Какое-то смутное подозрение поразило его. Помогая князю на судне, в «беседке» и здесь, на берегу, мичман уже несколько раз подсознательно отмечал странную твердость его раздутых карманов. Но раздумывать над тем, что могло в них находиться, все еще было некогда.
Имущество бригантины, спасенное при помощи «беседки», было кое-как свалено на длинный песчаный пляж; море то и дела выкатывало то бочонок неизвестно с чем, то рею с обрывками снастей, то целую стеньгу от мачты. Гвоздев назначил команды для вылавливания и спасения всего, что еще могло представлять из себя ценность, поручил Ермакову следить за порядком, а сам сел у костра сушить вахтенный журнал, который, впрочем, так хорошо был им упаковав в просмоленную холстину вместе с другими бумагами, что подмок только немного с краю, несмотря на то, что сам мичман был весь мокрый.
Неподалеку горел большой костер, который на рассвете был зажжен Густом и послужил спасительным маяком экипажу «Принцессы Анны». Сейчас вокруг него, просушиваясь и отогреваясь, теснились матросы, а кок варил уже кашу на ужин.
Море продолжало реветь и грохотать, накатывая волны на песчаный берег, но ветер как будто стал потише.
К мичману подошел Густ, уже переодетый в сухое платье и в сапогах по самые бедра.
– Косподин офицер, – сказал он, улыбаясь своей особой солидной и добродушной улыбкой, – там наша староста приехал. Пудете с ним коворить?
Мичман поднялся и увидел таратайку в одну лошадь, а за нею две телеги – видимо, для раненых и слабых.
Таратайка подъехала к невысокому обрыву над пляжем, с нее слез полный и высокий человек в такой же толстой куртке, как и у всех остальных островитян, но не в рыбачьих сапогах, а в шерстяных полосатых черно-белых чулках по колено.
Островитяне почтительно снимали перед ним шляпы, а он снисходительно кивал им головою, направляясь к костру, где сидел мичман.
– Это ваш староста? – спросил Гвоздев у Густа.
– Та, эта. Покатый человек. Самый покатый на острове, – сказал Густ и, как показалось мичману, не очень доброжелательно посмотрел на подходившего. – Его зовут Ванаг, косподин Ванаг.
Еще за несколько шагов староста снял шапку, придал своему лицу горестное выражение и стал покачивать головой.
– Какое несчастье! Какое несчастье! – Он бойко и почти без акцента говорил по-русски. – Я надеюсь, господин офицер, наши люди оказали помощь?
Ванаг понравился мичману гораздо меньше, чем белокурый гигант Густ, несмотря на то, что староста весь был радушие и приветливость. Он сейчас же приказал везти раненых в деревню. На телегах у него оказался свежий хлеб, сало и водка. Он сам проследил, чтобы все было сейчас же передано коку и баталеру по списку, и, ласково улыбаясь, попросил, чтобы мичман выдал ему квитанцию. Он готов поделиться последним, но все же надеется, что адмиралтейств-коллегия возместит ему расходы, потому что он человек бедный. Чернила и пучок гусиных перьев староста предусмотрительно привез с собою.
Мичман сейчас же выдал квитанцию.
Смеркалось, матросы с ног валились от усталости, и мичман приказал им отправиться на отдых в деревню, вызвав предварительно десять добровольцев, которые остались бы здесь вместе с ним, чтобы охранять спасенное, а с рассветом попытаться снять с бригантины остальное имущество. Ермаков и Петров вызвались остаться, но мичман отправил их в деревню старшими по команде. Князь не пожелал перебираться в избу и обосновался в палатке, где ему действительно было довольно удобно.
Матросы двинулись за старостой. К мичману подошел Ермаков.
– Капитона Ивановича море тоже отдало, – сказал он. – Нашел его, отнес к остальным.
И он подвел мичмана к четырем телам, лежавшим на песке.
Это были двое из трех утонувших матросов и боцман. Несколько в стороне лежал мертвый Пеппергорн, прикрытый черным плащом. Склонив головы, молча постояли мичман и Ермаков возле утонувших.
«Сейчас фонарь вам засвечу, кушать не желаете ли?» – вспомнил мичман, как старался уважительно смягчить свой голос старый служака, отводя его в карцер по приказанию Пеппергорна. Слезы навернулись на глава мичману, и он ощупал в кармане маленький узелок, врученный ему на хранение боцманом...
6. КНЯЗЬ СДАЕТСЯ НА КАПИТУЛЯЦИЮ
Отправив Ермакова и распределив дежурства часовых, мичман снова сел у костра и задумался.
Было уже темно, море шумело где-то недалеко, но уже не так яростно, а ветер с наступлением темноты совсем стих. От дюн тянуло теплом. На темном небе мерцали звезды.
Мичман, сидя на берегу пустынного острова у остатков разбитого судна, подле трупов своих погибших товарищей, подумал, что всего только вчера в это время он ходил по полуюту «Принцессы Анны», могучий боцман был жив и здоров, а несчастный Пеппергорн попивал романею с капитаном... Гвоздев тяжело и прерывисто вздохнул. Потом мысли его перешли на капитана. Вправду ли он страдает или притворяется? Шут его знает!.. Лежит в палатке и охает на всю окрестность... И чего он так свой кафтан бережет?
Пораздумав, Гвоздев пришел к заключению, что между падением в море шкатулки с корабельною казною и набитыми карманами капитанского кафтана существует прямая связь.
Сколько испытаний свалилось на него за такой короткий срок!
Он не мог допустить, чтобы лентяй, погубивший судно и людей, еще вдобавок ограбил казну. Надо непременно заставить его вернуть спрятанные червонцы. Но как это сделать? Хорошо еще, что князь решил остаться здесь, а не убрался в деревню, где он мог бы легко схоронить деньги. Впрочем, и сейчас ему нетрудно отпереться. Чем докажешь, что они – казенные деньги, а не собственные?
Между тем Борода-Капустин, расхворавшийся всерьез, лежал под несколькими одеялами, привезенными Ванагом, но в плохо просохшей одежде. Однако стонал и охал он не столько от нездоровья, сколько от недобрых предчувствий, осаждавших его пылающий мозг.
В деревню он не поехал, опасаясь, что матросы или же островитяне, заметив набитые золотом карманы, ограбят его и убьют. Но, с другой стороны, там он, может быть, сумел бы припрятать деньги и переодеться в сухое. Здесь же, на пустынной отмели, на глазах у десятков людей что ему делать со своими раздутыми, позвякивающими карманами? Да это еще цветики, опасения сегодняшние, а что будет с ним дальше? Как взглянет прокурор адмиралтейств-коллегий на крушение? Хорошо, коли разжалуют, а то могут и казнить... И князь застонал еще пуще и заворочался.
В палатку вошел Гвоздев и сел на свою койку, устроенную рядом с капитанской. Он поправил свечу в фонаре и повернул его так, чтобы осветить лицо князя.
– Ох... Кто там еще?.. Свет убери, – простонал князь.
– Это я, сударь, и свет я не уберу, – твердо и многозначительно сказал Гвоздев.
– Как это?.. Ты что же это?.. – забормотал князь.
«Все, – подумал он, – конец... Значит, заметил... Сейчас меня придушит, – а денежки себе...»
Голос князя стал визгливым:
– Ты что же это? Ведь я сейчас закричу, я матросов кликну!
– Не стоит, Митрофан Ильич. Сперва выслушайте меня.
Спокойный тон мичмана убедил князя в том, что убивать его тот не собирается. Но в нем возникла новая тревога: «Придется поделиться. А я-то думал, он из дурачков желторотых».
– Ну, говори, говори... Ох, господи... муки-то какие... – простонал Борода-Капустин. – Дыхание перехватывает.
И он все старался укрыться с головой, чтобы скрыть свое лицо от пристального взора мичмана.
– Я хотел спросить вас, господин лейтенант, как вы думаете распорядиться казенными деньгами, которые вы спасли в своих карманах, рискуя жизнью?
– Чего?.. Какой жизнью... Чего? – прикинулся дурачком князь.
– Рискуя жизнью, я говорю: ведь выплыть с такою тяжестью было бы нельзя... Я понимаю дело так, что вы, не надеясь спасти всю шкатулку, захватили казенные деньги в карманах, сколько могли, и сделали правильно, ибо шкатулка погибла. Вот я и спрашиваю, как составить на сии деньги надлежащий документ и заприходовать их так, чтобы на вас не могло впоследствии пасть никаких подозрений?
Борода-Капустин вдруг откинул одеяло и, отдуваясь, сел на койке. Глаза его бегали, он не решался взглянуть в лицо мичману, смотревшему на него в упор с холодной твердостью.
– Это же деньги мои... Собственные мои. – Князь говорил это не очень уверенно: предвидение грядущих бедствий лишило его изворотливости. «Сколько ему дать? Сколько дать? Неужто пополам?» – лихорадочно думал Борода-Капустин.
– Митрофан Ильич, – тихо сказал Гвоздев, – матросы видели, как (мичман подчеркнул это слово) шкатулка очутилась за бортом. Не отягчайте своей вины перед отечеством.
Ужас охватил Борода-Капустина. В отчаянии он опустил голову и закрыл лицо ладонями, не зная, на что решиться. В висках его стучало, сердце то замирало в груди, то начинало неистово биться.
– Хорошо... Ладно, – тусклым голосом сказал князь, не отнимая от лица рук. – Бес попутал... Отдам все, не погуби.
Мичман молчал. На душе у него было так скверно, как еще ни разу за эти сутки, стоившие ему многих лет жизни.
– Как же вы решились на это, такую фамилию неся, будучи российского флота офицером? – спросил мичман после тягостного молчания.
Борода-Капустин поднял свое пылающее от жара лицо и в первый раз посмотрел на мичмана прямо.
– Судить, братец, легко... судить легко... – прохрипел он сдавленно и неожиданно заплакал, кривя толстые свои губы и всхлипывая.
– Что вы, сударь, успокойтесь, – встревожено сказал мичман, чувствуя, что теряет свою непреклонную твердость перед жалким зрелищем старческих слез.
– Ох, мичман, мичман... – сквозь всхлипывания говорил Борода-Капустин, – поживи с моё да потерпи с моё... а тогда, брат, суди да рассуживай... Вот я дожил до каких лет, а что меня ждет? Позор да плаха... А я ли один в том виноват, а?
Слезы высохли у князя, он схватил мичмана за руку горячей своей рукой и, возбужденный сознанием отчаянного, безвыходного своего положения, заговорил торопливо и так искренне, как, может быть, никогда еще в жизни.
Фонарь тускло и неверно освещал наклонные стены палатки, пылающее лицо князя. В палатке было душно, и мичман, уставший и телом и душой, чувствовал, что болезненное, горячечное состояние князя передается и ему. Он слушал как во сне.
Князь говорил о том, как он рос в родовой вотчине баловнем у папеньки да у маменьки, как потом его недорослем, пятнадцати лет, взяли во флот на службу, а старший сводный брат, хромой на правую ногу, остался дома.
Князь описывал, каково ему пришлось на корабельной койке после родительских пуховиков, и мичман вспомнил, что ведь и он тоже испытал это жестокое чувство тоски по родному дому и горе невозвратности ушедших счастливых дней. Но мичман быстро свыкся с товарищами, полюбил море, хорошо усваивал навигационную науку. Он понял значение флота для судеб отечества, а князь был полон боярскими предрассудками, к наукам туп и приспособиться к новой жизни не мог.
С болезненной горячностью князь торопливо рассказывал юноше о всей своей жизни. Мичман ясно представил себе, как насмешки и оскорбления вытравили из слабой души князя последние остатки собственного достоинства. Как, приставленный насильственной строгостью к нелюбимому, непонятному и трудному делу, утрачивал он постепенно искренность и приучался к двуличию. Как понапрасну он напрягал свои жалкие способности, чтобы не отставать от товарищей, от блистательных сподвижников Великого Петра, и как, получая жестокие щелчки по самолюбию и чувствуя ничтожество свое рядом с ними, он в то же время был убежден в своем праве на всякие преимущества по своему высокому и знаменитому происхождению.
– А видел ли ты, мичман, каков в гневе бывал батюшка наш царь Петр Алексеевич, когда у него рот к уху лезет, щека дергается, а глаза молнии мечут? Нет? То-то! А я, брат, видел не однажды, и гнев его на меня был обращен. У меня, брат, до сих пор, как вспомню, в шее трясение делается...
Князь рассказывал, как за двадцать лет службы не мог он подняться выше унтер-лейтенантского чина. А ведь он участвовал в четырех морских сражениях и сделал несколько морских кампаний. И в голландском флоте служил для обучения навигации и в Ост-Индии бывал.
– А дома у меня был раздор, – говорил князь. – Батюшка помер, братец сводный, от первой его жены, все именье к рукам прибрал, матушке одна деревенька в полсотни душ осталась, а у меня одно мое унтер-лейтенантское жалование. И вот ныне, при государыне нашей Анне Иоанновне, получил я судно, получил и чин лейтенанта майорского ранга. Ужли же это я тридцатилетней службой своей не выслужил? Сказать правду, судном командовать я опасался с непривычки, но привыкнуть-то я должен был иль нет? И вот на первое время я все больше на немца надеялся. Немцы народ дошлый...
– Напрасно надеялись, – не выдержал мичман.
Князь, каясь и снова плача, описал свое отчаяние, когда вчера он понял непоправимость случившегося. Ужасно было думать, что после тридцати лет службы (плохой ли, хороший ли он был служака, но эти тридцать лет не вычеркнешь) он должен быть опозорен, подвергнут казни. И вот он решился утаить червонцы, чтобы откупиться от чиновников аудиториата[111], хоть от смерти спастись, если уж не избежать позора... Он клялся, что действовал, как во сне, в бреду, что он болен уже несколько дней...
Князь упал на колени перед мичманом и стал целовать его руки, обливая их слезами и умоляя спасти его, снять позорное пятно с их родового имени. Он обещал вернуть деньги до последнего червонца, только бы мичман помог ему оправдаться перед судом.
Гвоздев вскочил. Двадцатилетний мичман почувствовал ужасное смятение при виде старого и больного офицера, своего капитана, валяющегося у него в ногах.
– Встаньте, встаньте! – вскрикнул он, помогая Борода-Капустину подняться и усаживая его на койку.
Тот рыдал, хрипя и задыхаясь.
– Сколько денег вам удалось взять из шкатулки? – спросил мичман.
– Не знаю... Сам не знаю. Набил карманы, а сколько – не знаю, – всхлипывая, отвечал командир.
– Давайте сочтем, свяжем в парусиновый пакет, запечатаем и спрячем до утра, а утром при всей команде составим на них ведомость. Я скажу, что не смогли вчера этого сделать по болезни. Об остальном обещаю вам молчать.
– А матросы?
– И матросы тоже будут молчать.
Князь после мучительного раздумья согласился. Сняв наконец свой все еще не просохший кафтан, он взял его за полы, потряс над койкой – и золотые струи, мелодично звеня, полились из обоих карманов на одеяло. Сразу будто бы посветлело в палатке от жаркого блеска червонцев. Князь выгреб остатки рукою и протянул кафтан мичману, чтобы он проверил. Мичман отказался жестом, но пристально посмотрел на капитана. Тот помялся, но затем достал по горсти червонцев из карманчиков камзола.
– Все! – сказал он хрипло и тяжело опустился на койку мичмана, дрожа от озноба, не в силах оторвать взгляда от груды золота. Трудно было представить себе, что эта жарко блестящая груда могла уместиться в карманах его кафтана. Здесь оказалось двести восемьдесят семь червонцев.
– Значит, двадцать три осталось в шкатулке... не влезли, – меланхолически отметил князь.
Упаковав деньги, тщательно перевязав их бечевкой, мичман сделал печати из свечного воска, и они оба приложили к этим печатям свои перстни. После этого капитан смог наконец сбросить с себя мокрую одежду и согреться под одеялами.
Оба улеглись, но мичман долго еще не мог заснуть. Новую, еще более трудную задачу поставил он перед собой. Как поступить? Он мог без всякого подлога и подтасовки фактов помочь капитану избежать страшной ответственности за гибель судна. Мог и погубить его.
Еще несколько часов тому назад, когда он пришел к выводу, что капитан, виновный в гибели бригантины, утаил вдобавок казенные деньги, он, не колеблясь, способствовал бы его осуждению. Но сейчас, когда он выслушал трагическую историю жизни этого жалкого человека, когда он видел его слезы и искреннее раскаяние, когда князь без борьбы вернул червонцы, решимость мичмана поколебалась.
«Ведь, в сущности, для этого несчастного все тридцать лет службы были наказанием, каторгой, – думал мичман. – Он стар, уйдет из флота. Вреда он больше принести не может, а сделанного не воротишь, погибших не воскресишь, даже если и погубишь этого старика. Не правильнее ли будет отпустить его в деревню доживать свой век? Ведь настоящий виновник гибели судна Пеппергорн, это ясно».
В вахтенном журнале за позавчерашний день и вчерашнее утро были записи о том, что капитан болен. Это была истинная правда. Он хворал с похмелья. Во время крушения он оставался на гибнущем судне до последней минуты, несмотря на болезнь, уже подлинную. Корабельную казну он спас (никто не будет знать, что он вернул деньги под давлением). Все это может очень смягчить приговор, если не послужит к полному оправданию.
Мичман заснул, так и не решив, как он поступит.
7. ДУША КОРАБЛЯ
На рассвете пришли из деревни отдохнувшие матросы. Возле флагштока была расчищена площадка – «палуба», и мичман установил обычный судовой распорядок дня. Море утихало, и в розоватом свете раннего утра мичман и матросы увидели среди лениво катящихся волн разбитый корпус «Принцессы Анны», возвышавшийся над жемчужным морем темными ребристыми обломками.
Мичман, посоветовавшись с командой, решил спасти груз: пушки и те из артиллерийских припасов, которые еще могли быть годны к употреблению.
Сделали небольшой плот, и на нем Ермаков, Маметкул, Петров и еще два матроса добрались вместе с самим Гвоздевым до бригантины через волны, которые, утеряв свою вчерашнюю ярость, уже не были опасны для моряков. Они осмотрели судно и решили, что попытаются спасти все, что уцелело, вплоть до корпуса, который надо будет разобрать.
Следовало только поторопиться, потому что лето было на исходе и погода становилась неустойчивой. Мичман и два матроса вернулись на берег, а Ермаков с товарищами остался на бригантине налаживать подъемные устройства для погрузки из трюма на плоты тяжелых фрегатских пушек.
Отдав приказание строить плоты и рассказав, как именно они должны быть сделаны, мичман прошел к князю, совершенно больному, находившемуся почти в беспамятстве. Однако все формальности по передаче денег были закончены. Устроив возле флага денежный ящик, мичман вручил его под охрану часовому и распорядился доставить Борода-Капустина в деревню, где его поместил у себя Густ.
Уже к вечеру князь потерял сознание и метался в постели, сгорая от жестокой простуды. Мать Густа лечила его настоями трав и горячим молоком с медом.
Между тем все моряки бригантины и сам мичман трудились не покладая рук.
Пожилой сутулый матрос, в рубашке с оторванным рукавом – Нефедов, умевший плотничать, и еще несколько человек были отряжены Гвоздевым на устройство навесов и амбара для спасенного имущества. Построить их мичман решил на покатом склоне мыса Люзе, обращенном к внутренней части острова.
Началась авральная работа. Мичман и все матросы трудились с рассвета до полной темноты, торопясь до наступления нового шторма вывезти на берег все, что только возможно.
В эти дни, работая плечом к плечу со своими людьми, мичман незаметным для себя образом очень тесно сблизился с ними. Вместе с матросами и наравне с ними он работал топором и ломом, вместе с ними ел из одного котла.
При разгрузке и разборке судна перед мичманом и его командою часто вставали сложные вопросы, которые они решали сообща, и мичман восхищался ловкостью и изобретательностью матросов. Он испытывал огромное удовольствие, когда кто-либо из работающих вместе с ним говорил:
– Ай да Аникита Тимофеич, ловок ты, брат, топором работать! Золотые у тебя руки!
Или:
– Вот тебе и барин, наш-то мичман! На любую работу мастер.
Иногда Гвоздеву приходило в голову, что все было бы иначе, будь здесь Пеппергорн или еще какой-либо офицер из курляндцев, которые во множестве поналезли сейчас в русскую службу. При них, пожалуй, он постыдился бы отдирать ломом обшивные доски от дубовых кокор бригантины, вот так, в одних штанах да в посеревшей от пота рубашке, рядом с каким-нибудь оборванным матросом второй статьи, или налаживать вместе с Ермаковым полиспаст для подъема пушек из затопленного трюма. В нынешнее царствование от офицера требовалось умение носить парик, шпагу да построже держать матросов, а работать на судне «своеручно», как бывало при Петре Великом, считалось зазорным.
Наступил наконец день, когда больше нечего было свозить на берег и вся команда была обращена на переноску грузов под навесы и в амбар, устроенный Нефедовым. Почти все имущество, кроме трех пушек с бригантины, которые затерялись в песке под водою, находилось на берегу. Следовало подумать, как получше сохранить все это.
Мичман был уверен, что ранее будущего года ничего не удастся отсюда вывезти пока они доберутся до ближайшего порта – Ревеля, наступит зима. Думать, что здесь в скором времени появится какой-либо русский корабль, было неверно. Остров Гоольс находится в стороне от обычных корабельных путей
В полдень, когда команда обедала, мичман поднялся по полотому скату мыса почти к самой его вершине. Он сел на нагретый солнцем валун. Пониже видна была площадка, которую он в первый день после крушения выбрал для устройства склада, сейчас там, как муравьи в развороченном муравейнике, копошились матросы.
Солнце еще припекало, но легкий ветерок, овевавший исхудалое и загоревшее лицо мичмана, нет-нет да и приносил холодные по-осеннему струйки.
Обширный вид открывался перед Гвоздевым. Просторы белесовато-голубого моря с трех сторон занимали весь горизонт, а прямо перед собой мичман мог обозреть с высоты почти весь остров Гоольс.
За грядою дюн, поросших корявыми соснами, виднелись перелески и возделанные поля, по которым пробегали тени редких облаков. В купе зелени, уже тронутой осенним золотом, краснели кровли деревушки. Вправо уходила излучина берега, белели пески отмелей, обнимая блеклую голубизну открытого залива. На белом песке чернели груды обломков «Принцессы Анны», ряды пушек, штабеля ящиков и бочонков. На одной из дюн, обрамлявших пески, виднелись четыре креста над свежими могилами погибших моряков.
Внизу на склоне мичман увидел Ермакова и Маметкула. Он окликнул их, и друзья поднялись к нему ходкой матросской побежкой.
– Садитесь, братцы, – сказал мичман. – Мне надо с вами потолковать.
Матросы позамялись, но мичман прикрикнул, и оба уселись на траву.
Высокий чернокудрый Ермаков сорвал травинку и покусывал ее, вопросительно глядя на Гвоздева, а широколицый, бронзово-загорелый Маметкул, присев по-татарски на пятки, стал набивать трубочку-носогрейку.
– Дело близится к концу, ребята, – сказал мичман. – Скоро нам можно будет отсюда уезжать, да только мне надо оставить при корабельном имуществе надежный караул.
– Конечно, – быстро проговорил Маметкул. – Нельзя без караула столько добра оставлять.
– Думал я, думал, – продолжал мичман, – и надумал, что надежнее вас с Ермаковым мне людей не найти. Тут ведь не просто вещи караулить. Неизвестно, сколько придется прожить здесь в ожидании судна. Может, год, а может, и два. Сейчас у нас мир, но надолго ли? Да и мало ли на свете лихих людей, охотников до чужого добра? Нужно все время быть настороже. Старший по команде должен смотреть, чтобы дисциплина и порядок не упали, чтобы люди были здоровы и заняты полезной работой, чтобы все грузы были в целости и сохранности, пушки не ржавели, паруса не гнили. И вести себя люди должны так, чтобы перед здешними жителями отечества своего не осрамить. Я решил так: Ермаков будет за старшего, ты, Маметкул, вроде помощника, а остальных пятерых назовите мне сами. Всего думаю оставить здесь семь душ.