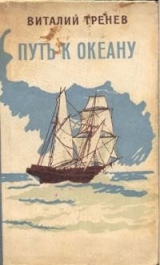
Текст книги "Путь к океану (сборник)"
Автор книги: Виталий Тренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Усов задумался, почесывая затылок. Удалов молчал. Лицо его было сурово, голубые глаза сосредоточенно глядели в палубу. Он тряхнул головою и глянул на товарищей.
– Вот оно как... Вроде на мертвом якоре... Я так считаю – себя не жалеть, перед врагом не страмиться, против своих не идти, лучше в петлю. Так?
Ребята молчали, но молчание это красноречивей всяких слов говорило об их решимости. Удалов трудно перевел дух, облизнул губы и сказал тихо и застенчиво:
– Ежели помирать надо, я желаю первый пример дать...
В одно сумрачное утро, как только развеялся туман, с борта увидели еще далекие, чуть отделяющиеся от моря очертания камчатских гор.
На судне пробили пробную боевую тревогу и тут же дали отбой; люди были отпущены и столпились на баке, глядя на далекие снежные вершины.
Удалов, привалившись к борту, долго смотрел на родную землю, тяжело вздохнул, снял бескозырку, перекрестился и стал проталкиваться от борта. Его пропускали, не обращая на него внимания. Все жадно смотрели вперед. Удалов, никем не замеченный, поднялся по вантам на несколько веревочных ступенек и кинулся за борт.
– Человек за бортом! – закричал вахтенный офицер и, подбежав к краю мостика, бросил в море спасательный круг.
Раздалась команда к повороту и к спуску шлюпки. Вахтенные побежали по местам, свободные от вахты – к подветренному борту. Боцман Усов первым очутился у борта и вцепился в деревянный брус своими корявыми просмоленными пальцами. Тревожно глядел он в стальные волны, отстающие от брига. Вот саженях в двадцати вынырнула белокурая, потемневшая от воды голова Удалова с чубом, прилипшим ко лбу. Все видели, как он перекрестился, поднял руки и ушел под воду, под рассыпавшийся гребень набежавшей волны.
Кто-то толкнул Усова. Старик обернулся – это был Жозеф. Сбросив куртку, он схватился за ванты, собираясь прыгнуть за борт, но боцман положил ему на плечо тяжелую руку и покачал головой.
– Конец... не надо, – тихо сказал он. – Царство тебе небесное, праведная душа! – добавил он и отвернулся, на самые глаза опустив седые брови.
При входе в Авачинскую губу французская команда, заметно подавленная гибелью Удалова, стала по орудиям, а Усов, Попов и Бледных ушли в кубрик. Старший офицер сделал вид, что не замечает нарушения своего приказа.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРЯКОВ С БРИГАНТИНЫ „ПРИНЦЕССА АННА"
(Повесть на основе подлинного происшествия)

1. БРИГАНТИНА В МОРЕ
Двухмачтовая «Принцесса Анна», шедшая из Данцига в Кронштадт, целый день бежала в фордевинд под всеми парусами.
Было пасмурно с утра. Серые осенние тучи, обложившие небо, все темнели и тяжелели, набухая дождем.
К вечеру на западе, за кормою судна, над горизонтом неспокойного моря вдруг образовалась длинная и узкая золотисто-зеленоватая щель. Казалось, что все усиливающийся ветер с напряжением оторвал наконец темный купол туч от края чугунного моря и сдвинул его набок.
Тучи стали еще темнее, а море посветлело. Странно и необычно освещенное низким скользящим светом, оно стало очень просторным, и бригантина, резво бежавшая по волнам туда, где, как бы клубясь, все сгущался сумрак ненастья, казалась в этом огромном и зыбком просторе до жути одинокой.
Вахту правил старший офицер лейтенант Рудольф Пеппергорн. Офицеров было всего три, включая командира судна.
Пеппергорн стоял у поручней на возвышении полуюта тощий и высокий, завернувшись в длинную, до пят, черную епанчу и нахлобучив черную треуголку с серебряным позументом. Соленый упругий ветер полоскал подол епанчи и как бы обивал концы ее о пузатенькие полированные балясины поручней.
Вахта кончалась. Делать было нечего. Давно уже надоели Пеппергорну и серые волны, и тучи, и высоко вверх уходящие двухъярусные, наполненные ветром паруса.
Все надоело Пеппергорну – весь осточертевший ему божий свет, по которому судьба вот уже сорок лет гоняла его, как гонит осенний ветер сухой лист, оторвавшийся от ветки.
До того как поступить в российский флот, Пеппергорн испытывал свое счастье на других кораблях – и на французских, и на голландских, и даже на испанских. Счастья своего он нигде не нашел, но постепенно растерял молодость, силы и превратился в старого, раздражительного и обидчивого морского бродягу без родных, без близких, без отечества.
Пеппергорн всю жизнь проплавал в подчинении. Никогда не испытал он власти самостоятельного командира корабля, и она в конце концов сделалась предметом его самых горячих вожделений. Ему стало казаться, что все дело в том, чтобы перешагнуть этот роковой порог, стать капитаном, – и тогда все повернется по-иному и фортуна сама откроет перед ним ларец своих даров.
В российский флот он поступил в надежде, что здесь мечта его осуществится быстрее, чем где-либо. Однако вот уже много лет он тянет ту же лямку.
На «Принцессе Анне» Пеппергорн служил третий год. Это была большая мореходная бригантина о шестнадцати пушках в батарейной палубе. Она была красива и ничем не походила на те безыменные бригантины, что десятками пеклись на Олонецкой верфи для плавания в шхерах.
Хорошо бы для начала стать командиром этого отличного суденышка! Командовал им лейтенант Пазухин, превосходно вышколивший матросов и державший судно в образцовом порядке. Пеппергорн терпеть не мог Пазухина, да и тот весьма холодно обходился со своим помощником, а дружил с третьим офицером, мичманом Аникитою Гвоздевым.
Три недели тому назад Пазухина свезли на берег в жесточайшей горячке. А Пеппергорн давно уже был на очереди к командирской вакансии. Очень хотелось Пеппергорну, чтобы Пазухин не выздоровел и открыл ему путь. Надежда его сбылась: Пазухин умер на берегу. Но командиром бригантины был назначен старый, толстый лентяй князь Борода-Капустин, который не умел даже сделать толком запись в вахтенный журнал... Пеппергорн же снова остался помощником. Вот что значит не иметь ни денег, ни протекции! От этих неприятных мыслей лицо Пеппергорна стало еще длиннее и две горестные складки глубже пролегли от носа к опущенным углам рта.
– Шквал с подветра! – закричал часовой на марсе.
Пэппергорн вздрогнул и вернулся к действительности. Он отдал команду готовиться к шквалу.
Тяжеловесный боцман, в рубашке, распахнутой на волосатой груди, и в коротких холщовых штанах подгонял линьком матросов, стремительно разбегающихся по местам.
Лихой и отчаянный марсовый Петров первым взбежал по вантам, но под самым марсом оступился, сорвался и полетел вниз. Рулевые ахнули, Пеппергорн сжал кулаки.
Но Петров упал не на палубу, а на ванты; спружинив, они ослабили удар. Он перевернулся в воздухе, еще раз ударился о ванты, ухватился сразу обеими руками за выбленку[103], секунду передохнул, приходя в себя, и снова ринулся наверх, на марса-рею.
Шквал прошумел, пронесся, накренив судно, но не причинил никакого ущерба.
Боцман Иванов просвистал в свою дудку отбой, и подвахтенные матросы сбежали вниз.
Колокол пробил склянки – восемь часов. Наступило время вечерней церемонии – спуска флага.
Пеппергорн отдал команду. Капитон Иванов застегнул на груди рубаху, оправил пояс и засвистал «всех наверх». По палубам затопотали десятки матросских ног; придерживая шпагу, взбежал по крутым ступеням на полуют коренастый молодой офицер в мундире зеленого бутылочного цвета с красными обшлагами и отворотами.
Он поднес два пальца к загибу треуголки и хотел рапортовать, но Пеппергорн, не слушая его рапорта, насупясь, пробормотал:
– К спуску флага... – и закончил фразу неясным бурчанием.
Гвоздев бегом бросился на свое место на шканцах, где под строгим и бдительным присмотром Капитона Иванова уже строилась в два ряда команда. Деревянные ступеньки трапа заскрипели под тяжестью дородного тела, и командир судна, князь Борода-Капустин, ухватясь за поручни, грузно поднялся на полуют. Ветер рванул на нем плащ, растрепал локоны большого парика и попытался сорвать с него треуголку. Князь поплотнее надвинул шляпу, оправил парик. Он принял рапорт Пеппергорна и повернулся лицом к флагу, реявшему в воздухе над завитушками огромного кормового фонаря, откованного затейливо и искусно.
Он отдал честь флагу, и щуплый, широкоротый трубач грянул зорю.
Широкое, сонное лицо князя оживилось и расплылось в неудержимой улыбке. Не торжественность церемонии, не быстрота и четкость, с которою команда приступила к ней, не бодрые звуки сигнала, с удивительным мастерством и ловкостью исполняемого трубачом, радовали князя. Его радовало то, что до боли в печени огорчало Пеппергорна: вот он – и командир судна. Почти тридцать лет тянул он тяжелую лямку младшего офицера – и наконец достиг...
Капитанство было князю в новинку. Нужно сказать прямо, что покойный государь, Петр Великий, не жаловал Митрофана Ильича «за леность, нерадение и неуспех в науках». Он никак не пускал его выше унтер-лейтенантского чина, не считаясь с родовитостью князя, но не давал абшида – отставки, стараясь приучить его к службе. Несколько раз Борода-Капустин имел несчастье ходить в море с царем – и дважды был бит его величеством собственноручно за нерасторопность, за ошибки в командах и незнание навигации. Был бы Петр в живых – никогда не видать Митрофану Ильичу самостоятельного над судном командирства. А сейчас он командует бригантиной и под началом у него два офицера.
Стоя на полуюте своего корабля и слушая зорю, Митрофан Ильич наслаждался сознанием, что здесь он глава и хозяин, как в своей деревне. Выше его нет никого. Захотел – скомандовал и лег в дрейф. Или из пушек выпалить приказал всем бортом. Захотел и... Хотя, впрочем, все надо заносить в шканечный журнал – лагбух, а потом отдавать отчет, почему дрейфовал, вместо того чтобы поспешать по назначению. Да по какому случаю восемь картузов зелья[104] извел на бортовой залп? Почему то, да почему это?
Эх, деревня, деревня, помещичье житие, нет тебя лучше!
Между тем церемония кончилась, флаг медленно спустился с гафеля, и Гвоздев стал принимать вахту от Пеппергорна. Князь Митрофан Ильич прошел на корму и стал смотреть назад, туда, где полоска чистого неба под мрачными тучами, уже не зеленоватая, а золотая, как новенький червонец, сияла над суровым морем. Брр!.. На душе у князя стало неуютно.
За штурвал стал новый рулевой, матрос первой статьи Иван Ермаков, и его подсменный, тоже первой статьи матрос, широколицый Маметкул Урасов, казанский татарин. Пеппергорн повернулся к мичману Гвоздеву.
– Следовать оным курсом, – указав на компас, проворчал он. – Около десяти часов мы обязаны быть на траверз Дагерортского маяка, в пяти милях от кюнста[105], и около полуночи усмотрим маяк Гоолвс на ост-норд-ост. Все есть понятно?
– Все понятно, Рудольф Карлович, – отвечал Гвоздев. – Только, как изволите сами усмотреть, ветер меняется, заходя к норду, и крепчает... Оно и по волне видать... Не взять ли на румб мористее? Здесь при нордовых ветрах течение больно сносит на юг, Рудольф Карлович.
Гвоздев принял на плечи епанчу, принесенную ему вестовым, и стал застегивать пряжку, отворачиваясь от ветра. Бледное длинное лицо Пеппергорна вспыхнуло, как бы озаренное отсветом все ярче разгорающейся щели над морем.
– На деке[106] я вам не есть Рудольф Карлович, а есть господин старший офицер! – крикнул он. – Извольте стать по ордеру, не застегивать при мне пуговицу и не много рассуждать! Приказываю держать оный курс!
– Есть держать оный курс! – сверкнув главами и вытягиваясь, отвечал Гвоздев.
Искоса он свирепо посмотрел на бедного вестового, не вовремя подавшего ему епанчу.
На самом деле Пеппергорн пришел в ярость не потому, что Гвоздев не отдал ему решпекта и осмелился советовать. В поведении мичмана не было ничего необычного. Но давно клокотавшая злость искала выхода, и Пеппергорн рад был всякому поводу поорать. Его точил червь злобной зависти к вечно сонному командиру.
А тучный князь, не подозревая о чувствах своего старшего офицера, стоял возле трапа, ведущего вниз, к дверям его каюты, и не интересовался ни курсом, ни ветром, ни течениями. Он стоял молча в тупой задумчивости и монументально покачивался вместе с бригантиною, словно сделанная для ее украшения простодушным резчиком деревянная статуя.
Боцман Капитон Иванов, вытянувшись, как только мог, стоял подле офицеров в ожидании вечерних распоряжений и «ел глазами» сердитое начальство. Пеппергорн, смерив нахмурившегося Гвоздева грозным взглядом, обернулся к боцману:
– Боцман, матросу Петрову двадцать кошек, чтобы другой раз не упадал с марса-реи.
– Есть! – хрипло, с готовностью отвечал боцман.
Пеппергорн помолчал и добавил:
– А тебе после вахты – на два часа под томбуй[107], чтобы учил матросов как следует.
– Есть! – с тою же готовностью отвечал Капитон Иванов.
Пеппергорн почувствовал облегчение, – злость его немного утихла. Склонив голову набок, он подумал и, решив, что все нужные распоряжения сделаны, двинулся было к трапу, но остановился, не смея пройти прежде командира.
Митрофан Ильич между тем решал сложную проблему. В Данциге он – не совсем законно, но с выгодою для себя – принял на судно от одного негоцианта груз с условием доставить его в Кронштадт в адрес другого негоцианта. Этот груз шел как личный багаж князя. Кроме платы, он получил в подарок дюжину бутылок голландской романеи. Но пить в одиночестве было скучно. И теперь Митрофан Ильич раздумывал, не пригласить ли ему в компаньоны длинного сухопарого немца?
Так и не решив вопроса, Митрофан Ильич стал опускаться по заскрипевшим ступенькам трапа, а Пеппергорн, почтительно склонившись, шел сзади, злобно думая: «Хоть бы качнуло посильнее, чтобы ты, толстый боров, грохнулся с лестницы и сломал себе шею...»
Внизу Митрофан Ильич принял наконец решение и, обернувшись, сказал:
– Зайди-ко ты ко мне, Рудольф Карлович... Угощу доброй голландской романеей. Небось продрог на ветру?
Пеппергорн в растерянности остановился. Он собирался завалиться спать до ночной вахты, но понимал, что расходившаяся желчь не даст ему покоя. Голландская романея?.. Предложение было столь же заманчивым, как и неожиданным. Пеппергорн почувствовал, что ненависть его к князю уменьшается пропорционально желанию выпить.
– Ну, идем, идем, – сказал Митрофан Ильич, заметив нерешительность старшего офицера, и с грубоватой веселостью подпихнул его кулаком в бок. В сонных глазах командира мелькнуло что-то вроде искорки юмора. «Ишь ты, раздумывает, тощий немец, а сам небось рад-радешенек на даровщинку-то. Знаем мы вас», – подумал он.
Пеппергорн поднял пальцы к загнутым полям треуголки и, вежливо поклонившись, выразил благодарность за приглашение.
– Ну то-то! – сказал Митрофан Ильич и, открыв дверь в свою каюту, отшатнулся: ему показалось, что она объята пламенем. Сквозь частый переплет рамы вливался в широкое кормовое окно багряный свет заходящего солнца, пробившегося через тучи к чистой полоске над горизонтом.
Судно покачивалось, и багряные блики скользили и двигались по вылощенным переборкам каюты, зеленовато-красными рубинами вспыхивали на стаканах и бутылках, стоявших в гнездах поставца, блистали на стеклах стеклянного шкафчика, перебегали по складкам синего штофного полога над капитанской кроватью и – как бы лужицами пролитого бургундского вина – пятнали синюю же бархатную скатерть на круглом столе посредине каюты.
Эта бурная пляска света наполняла сердце беспричинною радостью. И даже горестные складки на длинном, постном лице Пеппергорна разгладились. А Митрофан Ильич повесил на гвоздик шляпу и плащ, весело закинул на койку длиннокудрый парик, воодушевлено потер грушевидную лысую голову и, потянувшись к поставцу за стаканами и бутылкой, сказал:
– Вот так-то, Рудольф Карлович... Выпьем мы с гобой романеи, и на душе станет веселее. Чать, нам не неделю с тобой плавать, надо друг к другу привыкать. Садись, не мнись – гостем будешь!
Пеппергорн снова чопорно и вежливо поклонился, повесил верхнюю одежду рядом с хозяйской и, пригладив жидкие, длинные дьячковские волосы, связанные черной ленточкой в пучок на затылке, чинно сел на кончик стула: все-таки начальство, что ни говори, надо соблюдать субординацию.
Митрофан Ильич, выпятив от напряжения нижнюю губу и стараясь попасть в лад качке, благополучно налил гостю. Но когда он стал наливать себе, волна, покрупнее других, поддала под корму так, что заскрипели дубовые переборки, и Митрофан Ильич пролил мимо стакана на свою драгоценную скатерть струю густой и липкой романеи. Он крепко выругался, а Пеппергорн озабоченно нахмурился. Не прав ли, однако, был Гвоздев? Он малый толковый. Ветер крепчает, как бы не вылететь с полного хода на пологий берег острова Даго... Но теперь уж амбиция не позволяет менять курс. Надо выждать хотя бы часок...
Блики на переборках вдруг сразу погасли, в каюте потемнело и стало сумрачно. Солнце опустилось в волны.
– Ванька, свечку! – заорал князь и потянулся чокаться со старшим офицером.
2. ДАГЕРОРТСКИЙ МАЯК
Гвоздев, оставшись наконец на полуюте с двумя рулевыми, с облегчением вздохнул.
Он любил бригантину, грустил об умершем командире Сонно-равнодушный Борода-Капустин, заменивший Пазухина, оскорблял его чувства. Гвоздев окинул взглядом опустевшую палубу. Всюду был идеальный порядок. С удовольствием проследил он взглядом за линиями бортов.
Начиная с кормы обводы корабля чуть заметно расширялись и затем плавно закруглялись к носу. Ни у одной бригантины не было таких красивых линий. Гвоздев от удовольствия негромко запел и посмотрел наверх, туда, где ветер свистел в снастях, мощно вздувая паруса.
Там тоже все было в порядке. Хорошо!
Бригантина, покачиваясь, резво бежала, как бы кивая обгоняемым волнам.
Смеркалось. Полоска неба над горизонтом малиново рдела, потом стала червонной, поблекла и, угасая, долго сияла бледно-лимонным золотом где-то далеко за кормою.
Сигнальщик зажег фонари – ходовые и кормовой. Для Гвоздева и рулевых мир сразу сузился, ограничился пределами полуюта, слабо освещенного желтоватым светом кормового фонаря, причудливые очертания которого возвышались над полуютом.
За балясинами перил шумели гребни проносящихся волн, белея в темноте.
На судне все успокоилось на ночь. В жилой палубе, покачиваясь в своих парусиновых гамаках, спали матросы, освещаемые единственным фонарем. В его колеблющемся свете щуплый трубач усердно работал над какою-то сложной деревянной штуковиною, то строгая ее маленьким рубанком, то скобля ножом, то ковыряя каким-то желобчатым инструментом, похожим на нож. Возле него, подперев ладонями подбородок, лежал на животе Петров. Стружки летели ему в лицо, застревая в густых золотистых кудрях, но он не обращал на это внимания. Спина его горела от только что полученных двадцати ударов шестихвостовой кошки, кости ныли от встряски, полученной при падении, но он забывал об этом, с тревогой следя за работой трубача.
Уже несколько дней Петров вытачивал из дерева резную часть правой раковины кормы. Ее ободрал в Данциге какой-то пузатый английский корабль, неосторожно привалившийся к бригантине. Матрос и не надеялся, что капитан или старший офицер пожалуют ему что-либо за труды, но был уверен, что Гвоздев не оставит его без награды. Работал он в свободное от вахты время и больше по ночам. Трубач помогал ему. Сегодня, ободрав ладони о выбленку, Петров не мог работать и, доверив дело трубачу, беспокоился, чтобы тот не испортил удачно начатой работы.
В жилой палубе было душно и даже жарко. А на палубе становилось все неприютнее. Бригантину покачивало сильнее, ветер налетал все более яростными порывами, заходя слева и креня на правый борт «Принцессу Анну».
Гвоздев приказал убавить парусов.
Кутаясь в епанчу, он часто подходил к компасу, сверяясь с курсом, а потом отходил в темноту, к правому борту, и, перегнувшись через поручни, вглядывался во мрак и вслушивался.
Однако чуткое ухо его не улавливало ничего, кроме плеска и шума белых гребней, проносящихся мимо борта. Гвоздеву казалось, что он всем своим телом ощущает, как боковой ветер и волнение сносят бригантину с курса.
– Беспокоится Аникита Тимофеевич, – шепотом сказал Маметкул Ермакову, когда Гвоздев отошел в темноту.
– Дело такое, – быстро отвечал Ермаков. – Тут, брат ты мой, этих камней и банок больше, чем крупы в нашей баланде...
Рулевые понимающе переглянулись. Это были старые товарищи, которым довелось много лет служить вместе на одних и тех же судах. Подружились они после Гренгамской битвы, где во время абордажа корабля «Вахтмайстер» Ермаков спас Маметкула от трех шведских морских солдат, загнавших его в узкий закоулок батарейной палубы.
Ни рулевые, ни мичман не видели, что на баке, над правою скулой бригантины, мрачный Капитон Иванов тоже не отрываясь вглядывается в темноту. Он, как и Гвоздев, нетерпеливо ожидал появления Дагерортского маяка, чтобы узнать, не снесло ли с курса «Принцессу Анну».
Время от времени Гвоздев кричал часовым на бак:
– Вперед смотреть!
И они отвечали ему нестройно:
– Есть вперед смотреть!
Ветер, свистя и завывая, заглушал эти возгласы, относил их в сторону. Иванов после одного такого оклика Гвоздева, как бы решившись на что-то, тяжеловесной побежкой бросился на ют, взбежал по трапу и предстал перед удивленным Гвоздевым.
– Что случилось? – спросил мичман.
– Изволили кликать, – отвечал Иванов.
– Почудилось тебе спросонья. Я часовым кричал, чтобы не спали, – раздраженно сказал Гвоздев и, отвернувшись, пошел к правому борту, чтобы снова всматриваться в темноту.
Но боцман не уходил. Он осторожно, на цыпочках, как бы стесняясь своего присутствия на юте, пошел вслед за Гвоздевым. Решив, что рулевые не могут его услышать, он просительно сказал вполголоса:
– Дозвольте молвить, Аникита Тимофеич
– Ну? – не оборачиваясь, проворчал мичман
– Не прогневайтесь, ваша милость, за дерзость...
– Да говори, что ли! – Гвоздев обернулся к боцману и плотнее надвинул шляпу, которую ветер так и рвал с головы.
– Сносит нас под ветер, больно сносит.
– Без тебя вижу, что сносит, – сумрачно сказал Гвоздев. – Иди-ка, братец, на место.
– Слушаюсь, – отвечал Иванов и, повеселев, насколько это было доступно его мрачной натуре, побежал на бак.
Следовало бы изменить курс бригантины, взять полевее, севернее. Но по уставу Гвоздев без распоряжения старших офицеров не имел права изменить курс бригантины.
В капитанской каюте при свете двух сильно оплывающих от качки свечей Борода-Капустин и Пеппергорн, заедая романею сыром и морскими сухарями, доканчивали вторую бутылку. Оба сильно раскраснелись. Борода-Капустин оживился сильнее прежнего, а Пеппергорн стал еще прямее, но углы рта его еще более обиженно, чем всегда, опустились, а глаза превратились в узенькие щелочки.
– Вот и на поди, – говорил Борода-Капустин, отирая с лысины пот. – Тридцать лет служу, а что выслужил? Почитай, что ничего. За все за тридцать лет хоть бы деревнишку пожаловали. А?
– Я получал в одна тысяча семьсот двадцать первом году в один год двести гульденов, – мямлил Пеппергорн, – а сейчас я опьять получаю...
– Подожди! Что я говорю?.. Я говорю вот что... – перебил его Борода-Капустин. – Вот почему Мишка Напенин командует фрегатом, а я бригантиною? Мишка – человечишка самый худородный, а вон куда вышел... Это как понимать? Почему, скажем, Мишка на фрегате послан отвозить тело покойного голштинского герцога, а я должен на своей посудине везти тридцать пушек фрегатских?
– А в чем же вы усматриваете тут преферанс господина капитана Непенина перед вами? – недоумевая, спросил Пеппергорн. – Чем покойник лучше пушек?
– Как чем?! – закричал Митрофан Ильич так яростно, что Пеппергорн испуганно спрятал под стул свои длинные ноги. – Как это чем?! Да он, Мишка, покойника везет какого ранга? Какие особы его сопровождают? С кем он за стол садится? То-то! А я вот с тобою романею должен пить да твои глупые разговоры слушать...
Сидя друг против друга, два старых моряка уже около двух часов мололи что-то нудное об окладах и служебных неприятностях, о несправедливостях начальства, о неудобствах и тяготах морской жизни (в то время, как никакой другой жизни, в сущности, они не знали и не помнили за давностью лет). А у каждого позади были десятилетия, полные удивительных приключений. Оба были участниками выдающихся исторических событий. Но они прошли мимо них, словно ведомые на поводу вьючные клячи, не удосужившись поднять глаза и окинуть взором все величие совершающегося.
Стук в дверь прервал разглагольствование князя: вестовой, посланный Гвоздевым, просил собутыльников подняться наверх.
Оба опомнились и слегка оробели. Устав строжайше запрещал пьянство во время морских походов.
Капитан и его помощник посмотрели друг на друга недоверчиво и с тревогою. Но тут же и успокоились. Оба были виноваты и доносить один на другого не могли. Стали торопливо одеваться.
– Ну, сам посуди, Рудольф Карлович, – хныкал Борода-Капустин, – ночь-полночь, болен ли, здоров, – полезай на палубу, мокни, мерзни, погибай. Каторга, а не жизнь. Легкое ли дело? А ведь я князь. Я ведь по сану своему и титулу в боярской думе с царем должен сидеть... – Бригантину качнуло, и князь стукнулся лбом о шкаф. – Вот! Видел? И так я, как горошина в стручке, тридцать лет тилипаюсь, черт меня трясет...
Но встревоженный Пеппергорн не был склонен слушать причитания князя. Он торопливо нахлобучил ему парик, подал шляпу и епанчу и, подталкивая в спину, погнал наверх.
Мрак, холод, вой ветра и шум волн встретили их на палубе. Князь кряхтя полез на полуют, оробев и думая:
«Вот и достиг капитанства... Что делать? Не знаю. Темно, страшно. Авось немец выручит».
На полуюте, попав в круг зыбкого света фонаря и увидев спокойного Гвоздева в низко надвинутой шляпе и развевающемся плаще, князь немного приободрился. Качало так сильно, что оба захмелевших собутыльника должны были крепко держаться за поручни.
– Леера[108] протянуть! – проворчал Пеппергорн.
– Уже исполнено, господин старший офицер! – подчеркнуто официально сказал Гвоздев.
Он доложил о силе и направлении ветра и просил разрешения изменить курс, потому что бригантину, несомненно, сносит на юг.
Князь слушал с важным видом, но плохо понимая, в чем дело: романея, качка, ветер и тьма совсем затуманили его мозги.
– Говори яснее, – сердито сказал он Гвоздеву. – Чего ты хочешь?
Гвоздев объяснил, что он полагает безопасным вот такой-то курс. Князь тупо задумался.
Пеппергорн, почтительно склоняясь в сторону командира, возразил. Он находил достаточным уклониться к северу на полрумба.
– Правильно, – хрипло сказал князь, не дослушав доводов Пеппергорна. – Действуй, Гвоздев! Немец, брат, не глупее тебя. Все! Пошли вниз!
И он направился в свою каюту. Гвоздев отвел Пеппергорна в сторону и попытался доказать, что этот курс небезопасен. Но лейтенант заупрямился, и Гвоздев с досадою должен был подчиниться ему.
Когда Пеппергорн ушел поспать перед вахтою, Гвоздев вызвал на полуют Иванова и, приказав ему самому смотреть вперед в оба, велел сменять часовых через каждые полчаса, чтобы не притупилось их зрение.
И вот снова во мраке и свисте ветра он остался на полуюте с двумя рулевыми, которые уже с усилием вертели штурвал, настолько увеличилось волнение.
Вскоре после этого почти одновременно часовой, боцман и Гвоздев увидали огонек не справа, как ожидали, а прямо по курсу.
В то время как боцман и часовые кричали: «Огонь по курсу!» – Гвоздев уже отдавал команду к левому повороту. Стараясь удалиться от опасного берега, Гвоздев вел судно так, что ветер дул ему почти навстречу под острым углом.
Тщательно наблюдая за огоньком (теперь можно было быть уверенным, что это Дагерортский маяк), Гвоздев убеждался, что волнение и ветер, снося бригантину, не позволят ей обогнуть мыс Дагерорт, далеко выдвинувшийся на север. Стало ясно, что необходимо отвернуть влево не меньше чем на восемь румбов и, имея ветер уже справа, отойти в море на безопасное расстояние – и только после этого ложиться на прежний курс и огибать мыс Дагерорт с его спасительным маяком. Времени для принятия решения было мало, но по уставу для всех эволюций Гвоздев снова должен был получить разрешение капитана.
Но Гвоздев понимал, что и капитан и Пеппергорн сейчас в таком состоянии, что трудно надеяться на их способность рассуждать здраво. К тому же Пеппергорн упрям и обидчив. Гвоздев решил принять всю ответственность на себя и действовать самостоятельно.
Опытный моряк боцман Иванов, правильно оценивая опасность положения, нетерпеливо ждал команды и с облегчением вздохнул, когда Гвоздев громко и протяжно прокричал с полуюта:
– По местам! К повороту на оверштаг!
Урасов и Егоров напряженно завертели штурвал, и далекий огонек, светивший над волнами, стал быстро отодвигаться вправо.
Бригантина на несколько мгновений стала против ветра, обвиснувшие паруса заполоскали, громко хлопая, но тут же снова наполнились, и бригантина, кренясь уже на левый борт, ходко пошла в море, оставляя мыс Дагерорт вправо и позади. Стоя на полуюте бригантины, уходящей в бушующее море, Гвоздев с острым чувством грусти смотрел на далекий огонек маяка. Там была твердая земля, теплый дом, уютная постель, а здесь – ветер, мрак, раскачивающаяся палуба и соленые брызги волн.
«Принцесса Анна» на этот раз благополучно избежала опасности.
В полночь сменилась вахта. Пеппергорн проспал смену. Гвоздев решил его не будить и остался вместо него на вахте, радуясь, что упрямый, да еще и подвыпивший немец не помешает ему выполнить маневр, необходимый для спасения судна и людей.
Пеппергорн, спавший очень беспокойно, проснулся за час до окончания своей вахты. Убедившись в том, что он проспал, Пеппергорн очень взволновался. Что-что, а такой случай с ним произошел впервые в жизни. Он заподозрил, что этот мальчишка Гвоздев, подававший ему вчера непрошеные советы, нарочно простоял за него вахту, чтобы опорочить его в глазах команды.
В ярости Пеппергорн поднялся на полуют. Здесь гнев его дошел до предела, когда он увидел, что судно идет не тем курсом, который был им указан Гвоздеву. На беду, несмотря на романею, Пеппергорн хорошо помнил заданный курс.
– Так?! Мальчишка! Я тридцать лет море, я плавал Ост-Индия, Вест-Индия и Малайский архипелаг, а ты будешь менять мне курс!
– Господин старший офицер, – говорил Гвоздев Пеппергорну, – я вовсе не хотел вас обидеть, извольте прочесть вахтенный журнал, и вы увидите причину...
– Я покажу тебе причину! Под арест! Боцман, в карцер его! Извольте отдать мне шпагу, вы пойдете под суд! Я вам покажу, как оскорблять старый заслуженный офицер!
Пеппергорн слышать не хотел никаких оправданий, он топал ногами и чуть не плакал от ярости и обиды.
Видя, что всякие возражения при таком состоянии Пеппергорна бесполезны, Гвоздев тяжело вздохнул, отстегнул шпагу и отдал ее Пеппергорну. Боцман Иванов уже ждал его с ключами от арестантской каюты.








