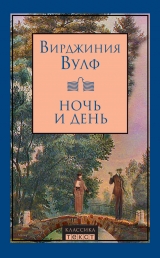
Текст книги "Ночь и день"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Кэтрин и Денем молчали, разглядывая обитателей клеток: какое-то время это заменяло им разговор.
– Что вы делали со времени нашей последней встречи? – наконец спросил Ральф.
– Что делала? – Она задумалась. – Ходила туда-сюда, от одного дома к другому. Интересно, эти звери – они счастливы? – произнесла она, остановившись перед бурым медведем, меланхолично игравшим кисточкой, вероятно, от дамского солнечного зонтика.
– Боюсь, Родни не очень доволен, что я пришел, – заметил Ральф.
– Ничего, он скоро успокоится, – ответила Кэтрин. Она произнесла это с вызовом, и Ральф удивился. Потом, наверное, она объяснит ему, что имела в виду, но он не будет настаивать. Сейчас казалось, что каждое мгновенье само по себе бесценно и ни к чему добавлять новые краски объяснениями – хоть мрачные, хоть светлые, одалживаясь у будущего.
– Медведи, похоже, счастливы, – сказал он. – Однако надо их чем-нибудь угостить. Вон продают булочки. Давайте купим и принесем сюда.
И они пошли к прилавку, на котором лежали бумажные пакетики, набитые съестным, достали по шиллингу и протянули молодой женщине, которая сначала не поняла, кто покупатель: юная леди или джентльмен, но, чуть подумав, все же решила, что платит мужчина.
– Я заплачу, – безапелляционно произнес Ральф, отказавшись взять предложенную Кэтрин монету. – У меня есть на это причины, – добавил он, заметив ее улыбку.
– Полагаю, у вас на все есть причины, – согласилась она, разламывая булочку и бросая куски в медвежьи пасти, – но мне не кажется, что на этот раз вы хорошо подумали. Так что за причина?
Он не стал отвечать. Не мог же он объяснить ей, что сознательно отдает в ее руки свое счастье и, даже понимая, что это нелепо, готов высыпать на этот пылающий жертвенник все, что имеет, не только золото и серебро. Ему хотелось сохранить дистанцию между ними – дистанцию, которая отделяет верного служителя от образа, помещенного в святилище.
Благодаря случаю это оказалось сделать легче, чем если бы они сидели, например, в гостиной и их разделял чайный поднос. Он видел ее на фоне бледных гротов и узких нор, верблюды косились на нее из-под тяжелых век, придирчиво глядели меланхоличные жирафы, слоны хоботами в розоватых морщинках брали кусочки булки из ее протянутых рук. Потом были террариумы. Он смотрел, как она склоняется над питоном, кольцами свернувшимся на песке, или рассматривает коричневую скалу над затхлой водой крокодильего пруда, или изучает крошечный участок тропического леса, пытаясь различить золотистый глаз ящерки или колышущиеся бока голубых лягушек. И особенно ясно видел он ее на фоне темно-зеленой воды, где эскадры серебристых рыбок безостановочно носились туда-сюда и какая-нибудь застывала на миг, прижавшись к стеклу искривленным ртом, тараща глаза и пошевеливая султанами плавников. А потом был инсектарий, где она поднимала жалюзи на маленьких оконцах и с восхищением показывала на яркие, в малиновых кругах, крылья недавно появившейся на свет и еще полусонной бабочки, или на неподвижных гусениц, похожих на узловатую веточку дерева с бледной корой, или на юрких зеленых змей, трогающих стекло дрожащими раздвоенными языками. Жаркий воздух и тяжкий, густой запах цветов, плавающих на поверхности воды или торчащих из огромных терракотовых ваз, разнообразие причудливых узоров и странных очертаний – все это создавало атмосферу, в которой человек бледнел и умолкал.
Открыв дверь павильона, откуда доносился передразнивающий и вовсе не веселый смех обезьянок, они обнаружили там Уильяма и Кассандру. Уильям пытался заставить одну упрямую зверушку спуститься с верхней жердочки и взять у него половинку яблока. Кассандра своим довольно тонким и звонким голосом зачитывала информацию на табличке о том, что это животное скрытное и ведет преимущественно ночной образ жизни. Увидев Кэтрин, она воскликнула:
– Ну наконец-то! Скажи, пожалуйста, Уильяму, чтобы он перестал мучить эту несчастную мадагаскарскую руконожку.
– А мы думаем: куда вы пропали? – сказал Уильям.
Он придирчивым взглядом окинул вошедших, отметил немодный костюм Денема, но, не найдя других поводов для упреков, промолчал. Однако Кэтрин успела заметить и этот взгляд, и слегка скривившиеся в усмешке губы.
– Уильям не слишком любит животных, – сказала она. – Он не знает, что им нравится, а что нет.
– Зато вы, Денем, в таких делах специалист, насколько я знаю, – сказал Родни, но все же убрал подальше от клетки руку с яблоком.
– Тут главное – знать, как их успокоить, – ответил Денем.
– А где можно посмотреть на рептилий? – спросила у него Кассандра, но не оттого, что ей так уж нужны были эти рептилии: она почувствовала, что пора переменить тему.
Денем стал объяснять ей дорогу, а Кэтрин с Уильямом пошли вдоль клеток.
– Надеюсь, ты неплохо проводишь время, – сказал Уильям.
– Мне нравится Ральф Денем, – ответила она.
– Ça se voit [77] , – ответил Уильям с наигранной светской небрежностью.
Его следовало бы поставить на место, и в другое время Кэтрин не замедлила бы это сделать, но сейчас ей не хотелось ссориться, поэтому она лишь поинтересовалась:
– К чаю вернетесь?
– Мы с Кассандрой думали выпить чаю в маленьком кафе в Портленд-Плейс, – ответил он. – Не знаю, захотите ли вы с Денемом к нам присоединиться.
– Я спрошу его, – сказала она и обернулась к Денему. Но он и Кассандра уже вновь приникли к вольеру с обезьянкой.
Какое-то время Уильям и Кэтрин наблюдали за ними, каждый удивляясь выбору другого. Но, остановив потом взгляд на Кассандре, чью элегантность теперь подчеркивала работа лондонских модисток, Уильям резко сказал:
– Если ты пойдешь, то, надеюсь, постараешься меня не высмеивать.
– Раз ты этого боишься, я, разумеется, не пойду, – ответила Кэтрин.
Они глядели на огромный главный вольер с обезьянами, и в эту минуту, обиженная на Уильяма, она мысленно сравнила его с вон той несчастной обезьянкой-мизантропом на дальней жердочке, которая была похожа на скомканную старую шаль и подозрительно косилась на своих товарок. Чаша терпения грозила вот-вот переполниться. События последней недели забрали у нее остатки сил. На нее вдруг нахлынуло чувство, которое, вероятно, испытывают представители обоего пола, когда близкий тебе человек вдруг предстает в самом черном свете и связь ним, в такие минуты кажущаяся особенно тягостной и унизительной, душит, как петля на шее. Суровые требования Уильяма вместе с его ревностью сбросили ее в такую пучину собственного «я», где все еще кипит первобытная борьба между мужчиной и женщиной.
– Тебе, наверно, нравится меня мучить, – продолжал Уильям. – Ну к чему было говорить, что я не люблю животных? – При этом он водил тросточкой по прутьям клетки, и противное металлическое бряканье, словно аккомпанемент его словам, было особенно неприятно для раздраженных нервов Кэтрин.
– Но это правда. Ты никогда не замечаешь, что чувствуют другие, – сказала она. – Ты ни о ком не думаешь, кроме себя.
– Это неправда, – сказал Уильям.
Звон железных прутьев между тем переполошил обезьянок. То ли чтобы их успокоить, то ли жалея их, он протянул им все ту же половинку яблока.
Этот комичный жест, за которым явно угадывалось желание подольститься, до того соответствовал его образу, который в последнее время рисовала себе Кэтрин, что она засмеялась. Уильям побагровел. Если бы она рассердилась, он еще мог бы стерпеть, но этот смех… И самое ужасное не то, что она над ним смеялась, а – как смеялась: будто он ей совсем чужой.
– Не понимаю, что тут смешного, – проворчал он и, обернувшись, увидел, что к ним подошла другая пара.
Компания вновь разделилась, Кэтрин и Денем не стали задерживаться у клеток и направились к выходу. Денем чувствовал, что Кэтрин не хочет здесь дольше оставаться, и поспешил ее увести. В ней явно произошла какая-то перемена. И случилось это после того, как она поговорила с Родни: самого разговора он не слышал, но она смеялась. И теперь ему показалось, что она за что-то сердится на него. Она поддерживала беседу, но как-то вяло и, похоже, совсем не слушала, что он отвечал ей. Эта резкая смена настроения поначалу ему не понравилась, но в конце концов он решил, что, может, это и к лучшему. Небо было хмурым, моросил мелкий дождик – сама природа навевала уныние. Все радостное очарование этого дня, все это сказочное волшебство моментально рассеялось. Из всего сонма чувств осталось лишь уважение, которое испытываешь к другу, и он даже обрадовался, когда заметил, что уже предвкушает тот час, когда останется наконец вечером один, в своей комнате. Дивясь столь резкой перемене и радуясь относительной свободе, он придумал дерзкий план, который изгонит навязчивый образ Кэтрин быстрее и надежнее, нежели воздержание. Он пригласит ее к себе домой на чай. Заставит ее пройти сквозь горнило его семейного быта, направит на нее слепящий обличительный свет. Домашние не станут ею восхищаться, и она, в чем он не сомневался, обольет их всех презрением, что тоже пойдет ему на пользу. Ральф решил не церемониться с Кэтрин. Только такие крайние меры, думал он, могут положить конец нелепой страсти, причины напрасных мук. И наверняка со временем его опыт, его открытие, его добытая с боем победа сослужат добрую службу его младшим братьям, окажись они в подобной западне. Он посмотрел на часы и сказал, что сад скоро закрывается.
– Во всяком случае, – добавил он, – я думаю, мы много всего повидали, на сегодня достаточно. Но где же остальные? – И оглянулся через плечо: позади никого не было видно. – Предлагаю их не ждать, – сказал он. – Обойдемся без них. Не поехать ли теперь ко мне, выпьем чаю?
– А почему не ко мне? – спросила она.
– Потому что отсюда рукой подать до Хайгейта, – не задумываясь ответил он.
Она согласилась, хотя не имела ни малейшего понятия, далеко Хайгейт от Риджентс-парка или близко. Она рада была отложить на час-другой собственное появление за чайным столом в Челси. И оба решительно зашагали по извилистым дорожкам Риджентс-парка и далее по оживленным воскресным улочкам к ближайшей станции подземки. Не зная дороги, она следовала за ним, а его молчание было для нее как нельзя кстати, поскольку она все еще злилась на Родни.
Когда они вышли из поезда в еще более серый сумрак Хайгейта, она в первый раз задумалась: а куда, собственно, он ее ведет? Есть ли у него семья или он живет один? Скорее всего, он единственный сын у старой и, вероятно, тяжело больной матери, так ей казалось. И где-то на горизонте, в конце безликой серой улицы, по которой они шли, она представила беленький домик и дряхлую трясущуюся старушку, которая привстанет за столом и залепечет дрожащим голосом что-то насчет «друзей моего сына», и уже готова была спросить у Ральфа, к чему ей готовиться, но он вдруг распахнул одну из бесчисленных деревянных калиток и повел ее по плитчатой дорожке к крыльцу дома в альпийском стиле. И, слушая позвякивание колокольчика за дверью, она, как ни старалась, не могла представить ничего на месте прежней, теперь порушенной, картины.
– Будьте готовы к тому, что все семейство в сборе, – сказал Ральф. – Они по воскресеньям обычно дома. Но потом мы можем пойти в мою комнату.
– Много у вас братьев и сестер? – насторожилась она.
– Шесть или семь, – мрачно ответил он, но в следующую секунду дверь открылась.
Пока Ральф снимал пальто, она разглядела и папоротники в горшках, и фотографии, и портьеры и уловила гул или, скорее, клокотание – судя по звуку, люди говорили наперебой, не слушая друг друга. Ее охватила странная робость. Стараясь держаться позади Денема, она, робея, проследовала за ним в ярко освещенную залу, где в резком, ярком свете газовых ламп сидели за неприбранным столом люди разного возраста. Ральф сразу направился к дальнему концу стола.
– Мама, это мисс Хилбери, – сказал он.
Полная пожилая дама, склонившаяся над едва теплившейся спиртовкой, глянула довольно хмуро и заметила:
– Прошу прощения. Я приняла вас за одну из моих девочек. Дороти, – не меняя интонации, окликнула она прислугу, – нам понадобится еще немного денатурата, если эта штука вообще работает. Вот бы кто-нибудь из вас изобрел хорошую спиртовку… – Она вздохнула, глянула куда-то поверх стола и стала искать среди составленных перед ней приборов две чистые чашки для Денема и Кэтрин.
В ярком свете убожество обстановки особенно бросалось в глаза. Кэтрин поразилась, как в одной комнате можно было собрать столько некрасивых вещей: за огромными складками бурого плюша, с петлями и фестонами, помпончиками и оборочками, видны были книжные полки, забитые учебниками в черных обложках. Тускло-зеленую стену украшали деревянные скрещенные ножны, и всюду, на любом возвышении, торчал из горшка или треснутой чашки какой-нибудь папоротник или дыбился бронзовый конь, сохранявший равновесие только потому, что его круп опирался о пенек. Казалось, воды семейной жизни поднялись и сомкнулись над ее головой, и она погрузилась в молчание.
Наконец миссис Денем отвлеклась от своих чашек и сказала:
– Видите ли, мисс Хилбери, мои дети приходят в разное время, и всем хочется разного. Джонни, если ты поел, отнеси поднос наверх. Чарльз сегодня не встает с постели, сильно простудился. Но что вы хотите? Мальчик вымок до нитки на футбольной площадке. Мы пытались накрыть стол для чая в гостиной, но не вышло…
Мальчик лет шестнадцати, это и был Джонни, при упоминании о чае в гостиной и о необходимости отнести поднос брату насмешливо фыркнул. Но после строгого материнского «Думай, как себя ведешь», – встал и вышел, хлопнув дверью.
– Вот так лучше, – сказала Кэтрин, нарезая свой кусок пирога мелкими ломтиками: ей дали слишком большую порцию.
Она знала, что миссис Денем почувствовала ее критическое отношение. Знала, что, нарезая пирог, лишь подтверждает ее худшие опасения. Судя по тому, как миссис Денем поглядывала на нее, было ясно, что она недоумевает: кто эта молодая женщина и почему Ральф пригласил ее к ним на чай? Напрашивалась одна очевидная причина, до которой миссис Денем к этому времени, вероятно, уже додумалась. Манера хозяйки держаться была хоть и грубоватой, но подчеркнуто учтивой. Она завела разговор о красотах Хайгейта, о том, как он застраивался и каково здесь жить сейчас.
– Когда я только вышла замуж, мисс Хилбери, – сказала она, – Хайгейт был почти сельским уголком, и вокруг этого дома, – вы не поверите! – цвели яблоневые сады. Это было еще до того, как Миддлтоны выстроили перед нами свой дом и загородили вид.
– Должно быть, жить на холме – большое преимущество, – сказала Кэтрин.
Миссис Денем охотно закивала, услышав столь разумное замечание.
– Ну конечно, а ведь какая польза здоровью! – сказала она и, как свойственно жителям окраин, принялась доказывать, что ее район намного здоровее, удобнее и чище, чем все остальные пригороды Лондона. Она говорила об этом с таким напором, что можно было не сомневаться: это мнение разделяют не многие, и даже ее дети с ней не согласны.
– А в кладовке опять потолок обвалился, – выпалила вдруг Эстер, девушка лет восемнадцати.
– Скоро весь дом обвалится, – пробурчал Джеймс.
– Не мели ерунды, – сказала миссис Денем. – Это всего лишь кусок штукатурки – не представляю, какой еще дом выдержит такую орду.
На что ей ответили какой-то семейной шуткой, смысла которой Кэтрин не поняла. Даже миссис Денем невольно рассмеялась, но пожурила рассказчика:
– Чего доброго, мисс Хилбери подумает, что мы тут все невоспитанные.
Мисс Хилбери улыбнулась и покачала головой, чувствуя, что в эту минуту все смотрят на нее, будто заранее готовятся перемыть ей косточки, как только она уйдет. Может, именно из-за этих насмешливых взглядов Кэтрин решила, что семья у Ральфа Денема самая заурядная, неинтересная, лишенная какого бы то ни было шарма, – под стать этой кошмарной мебели и безделушкам. Она глянула на каминную полку, уставленную бронзовыми колесницами, серебряными вазами и фарфоровыми фигурками – все они были чудны́е либо смешные.
И хотя к самому Ральфу это не относилось, при взгляде на него она тоже почувствовала разочарование.
Он не дал себе труда представить ее семье и теперь так увлекся спором с братом, что, по-видимому, даже забыл о ее присутствии. Она рассчитывала, что он поможет ей преодолеть неловкость, поэтому его невнимание к ней, которое жалкая обстановка еще более подчеркивала, заставило ее пожалеть о собственной неосмотрительности. За несколько секунд она вспомнила всю цепь событий, приведших ее сюда, и содрогнулась, до того ей стало стыдно. Она поверила ему, когда он говорил о дружбе. Поверила в то, что за кажущейся неупорядоченностью и нелогичностью жизни есть нечто надежное, немеркнущий внутренний, духовный свет. Теперь этот свет померк, как будто его затушили. Остался неубранный стол с остатками еды и тягостный разговор с миссис Денем – это стало сокрушительным ударом для разума, измученного борьбой, и она погрузилась в печальные размышления о своем одиночестве, о бессмысленности жизни, о неприглядной действительности, об Уильяме Родни, о своей матери и недописанной книге.
Она отвечала миссис Денем небрежно, нисколько не боясь показаться неучтивой, и Ральфу, который украдкой за ней наблюдал, казалась странно далекой, хоть они и сидели так близко. Он посмотрел на нее, собираясь сделать следующий шаг, после которого от глупой страсти не останется и следа. Но в следующий миг наступила тишина. Все притихли, и молчание сидевших вокруг неубранного стола было пугающим: казалось, вот-вот случится что-то ужасное, но никто даже не шелохнулся. Секунду спустя отворилась дверь, послышались радостные возгласы: «Привет, Джоан! А мы все уже съели! Тебе не оставили» – и напряженная обстановка за столом сменилась привычным оживлением. Похоже, Джоан каким-то таинственным образом оказывала благотворное влияние на своих домашних. Она сразу направилась к Кэтрин – будто давно о ней слышала и теперь рада наконец увидеться. Джоан навещала заболевшего родственника – дядю, объяснила она, и потому задержалась. Нет, чаю ей не надо, разве что кусочек хлеба. Кто-то передал ей кусок пирога, который грелся на каминной решетке, Джоан села рядом с матерью, миссис Денем сразу успокоилась, и все принялись есть, будто чаепитие пошло по второму кругу. Эстер рассказала Кэтрин, что готовится к какому-то экзамену, потому что больше всего на свете хочет поехать в Ньюнем [78] .
– Ну-ка просклоняй мне amo – «я люблю», – потребовал Джонни.
– Нет, Джонни, никакого греческого за столом, – одернула его Джоан. – Знаете, мисс Хилбери, она может до утра сидеть над книгами, но я уверена, что так не подготовишься, – пояснила она Кэтрин и улыбнулась доброй и чуть снисходительной улыбкой старшей сестры, для которой младшие братья и сестры все равно что собственные малые дети.
– Надеюсь, Джоан, ты не думаешь, что amo – греческое слово? – спросил Ральф.
– Ой, а я разве сказала, что греческое? Ну да ладно. Никаких древних языков за чаем. Нет, милый, не надо для меня жарить тост…
– А если надумаешь – где-то тут была вилка для тостов… – вмешалась миссис Денем, опасаясь, как бы не испортили бутербродный нож. – Может, кто-нибудь позвонит и попросит принести нам еще один? – неуверенно спросила она. – А что Энн, она приедет посидеть с дядей Джозефом? Если да, тогда им лучше прислать к нам Эми… – И, сгорая от нетерпения узнать о гостях, а заодно дать совет, хотя, судя по ее грустно поджатым губам, у нее было мало надежды, что ее послушают, миссис Денем совершенно забыла о нарядной гостье, которой надо рассказать о прелестях жизни в Хайгейте. Как только Джоан села за стол, завязался спор – Кэтрин оказалась меж дискутирующих сторон, – имеют ли право горлопаны Армии спасения в воскресенье с утра распевать на углу свои гимны, потому что из-за этого Джеймс не может выспаться, и не является ли это попранием прав личности.
– Понимаете, Джеймс как завалится, так и спит без задних ног, – пояснил Джонни специально для Кэтрин, после чего Джеймс зарделся как маков цвет и, обращаясь к ней, воскликнул:
– Да потому что только в воскресенье я и могу выспаться! Джонни вечно возится в кладовке со своими вонючими химикатами.
Они охотно поверяли ей свои маленькие тайны, и она, забыв о пироге, стала смеяться и с неожиданным оживлением присоединилась к общему разговору. Это большое и пестрое семейство оказалось таким дружным и дружественным, хотя все они такие разные, что она готова была простить им безвкусицу и аляповатые горшки. Однако к этому времени пикировка между Джеймсом и Джонни переросла в серьезный спор, по-видимому имевший давнюю историю, поскольку присутствующие разделились на группы – во главе, конечно, был Ральф, – и через некоторое время Кэтрин уже возражала ему, защищая Джонни, который, похоже, слишком горячился, чтобы резонно отстаивать свою точку зрения в споре с братом.
– Да-да, именно это я и хотел сказать. Она правильно поняла! – воскликнул он, после того как Кэтрин повторила его мысль, более точно сформулировав ее.
Теперь исход спора зависел почти исключительно от Кэтрин и Денема. Они пристально смотрели друг на друга, как боксеры на ринге, пытающиеся предугадать следующее движение, и, когда говорил Ральф, Кэтрин сидела, нервно закусив губу, готовая, едва он замолкнет, выдвинуть новый аргумент. Эти двое были под стать друг другу и держались противоположных мнений.
Но в разгар спора, непонятно почему, заскрипели стулья, и один за другим все члены семейства Денема начали вставать и покидать комнату, словно им дали сигнал. Кэтрин не привыкла к строгому распорядку жизни в большой семье. Она замолкла на полуслове и тоже поднялась. Миссис Денем и Джоан стояли у камина, приподняв юбки до щиколоток, и с очень серьезным видом обсуждали что-то, без сомнения, очень важное и личное. Похоже, они забыли о том, что у них гостья. Ральф придержал для нее дверь.
– Хотите, поднимемся в мою комнату? – спросил он.
И Кэтрин, оглянувшись на Джоан, которая ответила ей озабоченной улыбкой, стала подниматься вслед за Ральфом по лестнице.
Мысленно она продолжала спор и, когда, одолев крутой и долгий подъем, он открыл наконец свою дверь, начала без предисловия:
– Стало быть, речь о том, что индивид может настаивать на своем праве против воли государства.
Какое-то время они еще обсуждали эту тему, но паузы между репликами становились все длиннее, рассуждения становились более умозрительными и менее полемичными, и наконец оба замолчали. Теперь Кэтрин вспомнила, что во время спора то Джеймс, то Джонни обменивались короткими фразами и не давали уклониться от темы дискуссии.
– Ваши братья очень умные, – сказала она. – Полагаю, вы часто так спорите?
– Джеймс и Джонни могут говорить часами, – ответил Ральф. – И Эстер тоже, только зайдет речь о елизаветинской драме.
– А маленькая девочка – волосы хвостиком?
– Молли? Ей всего десять лет. Но младшие тоже между собой всегда спорят.
Ему было очень приятно, что Кэтрин так хвалит его братьев и сестер. Ему хотелось побольше рассказать о них, но он вовремя сдержался.
– Понимаю, как трудно вам будет расстаться с ними, – заметила Кэтрин.
И в этот момент он понял, что гордится своей семьей, и мысль о сельском уединении показалась ему нелепой. Потому что этот союз братьев и сестер, общее детство, общие воспоминания как раз и означают надежную, верную дружбу и негласное понимание правил семейной жизни в ее лучших проявлениях, и он представил их всех как команду, которую он возглавляет и которой предстоит трудный, пугающий, но славный поход. И ведь именно Кэтрин открыла ему на это глаза!
В углу комнаты раздался странный щелкающий звук – Кэтрин с испугом обернулась.
– Это грач. Он совсем ручной, – поспешил он успокоить ее. – У него нет одной лапы – кошка откусила. – Денем смотрел на грача, а Кэтрин глядела то на одного, то на другого.
– Значит, вы тут сидите и читаете? – спросила она, оглядывая ряды книг: он сказал ей, что обычно работает здесь по вечерам.
– Большое преимущество Хайгейта в том, что весь Лондон как на ладони. По вечерам из моего окна такой восхитительный вид!
Ему очень хотелось, чтобы Кэтрин сама оценила, и она подошла к окну. На улице было уже довольно темно, и сквозь клубящуюся дымку, желтую от электрических фонарей, она попыталась разглядеть кварталы города, раскинувшегося внизу. Как приятно было наблюдать за ней в эту минуту! Когда Кэтрин наконец обернулась, он по-прежнему сидел в кресле.
– Должно быть, уже поздно, – сказала она. – Мне надо идти.
И присела на ручку кресла, поняв вдруг, что возвращаться домой ей совершенно не хочется. Там Уильям, и он наверняка будет ей досаждать и только все испортит: она опять вспомнила их недавнюю ссору.
Ей показалось, что Ральф стал слишком уж холоден, замкнулся в себе. Он смотрел прямо перед собой – наверное, придумывает в продолжение недавнего спора очередной аргумент в пользу свободы личности, решила Кэтрин. Она молчала и ждала и тоже думала о свободе.
– Вы опять победили, – сказал он наконец, но даже не пошевелился.
– Победила? – удивилась она, полагая, что речь идет о споре.
– Как я жалею, что пригласил вас сюда! – произнес он.
– Я не совсем вас поняла.
– Когда вы здесь, все совсем по-другому: я счастлив. Стоите ли вы у окна, говорите ли о свободе. Когда я увидел вас среди всего этого… – Он умолк.
– Вы подумали, какая я заурядная.
– Я пытался так думать. А оказалось, вы еще более необыкновенная.
Приятная волна – и нежелание дать этой волне ходу – боролись в ее сердце.
Она скользнула в кресло.
– Я думала, вы меня не любите, – сказала она.
– Видит Бог, я пытался, – ответил он. – Старался видеть вас такой, какая вы есть, без всей этой романтической чепухи. Вот почему я зазвал вас сюда, но стало только хуже. Весь вечер я лишь о вас и думал. И всю жизнь буду думать, наверное.
Его страстная речь смутила Кэтрин, она нахмурилась и сказала строго и серьезно:
– Этого я и опасалась. Ничего хорошего, как видите, не получилось. Посмотрите на меня, Ральф. – Он повиновался. – Уверяю вас, я самая обыкновенная и ничего особенного во мне нет. Красота не в счет, она ничего не значит. На самом деле самые красивые женщины, как правило, самые глупые. Я обычная, прозаичная, самая заурядная, я забочусь об ужине, оплачиваю счета, ведаю расходами в доме, я завожу часы и даже не смотрю в сторону книг.
– Вы забываете… – начал он, но она перебила его:
– Вы приходите, видите меня среди цветов и картин – и думаете, что я таинственная, романтичная и все такое. Поскольку вы человек не слишком искушенный и весьма эмоциональный, то идете домой и придумываете сказку про меня, а теперь не можете расстаться с этим выдуманным образом. По-вашему, это любовь, а на самом деле – иллюзия. Все романтики одинаковы, – добавила она. – Моя матушка всю жизнь выдумывает истории о тех, кто ей нравится. Но если от меня что-то зависит, я бы просила вас не поступать так со мной.
– От вас это не зависит, – сказал он.
– Предупреждаю, это порочный путь.
– Или счастливый.
– Вы скоро увидите, что я не такая, как вы обо мне думаете.
– Может быть. Но я приобрету больше, чем потеряю.
– Если приобретение стоит того.
Какое-то время оба молчали.
– Наверное, каждый в свое время это понимает, – сказал он. – Что, вероятно, ничего больше и нет. Ничего, кроме мечты – кроме наших фантазий.
– Поэтому мы одиноки, – задумчиво произнесла она.
Молчание длилось долго.
– Так когда свадьба? – спросил вдруг он, совершенно другим тоном.
– Не раньше сентября, полагаю. Ее перенесли.
– Значит, вы не будете одинокой, – сказал он. – Судя по тому, что люди говорят, брак – ужасно странная вещь. Говорят, это ни на что не похоже. Может, правду говорят. Я знаю пару таких случаев.
Он надеялся, что она продолжит разговор. Но она не отвечала. Он постарался взять себя в руки и говорил спокойно, почти равнодушно, но ее молчание настораживало. Она сама ни за что не заговорит с ним о Родни, и ее сдержанность не позволяла ему понять, что у нее на душе.
– Думаю, свадьба еще очень не скоро, – сказала она, словно желая внести ясность. – Кто-то у них в конторе заболел, и Уильяму придется его замещать. На самом деле мы решили отложить ее на неопределенное время.
– Представляю, каково ему сейчас. Он сильно переживает? – спросил Ральф.
– У него есть работа, – ответила она. – И еще куча вещей, которые его интересуют… Ой, мне это место знакомо – ну конечно, это же Оксфорд! А как ваш сельский домик?
– Я туда уже не еду.
– Как вы переменчивы! – улыбнулась она.
– Дело не в этом, – отмахнулся он. – Просто я хочу быть там, где я могу видеть вас.
– Наш договор остается в силе, несмотря на то что я тут наговорила? – спросила она.
– Что касается меня, то он останется в силе навсегда, – ответил Ральф.
– Значит, вы будете мечтать, и выдумывать обо мне разное, и в уличной толпе представлять нас всадниками в лесу или беднягами на необитаемом острове?..
– Нет, я буду представлять, как вы даете распоряжения кухарке, оплачиваете счета, ведете учет, показываете старушкам семейные реликвии…
– Так-то лучше, – сказала она. – Завтра с утра можете представить, как я изучаю даты в Национальном биографическом словаре [79] .
– И забываете на скамейке сумочку, – добавил Ральф.
Она улыбнулась, но в следующий момент улыбка погасла – то ли ее опечалило это воспоминание, то ли огорчил тон, которым он это сказал. Она бывает рассеянна. И он это видел. Но что еще он видел? Не увидел ли он самого потаенного, так глубоко запрятанного, что даже одна мысль, что кто-то может это увидеть, заставила ее похолодеть? Ее улыбка погасла – в первый миг казалось, она хочет что-то сказать, но она промолчала, лишь посмотрела на него долгим взглядом, вложив в этот взгляд все то, о чем не смела спросить, потом отвернулась и пожелала ему доброй ночи.
Глава XXVIII
Подобно последнему музыкальному аккорду, ощущение присутствия Кэтрин медленно таяло в комнате, где в одиночестве сидел Денем. Музыка отзвучала, оставив лишь затухающий мелодический след. Он напрягся, пытаясь расслышать последние тающие звуки, и какое-то время нежился в волнах воспоминаний, но это убаюкивающее ощущение прошло, и он принялся мерить шагами комнату в такой тоске по исчезнувшей мелодии, словно в его жизни не осталось других желаний. Она ушла, ничего не сказав ему на прощанье, перед ним вдруг развезлась пропасть, в которую канула вся его жизнь, – разбилась о скалы – развеялась прахом. Боль от страдания была почти физической: он побледнел, его колотил озноб, он обессилел, словно после тяжелой физической работы. Наконец Денем бросился в кресло напротив того, в котором сидела она, и стал глядеть на часы, машинально отмечая, как она уходит все дальше и дальше от него, вот она уже дома и сейчас, конечно, снова с Родни. Но он еще не в силах был этого осознать – как не замечал ничего вокруг себя: жажда видеть ее смешала все его эмоции, взбила в пену, в туман из неясных ощущений. В этом тумане он утратил контроль над реальностью и чувствовал себя удивительно далеким от всего, даже от окружающих его материальных объектов вроде стены или окна. Будущее – теперь, когда он наконец постиг всю силу своей страсти, – пугало его.




